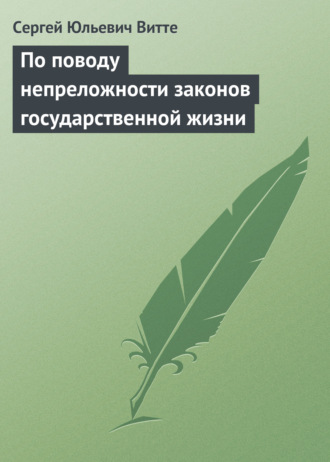
Сергей Юльевич Витте
По поводу непреложности законов государственной жизни
Всеми подобными противоречивыми заявлениями, всей своей так называемой «политикой умиротворения», а вернее, все той же старой политикой «примирения», бывший Министр Внутренних Дел, несомненно, в либеральной части общества пробуждал надежды большие, чем те, которые он мог бы и намерен был удовлетворить, и в то же время возбуждал недоверие в партии консервативной, пред которой скрывал свои действительные предположения и которая придавала поэтому его мероприятиям значение гораздо большее, чем они в действительности имели, видела в них не уклончивую политику, а даже прямую «революцию». Если не считать деятельности анархистов, против которых собственно нужна была только хорошая полиция, то можно думать, что все то «шатание общественной мысли», о котором так много писал в свое время М. Н. Катков, было результатом именно указанной неопределенной политики Правительства.
Положение вопроса о земской реформе после 1 марта 1881 г.
Роковое событие 1 марта немедленно вслед за собой не повлекло существенного изменения во взглядах земцев; наоборот, ходатайства их становятся еще более определенными и более настойчивыми.
Новгородское земство, в мартовской чрезвычайной сессии, «выразило полное свое сочувствие речи Н. Н. Нечаева, который предлагал умолять Государя выслушать свободный голос Русской земли чрез посредство истинных ее представителей и действительных выразителей народных нужд, интересов и задушевных мыслей». Земство следующим образом высказалось в своем адресе: «Мы умоляем дозволить нам стать щитом священной Особы Вашего Величества. Мы умоляем даровать обществу возможность принять участие в борьбе с врагами русского народа и повергаем к стопам Вашего Императорского Величества просьбу выслушать свободный голос русского народа, который уже столько раз давал доказательства своей беспредельной преданности возлюбленному Царю и спасал отечество от постигавших его бедствий»[190].
В том же смысле были представлены адресы и другими общественными собраниями. Адресы Казанской думы и Казанского земства одинаково выражали одну надежду и одни пожелания – «завершение великого дела обновления государства, начатого Царем-Освободителем». Солигаличское уездное собрание выражало желание, чтобы «новое царствование было продолжением великих реформ предшествовавшего»; Тверское губернское собрание, в своем адресе, указывало, что «когда беда поражала отечество, – в непосредственном единении земских людей и Верховной Власти русский Царь и народ всегда приобретали могучую, неодолимую силу». «Царь и народ», – говорило Рязанское земство, – «издревле составляли одно; Августейший Ваш Родитель еще более объединил и оживил Русскую землю. Соберите нас вокруг себя, а мы всегда готовы, по Вашему велению, делить с Вами и труды, и опасности. Верьте, Государь, нашей безграничной Вам преданности, и враги спокойствия, блага, могущества и славы России исчезнут с лица земли».
В других земских собраниях агитация в пользу Земского Собора также шла весьма усиленно, но адресов не представляли. Так, в Таврическом земстве председатель губернской управы В. К. Винберг с некоторыми другими гласными предлагал подачу адреса о созыве народных представителей от всей земли русской, но это предложение было отклонено не потому, чтобы собрание было не согласно с ним по существу, а потому, что оно находило подачу адреса несвоевременной и присоединилось к мнению гласного Щербаня, который просил оказать «кредит (общества правительству) не долгосрочный»[191].
Еще в более резкой форме вопрос о Земском Соборе был поставлен в Самарском земстве. Здесь председателем собрания было внесено предложение о составлении всеподданнейшего адреса с выражением соболезнования по поводу совершившегося события и поздравлением по случаю восшествия на Престол. Предложение вызвало оживленные прения. Гласный Жданов находил данный момент весьма неудобным для подобного адреса. «Мы», сказал он, «в течение этих последних лет послали пять адресов, но все они ни к чему не послужили и ничего в действительности не выражали, ибо все то, что было и есть у нас на душе, оставалось и остается не высказанным». Гласный Наумов тоже воспротивился предложению председателя, говоря, что «слов нет, достойных выразить все, что у нас на душе. Мы не знаем, что нас ждет. К чему пустая формальность… Лучше молчать». Все собрание, исключая трех человек, отклонило предложение об адресе, но вопрос этим не кончился. В том же заседании, по поводу доклада управы о расширении прав земства в деле принятия мер против эпидемий, гласный Жданов заявил, что «находит ходатайство земства по данному вопросу несвоевременным ввиду событий последнего времени; если же ходатайствовать о чем, то не о таких мелочах; пора прямо высказать, что желательно расширение прав земства не по какому-либо отдельному предмету, входящему в область его ведения, а расширение прав народа и участие его, в лице своих представителей, в самоуправлении всей страны». «Мы не для того», продолжал он, «только что приняли присягу, чтобы сейчас обманывать и говорить не то, что думаем и желаем». В дальнейшем прения были прекращены председателем…
Но если событие 1 марта не имело влияния на конституционные стремления земств, то в русском обществе оно, бесспорно, вызвало бурю сомнений и опять выдвинуло решенный или, по крайней мере, казавшийся обществу решенным вопрос «куда и как идти».
Печать консервативная, с М. Н. Катковым во главе, требовала укрепления устоев Самодержавия, твердого Правительства и твердых мер. «Регулирующее действие власти, которое твердый государственный порядок оказывает на умы, дисциплинируя их, нигде не чувствуется», писали «Московские Ведомости»: «Люди в разброде и обращаются в стадо… Нас предостерегают от революции, но надо же сказать правду: мы уже в революции, искусственной и поддельной, но тем не менее, в революции».
За укрепление Самодержавия стояли и славянофилы. «Нечего себя обманывать», говорил 23 марта 1881 г. в «Славянском Обществе» И. С. Аксаков: «Мы подошли к самому краю бездны. Еще шаг в том направлении, в котором с таким преступным легкомыслием мы двигались до сих пор, и кровавый хаос»[192]. Всю ответственность за роковое событие славянофилы возлагали на ту часть общества, которая увлекается идеями ложного западного либерализма и, в частности, на петербургскую бюрократию. «Пора домой», говорили они и как свою политическую программу выставляли сохранение и укрепление Самодержавия при широком развитии местного самоуправления. «Самоуправляющаяся местно Земля с Самодержавным Царем во главе – вот русский политический идеал»[193].
Либеральная часть общества, в лице органов либеральной прессы, продолжала, правда, указывать на путь конституционализма[194], но событие 1 марта, по-видимому, и в ней вызвало реакцию и поколебало уверенность в возможности скорого осуществления ее идеалов. Это новое течение в ее взглядах всего лучше выразилось в трех документах, пущенных в обращение как докладные записки, поданные будто бы гр. Лорис-Меликову маркизом Велепольским, проф. Чичериным и проф. Градовским[195].
Все три записки указывают на необходимость сохранения и укрепления Самодержавия; две из них рекомендуют даже репрессивные меры, но, параллельно с этим, стараются доказать всю целесообразность развития начал децентрализации и местного самоуправления, существенную пользу для самой верховной власти даже при законодательных работах в той или другой форме прислушиваться к мнению представителей общества[196].
Записка под именем маркиза Велепольского от 6 марта 1881 г., написанная на французском языке, начинается указанием, что внутренняя политика последних лет, политика, состоявшая больше в приспособлении к обстоятельствам, нежели в проведении монархических принципов, отличалась отсутствием гармонии и последовательности. «История всех заговоров», продолжает далее записка, «как старинных, так и недавних, доказывает, что острые припадки болезни – неудержимое влечение к конституционным вольностям – проявляются по преимуществу в некоторых частях Империи. В виду этого можно сказать, что одна из главнейших опасностей лежит в современной централизации.
Эта централизация содействует заразе, перенося ее зародыши в свободные от нее провинции. Общество местностей, еще не задетых или тронутых в меньшей мере, чувствуя себя политически приниженным, не в силах противопоставить достаточного сопротивления революционным теориям господствующей национальности. Таким образом, представляются одновременно две необходимости: надо, во-первых, остановить распространение этой болезни путем децентрализации, даруя провинциям самоуправление; необходимо, с другой стороны, эмпирическое лечение болезни всюду, где она выступает в остром виде… необходимо нанести скорые и сильные удары (a faut frapper vite et fort)». Высказываясь таким образом за территориальное расширение местного самоуправления, т. е., иначе говоря, за распространение действия земских учреждений на Польшу и Западный край, записка не открывает, однако, что в будущем, при последовательном развитии начал, ею рекомендуемых, придется придти к конституции: «Неограниченность Верховной Власти», говорится далее, «можно сохранить до того момента, когда различные народности Империи почувствуют солидарность и вступят во взаимное равновесие, благодаря практике свободных учреждений в пределах соответствующих областей и провинций.
Только тогда они способны будут трудиться с успехом в стенах центрального парламента над развитием благосостояния всей Империи».
Записка, приписываемая проф. Чичерину, подходит к вопросу с другой стороны, посредством иного приема. Она начинает с порицания тех, кто высказывается за созвание народного представительства. «Те, которые вслед за катастрофой заговорили о свободных учреждениях, забыли, что власти необходимо прежде всего показать свою энергию, доказать, что она не свернула своего знамени перед угрозою. Монархический порядок совместен со свободными учреждениями лишь тогда, когда они являются плодом мирного развития, спокойной инициативы самой Верховной Власти… Против организованной революции должна стоять крепкая правительственная власть; организации можно противопоставить только организацию. Именно ее-то и нет в нынешнем государственном управлении; в нем нет ни единства руководящей мысли, ни единства действий… При таком отсутствии системы в высшем управлении его частое обращение к земству служит ему малым подспорьем… Никакими циркулярами о взаимном содействии тут помочь нельзя, ибо когда циркуляры создавали единство действий? Единство дается согласием высшей администрации, одинаковостью направления всех министров, которые имеют общую программу и видят в ней свою собственную мысль; но у нас это не только не требуется, но даже считается возможным вверять исполнение политической мысли тем лицам, которые ее не разделяют». Высказавшись, таким образом, за однородность Министерства, записка далее решительно отвергает применимость народного представительства в русской жизни. «В обществе», говорит она, «развилось направление, которое принято называть конституционным. Это слово испугало многих. Понятно, что в отпор этому направлению возникла партия, враждебная всякой перемене, способной будто бы расшатать государственный строй. Указывают на незрелость русского общества, на его неспособность к представительным учреждениям. Если бы дело шло о настоящем народном представительстве, то с этим можно было бы согласиться. Особенно в настоящее время, когда мятежная шайка (едва ли, впрочем, искренно) поставила на своем знамени конституцию, Верховной власти нельзя без ущерба для своего достоинства отвечать на угрозы уступками».
Но отвергнув народное представительство и считая существенно необходимым только однородность Министерства, упомянутая записка приходит в заключение к тому выводу, что «для образования однородного и единого Правительства нужно сближение с обществом… Остается вопрос, в какой форме произойдет это обращение к обществу. Правительство может или вызывать экспертов по выбору земских собраний для рассмотрения отдельных вопросов, или дать выборным лицам участие в законодательных работах Государственного Совета. Очевидно, что для полного переустройства администрации последний способ предпочтительнее. Но если такой шаг был бы признан слишком решительным, то ничто не препятствует начать хотя бы с вызова экспертов по отдельным вопросам, с тем, однако же, чтобы им было предоставлено не давать заключения по отдельным пунктам канцелярских проектов, а вырабатывать эти проекты самим. Но Правительство должно сказать себе заранее, что цель его состоит в образовании в ближайшем будущем такого законодательного органа, который, не стесняя Верховной Власти, давал бы ей возможность узнавать о положении страны не из мертвых донесений, а из живого обмена мыслей администрации и общества. Вызов экспертов может быть только шагом к переустройству Государственного Совета. На этой форме можно остановиться на долгое время».
Таким образом, решительно осудив конституционные стремления земств и либеральной прессы, записка в конце концов приходит ни к чему, как в той же «Конституции графа Лорис-Меликова». Такой вывод ее и нашел себе вполне справедливую оценку в письме, приписываемом графу Милютину, чрез посредство которого она будто бы была подана графу Лорис-Меликову и который будто бы писал о ней этому последнему 18 марта 1881 г. следующее: «Пожалуйста, дочитайте ее до конца, вы увидите, что первая ее половина, заключающая в себе критическую сторону, представляет настоящее наше положение в самом безотрадном виде; тут есть много правды, но также и много такого, с чем вы, конечно, не согласитесь. Но затем автор в конце записки приходит к неожиданному заключению – весьма близкому к вашим же идеям, которые вы намеревались в последнее время провести»[197].
Наконец, еще с большею осторожностью, чем авторы двух предыдущих записок, проводит свою мысль записка с именем проф. Градовского. Автор этой записки решительно высказывается за сохранение Самодержавия, но столь же решительно говорит против системы репрессий с одной стороны и системы частичного улучшения нашего общественного быта с другой. «Правительство», пишет он, «должно изучить причины смут прежде, чем принять решительный шаг в ту или другую сторону. Это необходимо сделать теперь же; время не ждет, и беда надвигается со всех сторон». Со своей стороны, автор изъявляет готовность «всемерно помогать общему делу, высказать правду так, как он ее понимает, но для этого», прибавляет он, «нужна уверенность, что эту правду выслушают». Правда осталась невыясненной, но из отдельных туманных выражений записки можно вывести заключение, что заключалась она в созвании народных представителей «для изучения причин смут».
При всех вышеуказанных условиях в образовавшемся после 1 марта водовороте самых разнообразных мнений, суждений и предположений, пред Правительством снова встал вопрос о дальнейшем направлении его внутренней политики, которая так неразрывно связана с судьбою земских учреждений. Предстояло решить, продолжать ли идти по тому пути, который был намечен гр. Лорис-Меликовым, или избрать какой-либо иной.
6 марта 1881 г. бывший Министр Внутренних Дел представил Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру III всеподданнейший доклад о приведении в исполнение одобренной покойным Государем меры, т. е. об образовании при Государственном Совете Комиссии, состоящей из выборных представителей земств, городов и дворянства. Для обсуждения этого доклада Его Величеству благоугодно было на 8 марта созвать особое совещание. Что происходило на этом совещании и к чему оно пришло, достоверно неизвестно: полагаться же на слухи, проникшие в иностранную печать, было бы неосторожно.
Меры, принятые по отношению к земствам в первое время царствования императора Александра III. Неудавшаяся попытка создать «самоуправляющуюся местно землю с самодержавным царем во главе»
Вопрос о дальнейшем направлении нашей внутренней политики оставался некоторое время открытым. Как ни были разнообразны те мнения, которые по этому предмету высказывались, но, в сущности, все они сводились к трем предположениям: а) призвание выборных от земств к участию в законодательной деятельности и вступление таким образом на путь конституционализма; б) самоуправляющаяся местно земля с Самодержавным Царем во главе и в) укрепление начала правительствующего с подавлением начала земского.
По-видимому, Правительство вначале избрало средний путь. Высочайшим Манифестом от 29 апреля 1881 г. была выражена Высочайшая воля утверждать и охранять силу и истину Самодержавной власти для блага народного от всяких на нее поползновений; на пост Министра Внутренних Дел был призван граф Игнатьев.
Немедленно по вступлении в должность новый Министр Внутренних Дел издал циркуляр, в котором излагалась правительственная программа. В программе этой было весьма ясно высказано осуждение бюрократии «за небрежное исполнение своих обязанностей и равнодушие к общему благу», за «корыстное отношение к государственному и общественному достоянию» и затем заявлялось, что Правительство будет «стремиться, при верном всех служении и содействии, к осуществлению на самом деле того, что положено в основу дарованных Монархом (Императором Александром II) учреждений», и что оно «примет безотлагательные меры, чтобы установить правильные способы, которые обеспечивали бы наибольший успех живому участию местных деятелей в деле исполнения Высочайших предначертаний».
О доверии Правительства к земству, о самостоятельной деятельности последнего в тесном единении с органами власти говорил и циркуляр Министра Народного Просвещения Попечителям учебных округов (от 5 мая № 5562). Директоры и инспекторы народных школ, гласил циркуляр, «как непосредственные агенты Министерства Народного Просвещения, должны являться агентами заботливости правительственной, а не стеснения самодеятельности общественной: сию последнюю они обязаны уважать и поощрять».
Таким образом, Правительство своей задачей ставило, по-видимому, развитие местного самоуправления, но при сохранении и укреплении Самодержавия.
Земства немедленно откликнулись на призыв Правительства; но из первых же их ответов обнаружилось, что «живое участие местных деятелей в деле исполнения Высочайших предначертаний» они понимают совершенно иначе, чем Министерство Внутренних Дел, что, по их мнению, для этого участия прежде всего необходимо привлечение их представителей к законодательной деятельности.
Первыми в этом смысле высказались новгородские земства. Новгородский губернатор, препроводив копию с циркуляра Министра Внутренних Дел в губернскую управу, выражал надежду, что председатель и члены ее не оставят содействовать правительственной власти всеми зависящими от них средствами к осуществлению тех задач, которые указывает циркуляр. Губернская управа, со своей стороны, разослала циркуляр уездным земствам, и ответы этих последних сразу превзошли ожидания губернатора. Из сборника постановлений земских собраний Новгородской губернии за 1881 г. (стр. 23) видно, что Кирилловское, напр., земство, выслушав доклад гласного Ф. М. Арнольда, всецело к нему присоединилось, признав его «вполне обрисовывающим желания и стремления земства на пути искоренения неправды и хищения». Мнение гласного было, по-видимому, весьма энергично, ибо не было разрешено в печать начальником губернии, но некоторое представление о нем можно составить из дебатов, происходивших в Череповецком земстве. Здесь была заслушана записка гласного Н. Ф. Румянцева, автор которой, подробно рассмотрев ход и судьбы реформ царствования Императора Александра И, пришел к следующему заключению: «Созыв выборных от народа, в качестве совещательного органа Самодержавной власти Государя по вопросам законодательным, представляется нам как единый правильный путь, которым нужды страдающих и желающих всей земли могли бы достигать чистыми к Престолу; это – единственный путь, устраняющий те компромиссы, которые погубили результаты Высочайших реформ прошлого царствования, – единственный путь, который способен дать должную гарантию законности и личной свободы верноподданных, единственное средство очистить государственное и общественное управление от хищений, неправды и бездействия, исцелить общество от апатии и совокупными силами всей земли рассеять крамолу».
Земство, вполне разделяя соображения гласного, не нашло, однако, возможным войти в рассмотрение вопроса по существу, ибо полагало, что «откровенное по этому делу мнение может обеспокоить высшее правительство, в последнее время достаточно озабоченное уже тем, чтобы удержать органы печати рядом карательных мер от свободного выражения мнений, без чего все рассуждения о содействии не могут иметь никаких последствий»[198].
Новгородская губернская земская управа, докладывая сущность постановлений уездных земств, со своей стороны, полагала необходимым «с полною искренностью заявить правительству, что земство при настоящих условиях своей деятельности не может принять участия в борьбе правительства с противообщественными элементами и в преследовании задач, намеченных в циркуляре г. Министра Внутренних Дел, так как вопрос о тех условиях, при которых общество может оказать правительству желаемое содействие, безусловно, необходимое для достижения народного благоденствия, может получить правильное разрешение лишь при участии в его рассмотрении уполномоченных от земских учреждений, выбранных земством специально для этой цели».
Согласившись с заключением управы, губернское собрание никакого ходатайства Правительству не заявило, хотя взгляд его на взаимные отношения Правительства и земства в суждениях выразился довольно ясно.
Тверское земство пошло далее Новгородского. По обсуждении доклада комиссии о преобразовании местных учреждений, оно, в заседании 23 июня, пришло к заключению, что «никакие, как частные, так и общие мероприятия или реформы не могут достигнуть цели, поставленной властью, без предварительного рассмотрения этих реформ выборными представителями всей Русской земли. Поэтому собрание постановило ходатайствовать перед Правительством о созыве представителей Русской земли в особое совещательное учреждение, при содействии которого только и могут быть успешно выработаны и проведены в жизнь необходимые законодательные меры».
В том же смысле, как Тверское, высказалось Харьковское земство: оно постановило ходатайствовать, чтобы для окончательного разрешения вопроса о преобразовании крестьянских учреждений был созван особый съезд, в состав которого вошли бы как лица правительственные, так и депутаты от губернских и уездных земских собраний.
Дальнейшие заявления земств по возбужденному в циркуляре Министра Внутренних Дел вопросу о содействии Правительству были прекращены. Ходатайство Тверского земства Министр предложил местному губернатору оставить без дальнейшего производства, и в то же время были, по-видимому, приняты меры, чтобы подобные ходатайства не были возбуждаемы в других собраниях. По крайней мере, заявление, которое 9 июля 1881 г. сделал Владимирский губернатор при открытии чрезвычайного губернского собрания, уже совершенно в ином тоне, чем тот, с которым в мае обращался к земству Новгородский губернатор. «Я вполне надеюсь», говорил начальник Владимирской губернии, «что собрание не выйдет из пределов программы, предназначенной для сессии, и предоставленных ему прав и обязанностей»[199].
В то же время, по словам «Земства», «по указанию свыше, губернаторы, вопреки 9,64 и 74 ст. Пол. о земск. учр., стали собственною властью признавать заключения земских собраний недействительными и не подлежащими дальнейшему производству», а циркуляром Главного Управления по делам печати бесцензурным изданиям запрещено «опубликование без разрешения губернского начальства постановлений общественных собраний, под угрозою простановки виновных изданий на срок до трех месяцев»[200].
После во всех этих заявлений земств, с одной стороны, и запретительных мир по отношению к ним, с другой, становилось довольно ясно, что – не меняя существующего государственного строя, весьма трудно «осуществить на самом деле то, что положено в основу дарованных Императором Александром II земских учреждений», а выполнить программу Аксаковых, т. е. совершенно «уничтожить средостение», «создать местно управляющую землю с Самодержавным Царем во главе» – дело прямо невозможное. Поставить Императора в непосредственные отношения со всеми уездными или даже губернскими земствами было, очевидно, нельзя, сохранить же центральные бюрократические органы значило сохранить всю силу, всю сущность и все значение «средостения»; наконец, заменить, напр., министерства земскими людьми – значило идти гораздо уже далее того, что проектировал граф Лорис-Меликов. Правда, И. С. Аксаков объяснял, что настоящее земство – не земство, и советовал, сохраняя до поры до времени «средостение», заняться, прежде всего, устройством на истинно земских началах уезда. Но, с одной стороны, Правительство не могло не понимать, что дать земству пустить глубокие корни в уезде – это только усилить его рост, при котором земство неизбежно дотянется до центрального управления; а, с другой стороны, и сам И. С. Аксаков сознавался, что по устройстве уезда придется подумать и о земском соборе.
Ко всем этим затруднениям необходимо добавить, что обращенное к земствам вышеуказанное приглашение высказаться по поводу о преобразовании крестьянских учреждений вызвало небывалое оживление в земской среде: для рассмотрения переданного на обсуждение земства вопроса были созваны чрезвычайные собрания и учреждены специальные комиссии, которые на этот раз, вопреки обычаю, проявили оживленную деятельность, но при этом большинство земских управ и комиссий и многие собрания, не ограничиваясь обсуждением частных изменений в крестьянских учреждениях, дали предложенной им задаче более широкую постановку. Первоначальный вопрос отошел на задний план и его место занял новый, возникший по почину самих земств, вопрос о полной реформе нашего управления. Земство отнеслось к предложенной ему задаче вполне самостоятельно, сообразно с требованиями жизни[201]. Из ответов земств, которые стали поступать в Министерство Внутренних Дел, весьма скоро выяснилось, что взгляды земцев на реформу нашего управления слишком широки и не отвечают видам Правительства. В этих заявлениях земств, справедливо говорит Драгоманов, «мы видим уже не одни общие идеи, как в заявлениях 1858–1860 гг., а подробно разработанные планы. Если свести вместе эти планы, равно как и петиции разных земств по отдельным вопросам, имеющим соприкосновение с вопросом администрации, то получится почти буквально та программа самоуправления, которая развивается в нашей газете («Вольном Слове»). Разница оказывается только в том, что официальные земские представители говорят вполне определенно о самоуправлении в волостях, уездах и губерниях (нынешних рамках провинциальной жизни), менее определенно о самоуправлении областном и еще менее ясно о самоуправлении государственном». «В этом», добавляет Драгоманов, «есть своего рода резонное основание, но тут же заключается и слабость теперешних земских заявлений»[202].
Несмотря на все указанные затруднения в деле создания «самоуправляющейся местно земли с Самодержавным Царем во главе», сделана была попытка предоставить «Правительству всю силу власти, а земле всю силу мнения». Для осуществления этой попытки решили вызвать к участию в законодательных работах сведущих людей, по выбору Правительства. Первым опытом применения этой меры было учреждение особого совещания из Министров Внутренних Дел, Государственных Имуществ и Финансов, при участии экспертов, приглашенных по выбору Министров, для «составления предложений о способах понижения выкупных платежей». Затем были вызваны «сведущие люди» для пересмотра постановлений, относящихся к питейной торговле, и рассмотрения вопроса об упорядочении переселенческого движения крестьян. Наконец, в октябре 1881 г. учреждена была комиссия для составления проектов местного управления, и председателю ее предоставлено было приглашать «местных сведущих людей и вообще всех лиц, участие которых при рассмотрении и разрешении вопросов признается полезным». Кроме вызова «сведущих людей», применен был и другой способ привлечения местных деятелей на помощь Правительству: Министром Внутренних Дел поручено было уездным земским управам собрание сведений, нужных для разрешения вопроса о понижении выкупных платежей, причем было указано, что «главная причина, вследствие которой обращаются к земству, состоит в том, что необходим материал, собранный вполне добросовестно и точно, без всякой предвзятой мысли».
Правда, приглашение местных деятелей неоднократно бывало и в прежнее время; но на этот раз приглашение получило иное значение. Прежде к такой мере прибегали лишь изредка, случайно; теперь же предполагалось, по-видимому, узаконить в общее правило: «чтобы жизненные вопросы страны не были решаемы без выслушивания местных деятелей, хорошо знакомых с действительным положением дела».
Но опыт призыва «сведущих людей», которых так громко приветствовал Аксаков[203] не оправдал надежд. В числе приглашенных было много людей, пользовавшихся большою популярностью среди земцев (напр., автор Харьковского адреса, проф. Гордеенко); но тем не менее работы экспертных комиссий не встретили сочувствия в обществе, а со стороны земств, несмотря на все предупредительные меры, вызвали даже прямой протест. Двенадцать земских собраний (Херсонское, Владимирское, Новгородское, Псковское, Харьковское, Казанское, Полтавское, Костромское, Петербургское, Калужское, Бессарабское и Смоленское) заявили ходатайства, чтобы к участию в законодательной деятельности земские люди приглашались не в отдельных случаях и не по назначению от Правительства, а постоянно и по выбору земств. Земства остальных губерний не поддержали этого протеста, но можно думать, что сочувствие большинства из них едва ли было на стороне Правительства. Так, напр., в Самарское губернское земское собрание было внесено предложение о ходатайстве в вышеуказанном смысле, но председатель не допустил его обсуждения, закрыв заседание; после чего собрание, в виде протеста, разъехалось.
Заявления 12-ти земств весьма ясны и определенны. Первым высказалось Херсонское земство, заявившее, что «только вызов сведущих людей от всей России, правильно организованный, может помочь правительству осуществить столь многотрудные, не терпящие отлагательства реформы, завещанные еще прошлым славным царствованием».







