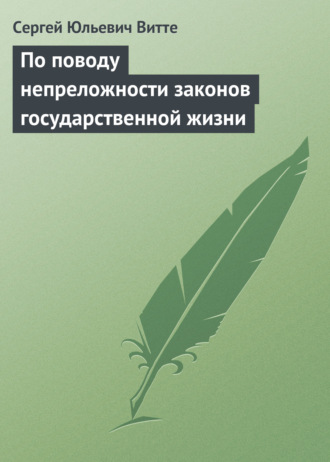
Сергей Юльевич Витте
По поводу непреложности законов государственной жизни
Казалось бы, что приведенные взгляды «посторонних нашим порядкам исследователей», смотрящих на правительственную администрацию чрез «конституционные очки», довольно ясно говорят за то, что Самодержавие и тесно связанная с ним администрация составляет в настоящем основу нашего государственного строя и залог единства России и что поэтому отказаться от этого созданного нашей историей административного строя и решительно вступить на путь развития начал, ему противоположных, т. е. начал самоуправления, нельзя, не испытав, по крайней мере, всех средств к исправлению недостатков существующей административной системы.
Со своей стороны, я считаю устранение этих недостатков делом совершенно выполнимым. Прежде всего, необходимо заметить, что и в настоящее время, при всех своих несовершенствах, правительственная администрация во многих отношениях допускает сравнение с органами самоуправления. Несомненно, что содержание личного состава этого последнего обходится весьма недешево, и еще вопрос, кто стоит дороже – чиновник правительства или деятель самоуправления. Если же принять во внимание, что в земствах наших (как, напр., в Московском) ведение дела в значительной мере сосредоточено в руках лиц, служащих по вольному найму, то можно утверждать даже, что правильно организованное правительственное хозяйство будет стоить дешевле. Не подсчитано даже, какое хозяйство доходнее для подрядчиков – казенное или общественное. Точно так же еще вопрос, какие города пользуются большим благоустройством, те ли, в которых введено городское самоуправление, или те, в которых его нет[278]. Правда, некоторые из возложенных на них обязанностей земства исполняют лучше, чем это делают чиновники, но зато и тяготы обложения в земских губерниях выше, чем в губерниях не земских (см. справку № 4).
Известные преимущества органов правительственной администрации в деле хозяйственного управления признают даже сами сторонники самоуправления (как, напр., проф. Treitschke), которые сознаются, что преимущество этого последнего заключается лишь в деле политического воспитания народа[279].
Со своей стороны, я уверен, что даже и в деле развития общественной самодеятельности преимущество органов самоуправления пред правильно поставленными органами Правительства далеко не так велико, как на первый взгляд кажется. Нельзя, конечно, отрицать, что в истории бюрократии не много насчитывается заслуг в деле развития общественной самодеятельности, но нельзя не признать также и того факта, что мало делалось до настоящего времени попыток вдохнуть в это учреждение новую жизнь. Созданная во времена старого, полицейского государства, при отсутствии всякой общественной самодеятельности, для удовлетворения иным требования жизни, бюрократия, особенно местная, жила и развивалась на основании своих прежних традиций. Жизнь уходила вперед, а приемы администрации оставались старые, правительства же всех стран мало заботились о приспособлении этих приемов к новым требованиям развивавшегося общества. Когда же несоответствие форм управления давало себя сильно чувствовать, когда старая административная машина совершенно изнашивалась, то обычно повторялось одно из двух: либо происходил взрыв – провозглашалась конституция, которая и водворяла затем на местах соответственную ей систему самоуправления, – либо Правительство само отказывалось от бюрократической системы, вводило постепенно местное самоуправление, которое в правильном и последовательном своем развитии неизбежно приводило к конституции. Казалось бы, что России, умеренной опытом народов Запада, не должно повторять их ошибок, и следует найти третий путь – поставить правительственные органы в тесную связь с обществом. Сама по себе, при известной правильной организации, бюрократия представляет далеко не мертвое начало. Лучшим тому доказательством могут служить у нас хотя бы результаты той же судебной реформы, благодаря которой наши общие судебные установления, организованные на бюрократическом начале, но правильно направленные, едва ли не дали лучших результатов, чем выборный мировой суд.
Для того, чтобы деятельность администрации больше соответствовала нуждам и пользам населения, для того, чтобы поставить ее в более тесную связь с деятельностью общества, необходимо правильно организованное участие общественных элементов в правительственных установлениях. Но это участие должно быть построено не на том конституционном принципе, который осуществлен в наших земских учреждениях, т. е. на самостоятельной деятельности общества, в лице своих выборных представителей, под надзором Правительства, а на преобладании правительственной власти над общественными элементами, при совместной деятельности органов Правительства с привлекаемыми им самим людьми местности.
Правильно организованная, с участием местных людей, правительственная администрация будет вполне удовлетворять своему назначению и ни в какой мере не станет стеснять развития самодеятельности общества. На возможность и целесообразность такой ее организации указывает вся наша история борьбы общества с Правительством – той борьбы, которая определила собою всю историю Запада и выработала там конституционный принцип, т. е. властное участие общества в законодательстве и управлении, – наша история совершенно не знает. Россия не знала того самоуправления, которое возникло в Англии, в начале XIX века перенесено на континент, а со второй половины истекающего столетия применено в наших земских учреждениях. И тем не менее, в русском народе сложилась та самодеятельность, которую некоторые склонны считать особенностью русского народного духа, – это способность русского человека мыслить себя не иначе, как членом общественного союза, находящимся под властью мира, стремление русского человека всякое дело делать сообща на артельных основаниях, с удивительным иногда уменьем подчинять свои интересы интересам общественным. Государство при самодержавной форме правления, не становясь в противоречие со своими основными принципами, может поощрять развитие такой общественной свободы, и всякое здоровое государство должно стать на этот путь.
Развитие общественных сил, полное и всестороннее, не только не противоречит принципам абсолютной монархии, но, напротив, придает им жизненность и крепость. Содействуя развитию самодеятельности, прислушиваясь, так сказать, к биению общественного пульса, Правительство не поступает, однако, в распоряжение общества, остается разумною силою и последовательною властью, постоянно понимает свои цели, непрерывно знает и средства к их достижению – знает, куда идет и ведет. Такое Правительство не рискует, что его меры, оторванные от прошлого, от народной почвы, окажутся несоответствующими общественному уровню, что общество будет развиваться вне его и помимо его, что государство перестанет быть высшим руководителем всей суммы общественного движения.
При таком Правительстве работа общественных сил несравненно плодотворнее для страны и ее населения, чем агитация промышляющего политиканства, хронический зуд борьбы за власть и за места, все равно, где происходит борьба, – в парламенте или в местном самоуправлении. 99 % населения к борьбе этой непричастны: не имеют ни времени, ни охоты, ни даже доступа к участию в этом состязании[280].
В записке Министра Внутренних Дел по моему адресу поставлен упрек за возбуждение принципиального вопроса, за проектирование взамен существующих и вошедших уже в жизнь установлений новых их систем (стр. 62). Но это едва ли так. Ни упразднения земских учреждений, ни какой-либо коренной ломки существующего порядка я не предлагал и не предлагаю. На указываемом мною принципе совместной деятельности органов Правительства с людьми местности я предлагал реформировать лишь то, что признается устаревшим и предназначено к реформе, именно нашу правительственную администрацию и управление хозяйственной частью в губерниях неземских. Что же касается существующих земств, то об упразднении их при настоящих условиях едва ли может быть речь; они стали совершившимся фактом русской жизни, и поэтому в отношении их приходится лишь вспомнить старую Л. Штейном высказанную истину: «Трудно сказать, что опаснее: ограничивать ли свободу существующего самоуправления или уничтожить таковое»[281]. Памятуя это, я, со своей стороны, думаю, что с созданием на местах сильной правительственной власти возможно будет с большим доверием отнестись к земствам, предоставить им большую свободу в точно очерченном круге их деятельности, тем более, что без этой свободы, без известной самостоятельности, они не могут быть сколько-нибудь удовлетворительным средством управления.
Если же вообще я позволил себе возбудить настоящий принципиальный вопрос, то повторяю, только потому, что лично для меня распространение земского самоуправления на новые местности представляется мерою совершенно непонятной.
В трудном и ответственном деле государственного правления надо быть прежде всего искренним. Правительству пред собой и пред лицом народа надо отдавать ясный отчет в каждом мероприятии, не закрывая глаз на возможные его последствия и не обманывая ни себя, ни других в действительном его значении. И по моему искреннему, глубокому убеждению, если с этой единственно правильной точки зрения рассматривать политическое значение земских учреждений, если вполне беспристрастно выяснить мысль законодателя, положенную в 1864 г. в основу этих учреждений, то двух ответов на вопрос о будущности их в системе нашего государственного строя быть не может. Правильное и последовательное развитие всесословного представительства в делах местного управления неизбежно приведет к народному представительству в сфере управления центрального, а затем и к властному участию народа в законодательстве и управлении верховном.
Если же это так, то в отношениях Правительства к земствам, вернее, в направлении всей нашей внутренней политики, может быть только два вполне ясных и точных пути.
Можно верить, что каждое государство в своем политическом развитии неизбежно должно придти к конституции, как более совершенной форме правления. Можно считать, что правительственная администрация есть несовершенное, неспособное к улучшениям, отживающее средство управления, которое чем скорее, тем лучше должно уступить свое поприще другой молодой, более совершенной системе – системе самоуправления, и что возможно широким последовательным и правильным развитием этой последней системы единственно обеспечивается благо народа. Лично я не разделяю такой точки зрения, но я ее понимаю. Если стоять на этой почве, то, имея пред собой пример Запада, нам следует прилагать все усилия ко скорейшему и правильному развитию начал самоуправления. Ребенка, вставшего на ноги, надо скорее учить ходить; надо дать земствам пустить корни во всей стране, надо отнестись к ним с полным доверием, дать возможную самостоятельность, ослабить административную опеку и затем на все их стремления к объединению и участию в законодательстве спокойно смотреть, как на естественный и здоровый рост того зерна, которое в 1864 г. брошено было на нашу политическую ниву.
Можно иметь и другую, противоположную точку зрения. Можно верить, и лично я исповедую это убеждение, что конституция вообще «великая ложь нашего времени», и что, в частности, к России, при ее разноязычности и разноплеменности, эта форма правления неприменима без разложения государственного единства[282]. С этой точки зрения, никакого дальнейшего расширения деятельности земству давать нельзя, надо плести для него ясную демаркационную линию, не позволять ни под каким видом переступать эту линию, но вместе с тем надо возможно скорее озаботиться правильной и соответствующей организаций правительственной администрации, твердо памятуя, что «кто хозяин в стране, тот должен быть и хозяином в администрации».
Никакого среднего между этими двумя путями быть не может. Правительству, говоря словами проф. Градовского, не следует ставить свою ставку одновременно на черный и красный квадрат[283] – не следует, с одной стороны, говорить о развитии самодеятельности общества и начал самоуправления, проектировать территориальное его расширение, а с другой – подавлять всякую самодеятельность, ограничивать самоуправление, ставить его в положение, при котором оно не может быть даже удовлетворительным средством управления. Результаты такой политики всегда будут отрицательны. «Ничто не разжигает так революционный дух, как недостаток гармонии в учреждениях и разногласие между законами или теоретическими началами управления и практикою последнего»[284]. Эту истину надо всегда помнить; нельзя создавать либеральные формы, не наполняя их соответствующим содержанием. Неизбежным последствием всякой неискренней, весьма двойственной политики являются разного рода запрещения, ограничения и стеснения, а ничто так не подавляет самодеятельности общества и не подрывает в такой мере престижа власти, как частое и широкое применение репрессивных мер. Меры эти – меры опасные, и продолжительное их применение либо приводит ко взрыву, либо действительно обращает все население в «бессвязные толпы», в «людскую пыль»…
Приложение № 1
Справка I. Краткий обзор литературы по вопросу о связи местного самоуправления с конституционным строем
В научной литературе вообще существует весьма ограниченное количество сочинений, специально посвященных исследованию местного самоуправления. Взгляды отдельных научных авторитетов на те или другие частные вопросы этой обширной научной темы рассеяны, правда, в общих сочинениях, трактатах, курсах, Lehrbuch'ax, Handbuch'ax и т. п., но даже такой собранный по крупинкам материал далеко не может быть признан богатым.
Тем не менее, несмотря на относительную бедность научной литературы, вопрос о тесной связи местного самоуправления с политическим устройством страны обращал на себя внимание многих ученых, которые с разных сторон и разнообразных точек зрения приходят к одному и тому же заключению о соответствии самоуправления конституционному режиму, а некоторые земства определенно высказываются за полную несовместимость этой системы местного управления с самодержавным строем государства, указывают на то, что последовательное проведение и развитие начал самоуправления неизбежно приведет к падению самодержавия и установлению конституционных порядков.
Более богатыми по рассматриваемому вопросу являются литературы немецкая и французская, более бедною английская, и это вполне понятно. Германия и Франция в течение XIX столетия, принесшего с собою на континент Европы идеи конституционализма и самоуправления, реформировали свой государственный строй, вырабатывали себе конституцию и соответствующую, могущую служить ей опорой и основой систему местного управления. Поэтому в этих странах вопрос о самоуправлении был жгучим вопросом дня и привлекал к себе внимание не одних только администраторов и политических деятелей, но и кабинетных ученых – теоретиков права.
Германской науке принадлежит бесспорно честь и первенство в разработке теории вопроса о связи самоуправления с системой государственного устройства. Впервые вопрос этот получил серьезную научную постановку в трудах корифеев науки Лоренца Штейна и Гнейста, главнейшую заслугу которых научная литература и у нас, и в Западной Европе видит именно в выяснении ими политического и притом конституционного значения самоуправления. Особенно велика в этом отношении заслуга Гнейста. Едва ли не половину своей жизни этот ученый посвятил изучению английского самоуправления, его истории и соотношения с политическим устройством родины парламентаризма и пришел к тому выводу, что английский парламент является завершением постепенно развившегося местного самоуправления, что последнее составляет базу всего конституционного строя Англии и что отделить учреждения английского самоуправления от самоуправления политического столь же невозможно, как отделить деятельность рук от деятельности головы.
«Гнейст, – говорит проф. Градовский, – раскрыл Европе Англию административную и показал, что в ней коренятся причины благосостояния и свободы этой страны». Теория Гнейста, по словам профессора, оказала огромное влияние на умы современного поколения: успех ее он сравнивает с тем, какой имело в свое время учение Монтескье, открывшего Европе Англию политическую[285].
Эта, так метко и правильно охарактеризованная нашим лучшим знатоком государственного права и европейских конституций, заслуга Гнейста нашла себе надлежащую оценку не только на континенте, но и в самой Англии. Один из выдающихся английских публицистов и государственный деятель, бывший посол Великобритании в Петербурге, сэр Мориер, разбирая теорию Гнейста, признает ее «мастерской анатомией английского самоуправления»: по его мнению, самый германский закон 1872 года о местном самоуправлении (Die Kreis-Ordnung 1872) явился последствием тех учений о самоуправлении, красноречивейшим и самым неутомимым защитником коих был проф. Гнейст. В последующей научной литературе выводы знаменитого германского ученого во многом были дополнены, некоторые частности, отдельные положения подверглись справедливой критике; так, напр., в дополнение в указанному Гнейстом политическому значению самоуправления было отмечено его значение социальное, опровергнуто неверное определение местного самоуправления, как управления посредством безмездных почетных должностей и т. п., но основная его мысль о тесной связи конституционного строя с самоуправлением не встретила ни одного серьезного опровержения; наоборот, и в научных сочинениях, и в парламентских прениях до газетной полемики включительно, мысль эта до самого последнего времени повторялась и развивалась на разные лады. Отрицают же учение Гнейста и считают его бесплодным и неверным лишь те, кто обращает внимание не на общую руководящую мысль этого учения, а на частности, те, кто против этих частностей направляют свои возражения – словом, те, кто из-за деревьев лесу не видят.
Особенно оживленною деятельность германской литературы по вопросу о связи самоуправлением с конституционным режимом была в то время, когда вырабатывался и был издан закон 1872 года об устройстве местного управления. В этот период появился целый ряд сборников, комментирующих этот закон. Разъясняя значение и цель сего последнего, большинство комментаторов (Фриденталь, Ган, Вахлер, Штолыг и др.) всецело поддерживают тот взгляд, который приводился докладчиком парламентской комиссии при рассмотрении названного закона в рейхстаге, т. е. что введение самоуправления имеет целью дать административным учреждениям структуру соответствующую духу конституционного государства.
Вообще в германской литературе положение, что самоуправление в той же мере отвечает строю конституционному, как бюрократия самодержавному, – является ныне вполне бесспорным. Этот господствующий взгляд прекрасно формулирован в настоящей справке (стр. 22) и извлечении из труда профессора Шульце, на авторитет которого на стр. 20 ссылается и записка Министра Внутренних Дел.
Не менее интересною, чем германская, является по вопросу о соотношении самоуправления с конституционным строем и литература французская. В противоположность немецкой науке, в ней нет почти совсем отвлеченных теоретических построений учения о самоуправлении; французские писатели, как всегда, стоят более на практической почве, и в этом отношении взгляды их, освещающие вопрос с другой, более близкой к цели, точки зрения, имеют едва ли не большее значение, чем теоретические построения германских ученых, выводы которых к тому же они вполне подтверждают.
Мнение представителей французской науки важно еще и потому, что те, кто опровергают связь самоуправления с конституционным строем, ссылаются всегда на пример Франции, которая из всех континентальных держав первая вступила на путь конституционных порядков и которая, между тем, в течение столетия, почти до последнего времени сохранила бюрократический строй. Действительно, конституция 1793 г. отрицательно и недоверчиво отнеслась к самоуправлению; несомненно также и то, что в рядах легитимистов в прежнее время насчитывалось довольно много сторонников местного самоуправления, рассчитывавших на консерватизм сельского населения и влияние духовенства, но работы французских публицистов того направления, которое за последнее время сделалось господствующим, совершенно рассеяли указанное недоразумение. Работы эти выяснили, что деятели французской революции, провозгласив под влиянием идей Руссо «la souverainete reside dans le peuple; elle est une et indivisible» (№ 25), – со своей точки зрения сделали непростительную ошибку; они не дали народу действительного самоуправления, а лишь заменили суверенитет короля суверенитетом конвента: результатом этой ошибки явилась неустойчивость французской конституции и ряд политических переворотов, ареной которых была Франция в течение XIX столетия; политический строй государства изменился, а администрация, на которую он должен был опираться, осталась прежняя, приспособленная для самодержавного образа правления, к которому она стремилась вернуться при первой к тому возможности. Наиболее дальновидные публицисты и государственные люди Франции весьма, впрочем, скоро поняли ошибку деятелей конвента, поняли, что конституция без самоуправления «шаткая кровля, которую повалит каждая буря», что в политическом строе их отечества есть «противоречие между дном и поверхностью[286]. Уже в 1821 г. появилось сочинение Баранта, в котором указывалось на полное противоречие между политическим строем государства и административным устройством и доказывалась необходимость реформировать это последнее на началах самоуправления. Эта точка зрения, которая отразилась также и в современных труду Баранта проектах реформы местного управления Деказа и Мартиньяка, постепенно стала приобретать все более и более сторонников, чему, конечно, много способствовали и суровые уроки истории и знакомство с учреждениями Англии. В настоящее время во французской литературе местное самоуправление служит знаменем всех тех, кому дорога устойчивость конституционного строя Франции, и под этим знаменем группируются громкие имена Леруа-Болье, Вальфрамбера, Феррана, Феррона и др. Правительство третьей республики в своих реформах местного управления также весьма быстро идет навстречу этому направлению, надежды на легитимистов направлены ныне на другую сторону: «Бог Покровитель, на которого они рассчитывают, – говорит Поль Леруа-Болье, – это центральная власть, префекты, другими словами, более или менее замаскированная диктатура»[287].
Наконец, французская литература по рассматриваемому вопросу имеет еще особо важное значение потому, что некоторые из авторитетных ученых Франции, занимавшиеся этим вопросом, останавливали свое внимание на политическом значений наших земских учреждений. К числу таких ученых принадлежат: Ан. Леруа-Болье в его книге «L'Empire des Tsars et les russes», Ферран в его исследовании «Les institutions administratives en France et a l'etranger» и Демомбин в его капитальном труде «Constitutions europeennes».
Отзыв каждого из этих авторов имеет свое значение: отзыв первого интересен, как мнение просвещенного иностранца, составленное им на основании личного знакомства с Россией и ее государственным устройством; отзыв второго (бывшего префекта), как опытного и притом ученого администратора и, наконец, мнение третьего, как знатока европейских конституций, их сущности и истории их происхождения.
Глубоко знаменательно, что все три названных исследователя приходят к одному и тому же выводу: земские учреждения – это то зерно, из которого может и должна развиться русская конституция…
Литература английская, как указано выше, по рассматриваемому вопросу несколько беднее литературы немецкой и французской. Объясняется это тем, что в Англии и местное самоуправление, и вершина его – парламент – создались и выросли медленным историческим процессом в те еще времена, когда о научной разработке теории самоуправления не могло быть и речи. В XIX веке, когда на континенте вопрос о самоуправлении и конституционном режиме стал вопросом дня, требовавшим разрешения, – в Англии ее selfgovernment и ее парламент были бесспорным фактом, не возбуждавшим никаких сомнений; поэтому вопрос об их соотношении и их связи не имел никакого утилитарного значения и не мог привлекать к себе внимание такого практического народа, как англичане. Но из этого вовсе еще не следует, чтобы англичане, как полагает записка Министра Внутренних Дел, не сознавали и не видели указанной связи, чтобы вовсе не разделяли они взглядов Гнейста, обратившего внимание европейской науки на эту связь.
Для того, чтобы уяснить взгляд англичан по этому предмету, достаточно, напр., обратиться к классическому труду знаменитого историка английского народа Стеббса «Конституционная история Англии», к трактату Милля о народном представительстве или, наконец, к таким работам, в которых им приходилось высказывать свои взгляды по поводу тех реформ местного самоуправления, которые производились в континентальных государствах. Особенно в этом отношении ценной предоставляется вышеуказанная работа сэра Мориера, написанная по поводу прусского Kreis-Ordnung 1872 г. Эту книгу проф. Гольцендорф в своем предисловии к немецкому ее переводу справедливо рекомендует вниманию всех тех, кто не вполне ясно видит тесную связь между самоуправлением и конституционным режимом.
Что касается, наконец, русской науки, то хотя после введения земских учреждений наша научная литература и обогатилась рядом капитальных трудов по самоуправлению, но частный вопрос этой обширной темы, вопрос о связи местного самоуправления с конституционным строем, не получил должной разработки. Одни из наших ученых и публицистов обходят его полным молчанием, к выводам других надо относиться с известною осторожностью, ибо наши ученые не всегда могут быть вполне откровенны в этом щекотливом вопросе, а иногда и прямо не имеют возможности говорить то, что думают. Причин тому много, и они весьма разнообразны. Тут и условия цензуры, и интересы земства, и полемика с консервативными органами печати, и пр. Поэтому в работах наших ученых и публицистов многое приходится читать между строк, многое не договаривается, а иногда встречается и прямое противоречие. Так, князь Васильчиков в своей книге о самоуправлении усиленно доказывает, что формы правления от форм управления не зависят, а на стр. 29 т. I не может не признать, что ручьи самоуправления неизбежно должны слиться в море народного представительства. Проф. Чичерин в своем сочинении о народном представительстве весьма обстоятельно объясняет, что местное самоуправление тесно связано с политическим устройством страны, что оно наиболее свойственно федеративной республике, аристократии и конституционной монархии и менее всего монархии абсолютной, настоящим орудием которой является бюрократия; в предисловии ко второму изданию названного сочинения, выпущенному в 1898 г., почтенный профессор удостоверяет, что 30-летний опыт вполне подтвердил правильность его воззрений, изложенных в этой книге, а вслед затем в только что вышедшем курсе государственной науки и в последних статьях своих, помещенных в С.-Петербургских Ведомостях», проводит уже ту мысль, что самодержавная монархия должна допустить местное самоуправление. Проф. Градовский, доказывая, что самоуправление есть понятие политическое, вполне определенно высказывается, «что вопрос о нем получает правильную постановку только в том случае, когда эти начала применяются не только к низшим, но и к высшим единицам». Это заявление профессора, казалось бы, вполне ясно, и сам он не сделал к нему даже никакой оговорки, но ученик его, проф. Свешников, считает нужным снабдить выводы своего учителя комментариями, которые едва ли из них вытекают. По мнению Свешникова, «взгляды Градовского недостаточно применимы к России, так как тома, посвященного русскому самоуправлению, не вышло, смерть прервала ценные для науки занятия Градовского, он сделался лишь автором, взгляды которого должны быть еще применены к нашему русскому праву с надлежащею последовательностью»[288].
Для правильной оценки взглядов и выводов нашей научной литературы нельзя, казалось бы, не обратить внимания на следующее, много говорящее обстоятельство.
Если не считать славянофилов, которые стоят отдельной группой и сами мечтают о земском соборе, то за тесную связь земств с конституционным строем высказываются по преимуществу писатели консервативного направления; наоборот, усиленно доказывает совместимость самодержавия с земством большинство писателей направления либерального, для которых конституция представляется, может быть, невозможной в настоящем, но желаемой и ожидаемой в будущем, которым земство дорого именно потому, что в нем они видят зачатки представительного правления. Нельзя не указать также, что в тех случаях, когда нашим ученым публицистам и земским деятелям представлялась возможность открыто заявлять свои убеждения как, напр., в последние годы царствования Императора Александра II и первые годы царствования Императора Александра III, то в их речах и заявлениях весьма определенно высказывалось мнение о необходимости завершить реформу созванием земского собора. Эта нота весьма ясно звучит и в известных, имевших место в период 1879–1883 гг., заявлениях отдельных гласных и целых земских собраний, и в статьях либеральной прессы того времени, и даже в речи бывшего Московского городского головы (Б. Чичерина), сказанной им на обеде представителей города во время коронации Императора Александра III[289]. Еще более ясно высказываются надежды наших, даже самых умеренных, либералов на земство в тех трудах наших публицистов и ученых, которые появились в изданиях заграничной прессы. Сюда следует отнести напр., ряд брошюр Кошелева, изданных им в Берлине: «Земская Дума»; «Наше Положение», «Что же теперь делать?» и др. Во всех этих трудах нашего видного земца, который справедливо говорил про себя, что он «не революционер и не коммунист», звучит все одна и та же мысль: для надлежащего развития земских учреждений, для правильной их постановки необходимо созвание земского собора, необходимо, чтобы «России вообще даны были права вроде тех, которые уже дарованы уездным и губернским земствам». В своих трудах Кошелев (подобно Кавелину в его брошюре «Политические призраки») находил, впрочем, возможным участие земского элемента в законодательстве без ограничения самодержавия. Не останавливаясь на доказательстве всей несбыточности подобной постановки, следует указать далее, что более определенно и более ясно вопрос о политическом значении земских учреждений поставлен в заграничных изданиях другого представителя либеральной партии, бывшего профессора Киевского университета Драгоманова. В своей брошюре «Либерализм и земство в России» и в статьях, помещенных в издававшейся им в Женеве газете «Вольное Слово», он вполне искренно и открыто, без всяких прикрас и уверток, определяет действительную программу и стремления земства и вполне правильно ставит вопрос о значении земства в системе нашего государственного строя, доказывая всю несостоятельность попыток сохранить совместное существование Самодержавия и земства. По мнению Драгоманова, «история показывает наглядно: 1) что местное самоуправление имеет теперь бесспорно политическое значение и 2) что его учреждения в новейших государствах растут и крепнут именно во время общегосударственного либерального движения и упрочиваются только с либеральной реформой центральных государственных учреждений, для которой в то же время местное самоуправление составляет лучшую опору»[290]. «Самоуправление хозяйственное, говорит далее бывший профессор, «невозможно без управления административного, а самоуправление местное – без государственного»[291]. Указывая затем на проявившееся в земских учреждениях в период 1879–1883 гг. движение в пользу введения конституции, Драгоманов приветствует мысль сделать земства базисом для агитации в пользу политического преобразования всего государства. «Если теперь все образованные люди разных племен населения России усвоют себе бесповоротно и последовательно начала, лежащие в основе русского земского движения и предлагаемые в осязательной форме, – а именно, требования неприкосновенности основных прав лица и местного самоуправления, обеспеченных самоуправлением государственным, тогда главная часть работы добывания для России политической свободы будет сделана»[292]. «Суженого конем не объедешь… Если земства переживут нынешний кризис (брошюра написана в 1889 г.), то спустя известное время они опять сделаются, говоря языком московской реакционной газеты, театром конституционных сатурналий»[293].







