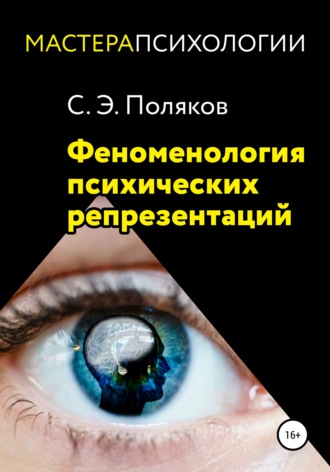
Сергей Эрнестович Поляков
Феноменология психических репрезентаций
2.7.2. Модели свойств объектов
Что представляют собой качества, или свойства[128], объектов? Д. В. Пивоваров пишет в Современном философском словаре (2004):
Англоязычные философы-эмпирики тесно сближают между собой понятия свойства, качества и чувственного данного, подчас просто отождествляя их [с. 607].
Г. Гельмгольц (2002) поясняет:
…наблюдая устойчивость особого типа взаимодействия, мы приписываем объекту постоянную и неизменную способность вызывать определенные эффекты. Эту неизменную способность мы называем свойством. …Несмотря на свое наименование, свойства тел не означают чего-либо свойственного данному отдельному объекту, а определяют результат взаимодействия его с некоторым вторым объектом (в том числе с нашими органами чувств). …Свет, отраженный от киновари, нельзя назвать красным; он является таковым лишь для определенного типа глаз [с. 38–39].
Большой толковый психологический словарь (2001) определяет качество как:
…основное свойство ощущения, аспект предмета, который дает возможность различать его с другими предметами… [с. 345].
Я писал (С. Э. Поляков, 2004) о том, что в одних модальностях наша психика способна создавать модели, позволяющие выделять репрезентируемые объекты среди прочих, даже сходных. Такие сенсорные модели принято называть образами объектов. В других модальностях она создает модели, которые не позволяют нам выделять отдельные объекты среди сходных с ними, но репрезентируют нам тем не менее эти множества сходных объектов: теплых, гладких, кислых и т. д. Сенсорные модели такого рода принято называть ощущениями, вызываемыми объектами. Ощущение в отличие от образа не позволяет идентифицировать конкретный объект среди прочих сходных с ним в данной модальности репрезентаций других объектов.
Например, конкретный металлический брусок меди по вызываемому им ощущению тепла-холода или твердости-мягкости невозможно выделить среди прочих аналогичных металлических брусков: золота, стали, серебра и т. д. Конкретный сладкий объект невозможно выделить среди прочих сладких объектов: рафинада, коричневого сахара, сахарина и др. Конкретный гладкий объект невозможно выделить среди прочих гладких объектов: отшлифованных камней, металла, стекла и др. Различение объектов может оказаться возможным при присоединении к репрезентации данной модальности репрезентаций (ощущений) другой модальности. Тогда объект становится не просто гладким, но и холодным или теплым, тяжелым или легким, твердым или мягким в разной степени, то есть его целостная полимодальная репрезентация обогащается новыми гранями. То, что единичное ощущение не в состоянии самостоятельно репрезентировать конкретный объект, нашло отражение и в языке: холодный (и ветер, и металл, и взгляд и др.), сладкий (и виноград, и чай, и щербет и т. д.).
Можно предположить, что зрительный анализатор, позволяющий нам получить «полную» репрезентацию объекта – зрительный образ, моделирует в нем сразу несколько свойств объекта: яркость, цвет и текстуру поверхностей, их градиент, углы наклона и т. д., собственно и формирующих зрительный образ. Зрительный анализатор, создавая образ, как бы замещает с его помощью сразу множество «простых» моделей (или ощущений), аналогичных по «уровню» моделирования реальности ее репрезентациям, создаваемым другими сенсорными анализаторами. При этом он органично объединяет все то, что можно условно назвать «зрительными ощущениями», в целостную репрезентацию, гештальт – зрительный образ. В результате количество здесь переходит в качество, позволяющее сознанию конституировать в визуальной модальности конкретный объект, отличая его при этом от всех прочих, в том числе от сходных объектов. Простые репрезентации иной модальности (то, что мы называем ощущениями), выступая лишь в качестве дополнительных и второстепенных моделей объекта, превращаются для человека в свойства объекта.
Принятое в философии деление репрезентируемых сознанием сущностей на объект, его свойства, его действия и отношения обусловлено не столько особенностями данных сущностей, сколько особенностями самих наших чувственных репрезентаций окружающей реальности. Эти феноменологические особенности позволяют мысленно разделять единую репрезентируемую образами и ощущениями сущность на собственно объект (то, что репрезентируется «основным», обычно зрительным образом) и на свойства объекта (то, что репрезентируется «дополнительными» чувственными моделями того же объекта, возникающими в других чувственных модальностях: тактильной, обонятельной, осязательной, вкусовой).
Э. Кассирер (2006) замечает:
…мысль о вещи – как о комплексе чувственных свойств – возникла благодаря тому, что эти свойства воспринимаются самостоятельно и потом как бы сливаются друг с другом посредством автоматического механизма «ассоциаций»… [с. 361].
Следовательно, правильнее было бы сказать, что феноменологически то, что считается свойством объекта, – это лишь одна из самостоятельных чувственных репрезентаций того же самого объекта, а не какого-то его качества, возникающая в «неосновной» модальности. Вводим же мы новое понятие свойство объекта наряду с имеющимся понятием объект потому, что лишь так можем объединить в своих вербальных моделях разномодальные чувственные репрезентации одного объекта (его образ и вызываемые им ощущения). Мне могут обоснованно возразить, что есть свойства объектов, воспринимаемые нами в «основной» (то есть зрительной) модальности. К ним относятся, в частности, цвет объекта, его яркость, форма и др.
Однако я думаю, что это не противоречит моим представлениям, так как сам зрительный образ можно, по-видимому, рассматривать как максимально «широкую» репрезентацию – гештальт, включающую в себя то, что можно назвать несколькими «зрительными субмодальностями». К последним, в частности, относятся «зрительные ощущения» цвета и яркости. То, что это так и есть, подтверждается, например, возможностью появления у людей со слабым зрением вместо зрительных образов лишь ощущений света разной яркости. Что касается такого свойства, как форма объекта, то оно относится уже к сущностям, моделируемым вербально, хотя и с участием сенсорной модели-репрезентации предмета, и ее мы обсудим позже.
Р. Эйслер (2007) замечает:
…то, что мы с полным правом приписываем вещам как их свойства, не только образует составную часть объектов, но и имеет свой корень в вещах, обладает истинной объективностью [с. 156].
Неудивительно, что «свойства (вещей. – Авт.) обладают истинной объективностью», так как они (свойства) репрезентируются просто иными перцептивными моделями этой же вещи. Лишь сложившаяся привычка нашего мышления превращает отдельные самостоятельные («не основные» по сравнению со зрительной репрезентацией вещи) ее модели в ее же свойства. В свойства другой, тоже чувственной, но исходно более полной нашей репрезентации той же вещи – ее зрительного образа. Еще раз подчеркну, что понятие о чувственном свойстве объекта возникает потому, что у нас дополнительно к зрительному образу объекта формируются его чувственные репрезентации в иных модальностях, в которых сознание не создает «полноценную» или «завершенную» его репрезентацию. Именно они («дополнительные» чувственные репрезентации того же объекта) расцениваются нами как характеристики его основной репрезентации – зрительного образа, а следовательно, и самого объекта.
В процессе формирования понятий сознание вычленяет, абстрагирует из многих моделей-репрезентаций различных объектов их (объектов) сходные мономодальные репрезентации, например лимонный запах или сладкий вкус, и создает из них новую психическую конструкцию, репрезентирующую сенсорно то, что принято называть общим свойством этих объектов. Каждая такая собирательная мономодальная сенсорная конструкция становится чувственным значением отдельного понятия: лимонный, сладкий, бугристый, колючий, холодный, яркий, горький и т. п. Сенсорная конструкция и соответствующее абстрактное понятие репрезентируют в сознании лишь умозрительную, отвлеченную сущность – некое свойство, приписываемое сознанием всем объектам данного множества.
Такая сущность (свойство) представляет собой психический объект или «псевдообъект». Упрощая, можно сказать, что если чувственным значением объекта, обозначаемого, например, общим понятием стол, является собирательная полимодальная модель-репрезентация, состоящая в первую очередь из визуальных образов множества сходных между собой физических объектов – столов, то чувственным значением свойства, обозначаемого, например, понятием сладкий, является собирательная мономодальная модель-репрезентация множества разных физических объектов, каждый из которых подобен всем прочим лишь в одном аспекте – во вкусовой модальности.
В литературе широко распространено представление о возможности существования свойств в качестве особых самостоятельных сущностей окружающего мира и соответственно возможности наличия в сознании их репрезентаций в качестве «независимых от объектов» ощущений. М. Мерло-Понти (1999) полагает, например, что:
…красное и зеленое – это не ощущения, а ощущаемое… Ощущаемое качество… предстает столь же богатым и столь же неясным, как и сам объект или все воспринимаемое зрелище [с. 11, 26].
Дж. Гибсон (2002а) говорит более определенно:
Нельзя отрицать, что люди иногда имеют ощущения чисто-голубого цвета, кислого вкуса или чего-то сладкого. По крайней мере, исследователей в психологических лабораториях можно склонить к тому, что у них есть такие впечатления… Но это не значит, что данный тип опыта является первоосновой всего опыта [с. 185–189].
С. Неретина и А. Огурцов (2006) замечают:
Позиция реализма состоит в том, что свойства считаются существующими реально, образуя конституенты вещей, и столь же реально существует тождество свойств [с. 13].
Однако в окружающем нас мире нет сущностей, репрезентируемых сознанием как ощущения «сами по себе». Нет, например, неприятного запаха, а есть неприятно пахнущий воздух или газ, движение и температуру которого мы часто ощущаем вместе с запахом. В то же время многие уверены, что имеют по крайней мере вкусовые «ощущения вообще». Но и это – лишь заблуждение. Когда мы пытаемся представить ощущение сладкого, например, становится очевидно, что с этим ощущением тесно связаны тактильные ощущения от тающих на языке сахарных крупинок, или конфеты, или чего-то подобного и, возможно даже, зрительные образы соответствующего объекта. Мы просто привыкли, анализируя свои вкусовые ощущения, игнорировать сопутствующие зрительные образы и тактильные ощущения от слизистой поверхности ротовой полости и языка.
Когда мы представляем себе красный или белый цвет, поначалу может показаться, что это действительно некие «независимые» сущности. Но при внимательном мысленном рассмотрении «красного» за внешним цветом обнаруживается, например, колышущаяся форма полотнища флага, транспаранта, по крайней мере красной поверхности, а за «белым» – образ какого-то шара, стены или иного предмета, то есть мы не имеем зрительного образа представления некоего абстрактного ощущения цвета, а имеем всегда образ представления или воспоминания объекта, включающий в себя цвет в качестве одного из своих элементов.
Итак, ощущений (вообще) и даже представлений ощущений (вообще) нет и не может быть, так как само ощущение – это репрезентация объекта. Есть полимодальная модель-репрезентация объекта, составными частями которой являются репрезентации объекта разной модальности – то, что мы называем его свойствами. Неудивительно, что ощущения, как и образы, всегда интенциональны, так как все они являются чувственными репрезентациями объекта. Ощущения не могут быть «оторваны» от объекта, так же как не может быть оторван от объекта его зрительный образ. Собственно, и образ, и ощущение – это и есть сам (конституированный нашим сознанием) объект. Других объектов просто нет.
Мы воспринимаем и регистрируем в памяти далеко не все свойства объектов, даже доступные нашему восприятию. Мы могли бы, но не замечаем и не дифференцируем те свойства, которые не имеют для нас практического значения. Например, мы не замечаем того, что одна и та же зелень издали более темная, чем вблизи [Г. Гельмгольц, 2002, с. 37]. Наши органы чувств в состоянии смоделировать лишь некоторые свойства объектов. Органы чувств имеют также пределы чувствительности и разрешающей способности, которые не всегда позволяют нам отличить два объекта друг от друга лишь по одному свойству, например по запаху или вкусу, цвету или яркости и т. д. Многие наши ощущения субъективно сходны, а часто просто неразличимы. У нас нет привычки, а самое главное, необходимости различать сходные ощущения, так как нам в большинстве случаев хватает самого факта наличия определенного ощущения.
В связи с этим широко распространено представление о том, что физические объекты имеют одинаковые свойства, которые и ответственны за возникновение у нас одинаковых ощущений. На самом деле у объектов реальности не только нет одинаковых свойств, у них нет и самих свойств, так как свойства объектов, как и сами объекты, конституируются нашим сознанием. Например, в физической реальности нет зеленой или желтой поверхности. Сам «цвет» – лишь субъективная психическая модель, возникающая в сознании в специфической сенсорной модальности, зависящая от человеческой физиологии и не существующая как физическая сущность. Цвет поверхности зависит от характеристик отражаемых ею электромагнитных волн, и очевидно, что никакие две поверхности (даже если бы они были в физической реальности), воспринимаемые нами как абсолютно одинаковые по цвету, не могут отражать абсолютно одинаковый набор бесчисленного множества разных электромагнитных волн, падающих на них, так как сами поверхности отличаются друг от друга по физико-химическим параметрам.
У. Джеймс (2000) цитирует Дж. Милля, который пишет:
Всякий цвет есть индивидуальный цвет, всякий размер есть индивидуальный размер, всякая форма есть индивидуальная форма. Но две вещи не имеют общего им обеим индивидуального цвета, или размера, или формы, – иначе говоря, у них нет ни общего цвета, ни общего размера, ни общей формы… Единственное, что может быть общего между двумя объектами, есть общее название. Сюртук и сапог оба в той мере черны, в какой мы их называем черными…[с. 69].
У. Джеймс продолжает и дополняет Дж. Милля:
…в этом взгляде совершенно упущено из виду то обстоятельство, что согласно ему же нельзя дважды применить одно и то же название. Что означает концепт «то же»? …Называя два объекта теми же, мы хотим сказать или 1) что при сравнении их между собою мы не обнаруживаем никакой между ними разницы, или 2) что в известных операциях они могут один замещать другой, причем в обоих случаях получится тот же результат [с. 69].
Если, например, рассмотреть под микроскопом или увеличительным стеклом два совершенно одинаковых на вид листа этой книги, даже если просто осветить их ярким светом и поэкспериментировать с углом его падения на лист, окажется, что поверхность одного листа совсем не такая однородно белая, как казалось. На ней вдруг появятся пятна: темные, белые и ярко-белые, а если осветить лист ультрафиолетовым светом, могут появиться и другие различия. Это и неудивительно, так как поверхность, состоящая из множества спрессованных волокон, естественно, отличается даже в двух соседних точках одного листа бумаги и отражает множество световых волн в широком диапазоне, воспринимаемом нами как белый свет. Можно сказать, что из-за особенностей нашего восприятия складываются условия для появления «одних и тех же» свойств у разных объектов в силу сходства наших психических репрезентаций этих объектов. Об идентичности или тождественности физических объектов, возможно, допустимо говорить только на уровне элементарных частиц, и то лишь потому, что мы мало что об этом уровне знаем. На моделируемом сенсорно макроуровне мы всегда имеем дело с разными физическими объектами, хотя многие из них и кажутся нам совершенно одинаковыми.
Есть еще одно обстоятельство, способствующее появлению у объектов одинаковых свойств, – психологическое. Сходные ощущения одной модальности обозначаются одним понятием, что исходно предполагает их идентичность, хотя на самом деле они разные. Например, ощущение гладкости. Гладкая кожа, гладкая фарфоровая чашка, гладкий лист бумаги и т. д. различаются между собой. Однако мы так привыкли не обращать внимания на незначительные различия своих ощущений, что благодаря общему понятию легко объединяем множество сходных ощущений в одно. Так возникает твердое, холодное, голубое и т. д. в качестве обозначений якобы сходных неких объективных свойств физических объектов – своего рода инвариант, якобы существующих в физической реальности. Общее понятие заставляет нас считать, что разные объекты с «общим» свойством вызывают у нас одинаковые ощущения, хотя это и не так. Всякое возникающее у человека ощущение уникально, как и любое другое психическое явление. М. Мерло-Понти [1999, с. 277] пишет, что всякое ощущение является «первым, последним и единственным в своем роде». На то, что ощущения не повторяются, а «повторяется только объект», указывает еще У. Джеймс [2003, с. 159–161].
Вообще-то и объект не повторяется, так как его образ и ощущения, вызываемые им, и есть этот самый объект. Повторяется лишь наша внутренняя модель-репрезентация объекта, извлекаемая всякий раз из памяти. Впрочем, и ее идентичность самой себе лишь субъективна. Мы принимаем за идентичность образа объекта или вызываемого им сейчас у нас ощущения субъективный факт идентификации, факт непроизвольного и непонятного пока по своим механизмам отождествления новых образов восприятия объекта с хранящимися в памяти его образами-воспоминаниями.
У. Джеймс [2003, с. 162] пишет, что лишь из-за нашей небрежности мы приходим к предположению, что и наши идеи об объектах одни и те же. Ни один наш образ или идея не идентичны другим.
Когда повторяется тождественный факт, мы должны думать о нем по-новому, видеть его под несколько иным углом, постигать его в отношениях, отличных от тех, в которых он появился в предыдущем случае. И процесс, благодаря которому мы узнаем его, есть мысль «о нем в этих отношениях», мысль, слитая с сознанием всего, что мы знали о нем прежде [с. 162].
То, что в литературе обозначается понятием качество или свойство, естественным образом разделяется по крайней мере на две большие группы явлений. Одни из них (явления сенсорные) считаются «физически присущими объекту» и репрезентируются нам чувственно с помощью ощущений. Другие свойства трудно, а порой и невозможно непосредственно смоделировать сенсорно, и они конституируются вербальным мышлением. Например, особые физические состояния объектов: хрупкий, больной, старый, тугой и т. п. Или, например, состояния человека: спокойный, возбужденный, встревоженный, сонливый и т. д. Или, наконец, результат сравнения двух объектов, выявляющий отношения между ними: большой – маленький, высокий – низкий, глубокий – мелкий и т. п. Мы способны сравнивать сенсорные модели двух и даже большего количества объектов и в процессе такого сравнения улавливать как сходство сенсорных моделей, так и особенности их различий. На основе выявленных между сенсорными моделями различий сознание строит новые, уже вербальные модели-конструкции: А больше В и С; А – большой, используя новые понятия – больше и большой. Так появляются новые оценочные или сравнительные свойства объектов.
С помощью вербального моделирования сложных аспектов реальности и построения вербальных конструкций, превращающихся в значение новых понятий, формируются и другие понятия, обозначающие уже не только сравнительные, но и иные сложные свойства объектов: горючесть, растворимость, тугоплавкость, электропроводность и др. Например: растворимость – это свойство предмета исчезать при погружении его в воду. Способность сознания делать из наблюдений за окружающей реальностью выводы, представляющие собой модели этой реальности за период времени, позволяет сознанию не просто моделировать реальность, но и открывать в ней новые, недоступные непосредственному чувственному моделированию аспекты.
Элеонора Рош [Е. Rosch, 1978, с. 41–42] отмечает, что признаки объектов, которые изначально рассматривались как «объективно существующие в окружающем мире», в последующем уже не оценивались так. Например, некоторые атрибуты, такие как «сиденье» для «стула», не могли быть значимыми для тех, кто не знает, что такое стул. Такие признаки, как «на нем едят», для объекта «стол» были функциональными и требовали знаний о людях, их действиях и реальном мире для того, чтобы понимать их. Оказалось, что выделение признаков объектов является сложной деятельностью, способность осуществлять которую появляется у испытуемых только после образования системы категорий.
Существует множество свойств предметов, которые являются результатом построения сознанием специальных вербальных конструкций. Например: глубокий – тот водоем, высота столба воды в котором от поверхности до дна больше, чем в других водоемах, с которыми он сравнивается; квадратный – располагающийся на плоскости и имеющий четыре равные стороны и угла; тугоплавкий – объект, переходящий в жидкое состояние при большей температуре, чем другие, сходные с ним объекты, и т. д. и т. п. Такого рода свойства (признаки) требуют для своего формирования предварительных мыслительных операций – умозаключений, а потому могут рассматриваться как весьма условно существующие непосредственно в физическом мире.
Наряду с сенсорно моделируемыми свойствами зерен риса, например белый, безвкусный, твердый и т. д., существуют еще и другие их качества, моделируемые вербально, хотя исходно тоже на чувственной основе: легкий, маленький, сырой, рассыпчатый, всхожий, засухоустойчивый и т. д. Например, значением понятия засухоустойчивый может быть такая вербальная конструкция: дающий всходы, устойчивые по отношению к недостатку атмосферных осадков.
У. Эко (2005) пишет:
«Быть стекловидным» – это некое качество, но реагировать определенным образом на определенные стимулы – это нечто более похожее на поведение или на последовательность фактов, подтверждающих некую гипотезу [с. 317–318].
Иными словами, некоторые качества, моделируемые с помощью вербальных конструкций, даже более похожи на изменения объектов (их действия) или «поведение» объектов, по терминологии автора.
М. Коул и Сильвия Скрибнер [1977, с. 126–127] отмечают, что, согласно Дж. Брунеру, в ходе развития понятий ребенок переходит от одних свойств предметов, которыми он пользуется как основой для определения их сходства (авторы называют это свойством-критерием), к другим. Очень маленькие американские дети склонны считать предметы тождественными на основе их перцептивных свойств, таких как цвет, величина, форма или расположение. По мере интеллектуального развития происходит ослабление доминирования перцептивных свойств и ребенок начинает строить классификацию на основе функциональных качеств, например на основе того, что могут делать данные предметы или что может с ними делать человек.
Ребенок начинает также подводить предметы под общее название класса, постепенно приближаясь к «настоящим понятийным группировкам», в основе которых лежит какое-то одно общее свойство всех предметов, входящих в данный класс. Это тоже неудивительно, так как у ребенка начинают формироваться понятия, обозначающие свойства объектов, в качестве значений которых выступают уже не чувственные модели-репрезентации, а вербальные конструкции, репрезентирующие то, что могут делать данные предметы, или то, что может с ними делать человек.
Итак, многие свойства объектов, которые, как принято считать, мы воспринимаем потому, что они присущи объектам, представляют собой созданные человеческим сознанием психические конструкции, конституирующие особые абстракции, которые принято рассматривать как свойства объекта.



