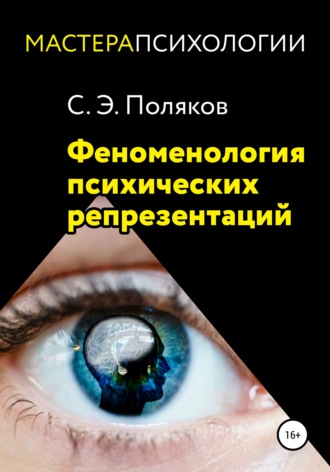
Сергей Эрнестович Поляков
Феноменология психических репрезентаций
1.7.8. Сущность моделей-репрезентаций
Если мельком бросить взгляд на знакомого и незнакомого человека, то можно заметить, что мгновенный образ восприятия знакомого сопровождается чем-то, делающим этот образ «наполненным», тогда как образ восприятия незнакомого, метафорически выражаясь, – «пустой». Это «наполнение» первого образа и есть модель-репрезентация знакомого человека. По сути дела, она представляет собой известное нам значение данного перцептивного образа. Нельзя, конечно, сказать, что значения у мгновенного зрительного образа восприятия незнакомого человека совсем уж нет, но оно содержательно несопоставимо со значением образа восприятия знакомого. Г. Райл (1999) пишет:
Когда я смотрю на стоящий передо мной портрет человека, мне часто кажется, что передо мной сам этот человек, хотя это не так и, может статься, он давно уже умер. Я не стал бы хранить этот портрет, если бы он не отвечал этой функции [с. 247].
Действительно, почему лежащий передо мной объект – листок бумаги с фотографией знакомого мне человека – вызывает в моем сознании представление о другом объекте – самом этом человеке? Происходит это потому, что образ восприятия данного искусственного объекта, выступающего как иконический знак изображенного на фотографии человека, актуализирует в моем сознании устойчивую психическую конструкцию – модель-репрезентацию основного объекта – конкретного, известного мне человека. Иначе я тоже не стал бы хранить эту фотографию, так как она была бы для меня просто раскрашенным листком бумаги.
Э. Мах (2005) замечает:
Мой друг может надеть новый сюртук, у него может быть и веселое выражение лица, и грустное. Самый цвет его лица может изменяться при перемене освещения или под влиянием чувств, испытываемых им. Вся фигура может изменяться временно, при движении или надолго. Но сумма того, что остается постоянным, бывает всегда так велика сравнительно с постепенными изменениями, что эти последние стушевываются. При всех описанных изменениях моего друга он все же остается тем самым другом, с которым я ежедневно совершаю свою прогулку. …Дело идет здесь о сумме постоянных элементов, к которым прибавляются новые и из которых недостающие вычитываются [354, 50].
Целесообразная привычка обозначать постоянное одним именем и обобщать его в одной идее, не анализируя каждый раз составных его частей, может оказаться в своеобразном конфликте со стремлением к разделению этих последних. Темный образ постоянного, не изменяющийся заметным образом с выпадением той или другой его составной части, кажется чем-то, что существует само для себя. Ввиду того что можно отделять от постоянного каждую его составную часть в отдельности без того, чтобы образ перестал представлять весь комплекс и мог бы быть по-прежнему узнан, кажется, что если отделить от него все составные части, то все же кое-что еще останется [с. 52].
В каком бы ракурсе мы ни посмотрели на хорошо знакомый объект, например на свой дом, мы его, как правило, неизменно узнаем, даже несмотря на то, что возникающие при этом образы могут сильно различаться и посторонний человек, увидевший фотографии того же дома в тех же ракурсах, будет уверен, что видит разные объекты. Почему мы узнаем знакомый объект, даже если он предстает перед нами в самых неожиданных видах?
Только потому, что обладаем устойчивой психической конструкцией, репрезентирующей нам данный предмет, представленный в сознании в виде бесчисленного множества визуальных образов воспоминания и представления, возникших в результате восприятия его со всех мыслимых позиций и в совершенно разных условиях. И конструкция эта актуализируется любыми, даже сильно различающимися перцептивными впечатлениями, вызываемыми у нас данным объектом.
Она включает в себя не только множество визуальных образов воспоминания воспринятого нами в прошлом объекта, но и «итоговые», иллюстрирующие объект в целом, образы его представления, в которых невидимые для глаза части объекта «видны» нам столь же хорошо, как и непрозрачные передние поверхности объекта и сквозь них. В результате мы как бы «видим» непрозрачные объекты насквозь, «видим» их внутренние части.
Ж.-П. Сартр (2002) пишет:
…когда я мыслю куб в конкретном понятии, я мыслю шесть его сторон и восемь углов одновременно, мыслю его углы прямыми, а стороны квадратными. Я нахожусь в центре своей идеи, сразу схватываю всю ее целиком. …Я могу мыслить конкретные сущности в одном-единственном акте сознания. …Речь идет о радикально различных феноменах: один из них – это само себя сознающее знание (модель-репрезентация объекта. – Авт.), сразу же помещающееся в центре объекта, другой – синтетическое единство множества явлений, ознакомление с которыми осуществляется постепенно (совокупность образов восприятия объекта. – Авт.) [с. 59–60].
Феноменологически модель-репрезентация объекта, как я уже говорил, представляет собой совокупность образов воспоминания и представления, ассоциированных между собой. Часто она включает в себя образы представления, созданные сознанием на основе образов воспоминания, измененных дополнительным, в том числе вербальным, знанием об объекте.
Э. Кассирер (2006) указывает на важнейшее обстоятельство:
Если зададим себе вопрос, что следует разуметь под трехмерным протяженным телом, то мы – как это показывает в одном месте Гельмгольц – психологически в самом деле приходим лишь к ряду сменяющих друг друга отдельных зрительных образов. Однако более точный анализ показывает, что из одной только самой по себе взятой смены всех этих образов, сколько бы мы ни допускали таковые, никогда не могло бы получиться представление телесного объекта, если бы не присоединялась к ней мысль о правиле, сообразно которому каждому отдельному образу указуется определенное место и положение в совокупном комплексе. Представление стереометрической формы играет в этом смысле всецело роль понятия, составленного из большого ряда чувственных образов созерцания, «понятия, которое, однако, само связуется не посредством словесно выразимых определений, которые мог бы конструировать геометр, а связуется лишь посредством живого представления закона, согласно которому эти перспективные образы следуют друг за другом» (цитата Гельмгольца). Но это расчленение посредством понятия означает вместе с тем, что различные элементы здесь не только лежат друг с другом рядом как части агрегата, а что каждый из них оценивается нами соответственно его систематическому значению [с. 330–331].
Действительно, это самое «представление стереометрической формы, играющее роль понятия, составленного из большого ряда чувственных образов созерцания», и есть сенсорное понятие (правильнее сказать – предпонятие). Мне думается, однако, что здесь надо говорить не о каких-то «правилах», а об особых интегрирующих множество разных образов воспоминания объекта образах его представления, входящих в модель-репрезентацию объекта. Благодаря этим своего рода «итоговым», «обобщающим» и репрезентирующим объект в целом образам объект сразу и во всех ракурсах и разрезах становится доступен сознанию, что позволяет, например, нам «увидеть» мысленно закрытые стенами части дома вместе с реально видимыми наружными его элементами. Об этом весьма удачно пишет также М. Мерло-Понти (1999):
…я вижу соседний дом под некоторым углом, его же с правого берега Сены видят по-другому, иначе его видят изнутри или совсем иначе – с самолета; дом как таковой не совпадает ни с одной из этих явленностей, он, по словам Лейбница, есть ортогональная проекция этих и всех возможных перспектив, некое положение без перспективы, из которого все они могут происходить, – дом, видимый ниоткуда… Наша первоначальная формулировка должна быть пересмотрена: сам дом – это не дом, видимый ниоткуда, но дом, видимый отовсюду. В завершенном виде объект сверхпрозрачен, он пронизан наличной бесконечностью взглядов, которые перекрещиваются в его глубине и ничего не оставляют там скрытым [с. 101–103].
То, что М. Мерло-Понти называет «сам дом», есть мономодальная визуальная модель-репрезентация дома. Из множества проекций наше сознание формирует итоговый целостный образ воспоминания-представления объекта, входящий в его модель-репрезентацию. М. Мерло-Понти (1999) продолжает:
…чтобы нам явился абсолютный объект, объект этот должен стать бесконечностью различных перспектив, слившихся в одном-единственном видении, обладающем тысячей взглядов [с. 105].
Благодаря имеющейся у нас модели-репрезентации видимый нами дом – это совершенно не тот объект, который репрезентируют нам образы восприятия сейчас. Точнее, тот дом, который я «вижу» сейчас, – это совсем не тот объект, который другой наблюдатель, незнакомый с объектом дом, сейчас реально увидел бы из этого положения. Я вижу данный дом именно как конкретный известный мне дом только потому, что уже множество раз видел его и похожие на него дома прежде. И все эти образы воспоминания участвуют в формировании моего теперешнего его целостного образа восприятия. Образ дома, который я сейчас вижу перед собой, – это не то, что увидел бы человек, никогда прежде не имевший дела с домами. Не некая изогнутая рельефная поверхность, а видимый и, самое главное, одновременно вспоминаемый и представляемый мною дом, существующий в моем сознании в виде объема, включающего в себя множество самых разных других объектов: окон, ламп, стен, людей, водопроводных труб и т. п.
Модель-репрезентация объекта не является чем-то неизменным и статичным. Она постоянно видоизменяется. Появившись в сознании какой-то своей частью, она как бы «течет», ее элементы сменяют друг друга. Например, возникающая в моем сознании модель-репрезентация моей собаки репрезентирует мне непрерывно двигающийся объект, который то бежит, то играет с мячом, то лежит, то ест и т. д. Даже модель-репрезентация неподвижного вроде бы дерева тоже изменяется. Его листья колышутся под ветром, а ветви гнутся, поворачиваются к солнцу или могут сломаться под изгибающей их рукой. Таким образом, модель-репрезентация объекта представлена совокупностью образов воспоминания и представления этого объекта в динамике его возможных изменений. Модель-репрезентация объекта, возникнув в сознании, постоянно дополняется в последующем при каждом новом столкновении с данным или сходным объектом. А в формировании нашего нового актуального образа восприятия участвуют не только непосредственно перцептивные впечатления, но еще и модель-репрезентация воспринимаемого объекта, если она уже есть.
Э. Кассирер (2006) цитирует Э. Маха:
Тело… выглядит иначе при каждом другом освещении, доставляет другой оптический образ при каждом изменении его положения в пространстве, дает при каждом изменении температуры другой осязательный образ и т. д. Но все эти чувственные элементы так связаны друг с другом, что при том же положении, освещении, температуре возвращаются одни и те же образы. Следовательно, дело здесь только в связи чувственных элементов. Если бы можно было измерять все чувственные элементы, то мы сказали бы, что тело состоит в исполнении известных уравнений, имеющих место между чувственными элементами [с. 297].
Э. Кассирер (2006) делает важнейший вывод:
То, что связывает многообразные содержания представления в одну основную психическую форму, то не может заключаться ни в одном из этих содержаний, а также в простом агрегатном соединении их. Здесь мы, скорее, имеем перед собой новую функцию, которая в то же время воплощается в некоторое самостоятельное образование, обладающее определенными свойствами. Надо признать за эмпирический факт наличность подобных образований и получающийся благодаря этому прирост в содержании независимо от тех теоретических предпосылок, исходя из которых можно его толковать (курсив мой. – Авт.) [с. 381].
Это целое нигде не представляет собой только безжизненного отпечатка отдельных чувственных восприятий, а всегда представляет собой конструктивное построение, совершающееся с соблюдением определенных общих основных правил [с. 332].
Это целое выражается в форме нового психического явления, новой сущности – сенсорной модели-репрезентации объекта.
У. Эко (2005) обсуждает ту же тему:
Сартр замечает, что никакой существующий объект никогда нельзя свести к конечному ряду проявлений, потому что каждый из них соотносится с постоянно меняющимися субъектами восприятия. Объекты не только имеют различные… (оттенки, облики), но и каждый (из них. – Авт.)… может быть увиден с различных точек зрения. Чтобы дать определение объекта, его (объект) следует соотнести со всем рядом его возможных проявлений. Таким образом, традиционный дуализм «сущности» и «явления» заменяется на оппозицию конечного и бесконечного, причем бесконечное помещается в самую сердцевину конечного [с. 105–106].
Действительно, сформированная сознанием сенсорная модель-репрезентация придает «конечность проявления» «бесконечной сенсорной сущности» объекта. Как только она сформировалась в сознании как сущность, новые образы восприятия объекта, число которых действительно бесконечно, уже ничего в ней принципиально не меняют, а лишь дополняют. У. Эко (2005) цитирует М. Мерло-Понти, который спрашивает:
Может ли нечто вообще представить себя нам в истинном виде, если синтез этого «нечто» никогда не имеет завершения? …Могу ли я воспринимать мир так, как я воспринимал бы индивида, актуализирующего свое собственное существование, если ни одна из перспектив, в которых я могу его увидеть, его не исчерпает, и горизонты всегда остаются открытыми?. Вера в вещи и в мир может означать лишь презумпцию завершенности [их] синтеза – однако подобная завершенность оказывается невозможной в силу самой природы тех перспектив, которые надо [было бы для этого] соединить [в едином взгляде], потому что каждая из них своими горизонтами отсылает вновь к другим перспективам… Сознание, которое обычно считается сферой ясности, на самом деле, напротив, есть именно сфера неопределенности [с. 106–107].
Именно психическая модель-репрезентация «исчерпывает» и «завершает» объект. Именно она придает конечность и ограниченность бесконечно изменчивым сенсорным элементам окружающего нас мира. И она же конституирует объект в сознании. Без нее сознание утонуло бы в бесконечной череде меняющихся репрезентаций даже одного любого объекта реальности. Благодаря единству апперцепции сознание строит из бесконечных рядов чувственных образов завершенные, конечные чувственные же репрезентации вычленяемых и конституируемых им сущностей, формируя тем самым вокруг себя конечный, ограниченный завершенный мир, хотя он «в себе самом» по сути своей – незавершенный, бесконечный и безграничный.
Собирательный зрительный образ объекта (мономодальная модель-репрезентация) может быть конкретным – визуальная модель-репрезентация именно этого стула – или абстрактным – визуальная модель-репрезентация стула вообще. Из-за того что абстрактный образ объекта включает в себя множество конкретных образов воспоминания и представления сходных объектов, например треугольников, абстрактный образ треугольника – это, скорее, как говорил Локк:
…общая идея треугольника, который должен быть ни прямоугольным, ни равносторонним, ни равнобедренным, ни разносторонним, а каждым из них сразу и ни одним из таковых в отдельности [цит. по: У. Джеймс, 2003, с. 330].
Однако «общая идея» в этом случае есть не идея вовсе, а собирательный образ воспоминания и представления всех увиденных ранее треугольников, которые и есть то, что называют «абстрактным образом» треугольника вообще.
Б. Рассел (2000) пишет:
Мы так привыкли судить о «реальной» форме вещей и делаем это так необдуманно, что начинаем полагать, будто действительно видим их реальную форму. На самом же деле – как это знает всякий, пытавшийся рисовать, – данная вещь кажется имеющей различную форму при изменении точки наблюдения. Если наш стол «действительно» прямоугольный, то он с большинства точек наблюдения будет казаться нам имеющим два острых угла и два тупых. …Если обе противоположные стороны равны, то ближайшая к нам сторона будет казаться большей. Обыкновенно, смотря на стол, мы не обращаем внимания на все это, потому что опыт научил нас конструировать его «реальную» форму, исходя из кажущейся, и еще потому, что в практической жизни человека интересует только «реальная» форма. Но «реальная» форма – не то, что мы видим: это нечто лишь выводимое из того, что мы видим. А то, что мы видим, непрерывно изменяет свою форму, когда мы двигаемся… [с. 158–159].
Но где же тогда существует эта самая «реальная» форма? По-видимому, есть все основания сказать, что она существует только в нашем сознании, в модели-репрезентации данного конкретного объекта, которая и включает в себя эту самую «реальную» форму данного объекта, которую мы никогда не видим в окружающем нас мире. Б. Рассел (2000) подчеркивает, что такие же трудности возникают, когда мы имеем дело с разными органами чувств, например с осязанием:
Мы всегда ощущаем твердость стола и чувствуем, что он сопротивляется давлению, но получаемое нами ощущение зависит от того, насколько сильно мы надавливаем на стол и какой частью тела мы это делаем; и, следовательно, различные ощущения, зависящие от различного надавливания разными частями тела, не могут непосредственно обнаруживать нам определенные свойства стола, но в лучшем случае могут быть лишь знаками некоторых его свойств, являющихся иногда причинами всех этих ощущений, но не проявляющихся вполне ни в одном из них [с. 159].
Б. Рассел (2000) прямо говорит, что:
…реальный стол, если таковой вообще существует, не тот, что мы воспринимаем в непосредственном опыте посредством зрения, осязания и слуха. Реальный стол, если тот существует, не является вообще предметом нашего непосредственного познания, но должен быть выводом из того, что непосредственно познается. Отсюда и возникают два крайне трудных вопроса, а именно: 1) существует ли реальный стол вообще? 2) если да, то к какому виду объектов он принадлежит? [С. 159.]
Завершает свою весьма последовательную и серьезную, но, на мой взгляд, безуспешную попытку доказать наличие «общедоступных нейтральных предметов», которые существуют дополнительно к «чувственным данным», Б. Рассел (2000) заключением:
…необходимо признать, что мы никогда не сможем доказать существование других вещей, кроме нас самих и наших восприятий [с. 168].
Если же вспомнить то обстоятельство, что у каждого человека, сидящего за общим столом, есть своя уникальная сенсорная модель этого стола и уникальная модель-репрезентация стола вообще, а объединяются все эти уникальные чувственные модели лишь общим для всех людей понятием стол, то становится очевидным, что общность «общедоступного предмета» стол, да и сам этот предмет существуют лишь благодаря сходству сенсорных моделей у разных людей и благодаря наличию общего для всех понятия стол. Это, впрочем, вовсе не противоречит факту объективного существования той части «реальности в себе», которая является всем наблюдателям в форме их субъективных чувственных репрезентаций, обозначаемых понятием стол.
Имеет смысл еще раз вернуться к вопросу Б. Рассела, остается ли от стола что-нибудь еще, что не является чувственными данными, когда мы выходим из комнаты? Формулируя вопрос иначе, можно спросить: действительно ли стол – лишь продукт человеческого сознания, исчезающий, если человек перестает его воспринимать?
Я думаю, что в специфической перцептивной форме и в форме субъективной модели-репрезентации, в которых он репрезентирован каждому из нас, а тем более в форме понятия стол он действительно только продукт нашего сознания. Но вместе с тем в какой-то иной, принципиально недоступной для нас форме та часть «реальности в себе», которую наше сознание конституирует в виде субъективной репрезентации стола, безусловно, существует вне нас и независимо от нас.
Модель-репрезентация объекта – это не просто чувственная модель предмета. Это еще и модель отношений данного объекта к другим объектам и изменений его самого во времени, то есть это нечто, выходящее за пределы сенсорной модели объекта. Это в том числе и то, что привносится в сенсорную модель объекта вербальным знанием о нем. То, что превращает, например, нечто твердое, холодное и блестящее в небольшой металлический предмет, в круглую монету и, наконец, в универсальное средство обмена.



