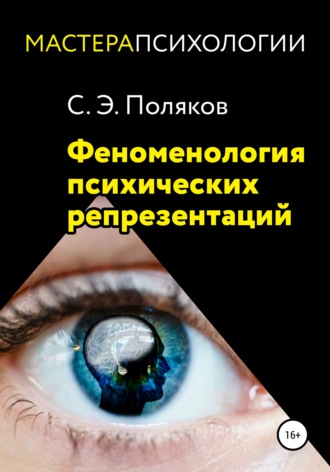
Сергей Эрнестович Поляков
Феноменология психических репрезентаций
Авторы то ли не замечают, то ли не обращают внимания на то обстоятельство, что «деление понятия» – это не разделение (классификация) слов или даже понятий, а разделение сущностей, обозначаемых понятиями. Соответственно, здесь вступают в силу не законы логики, а законы окружающей человека реальности. Проблема дополнительно осложняется тем, что далеко не все подвергаемые «делению» сущности, как я уже отмечал, присутствуют в физической реальности. Многие из них являются сущностями вымышленными, гипотетическими или выполняют служебные функции и присутствуют лишь в объективной психической реальности. Рассуждения логиков о якобы доступной им возможности «деления понятий» я даже не берусь комментировать.
М. С. Строгович (2004) пишет:
…основание классификации должно быть строго научным объективным, должно представлять собой признак, который… является определяющим [с. 138].
Вопрос: как найти такой «определяющий признак» и есть ли он вообще? Впрочем, сам автор, понимая данную трудность, замечает [с. 142], что все классификации имеют относительный характер.
Принято считать, что понятия образуются путем таких логических приемов, как анализ и синтез, абстракция и обобщение[112]. Однако «логического» в этих приемах – лишь то, что традиционно все они рассматриваются в курсе логики, а не психологии.
То, что логика разработала и инкорпорировала в себя большой раздел общей психологии – психологию понятий и конструкций из них, существенно повысило авторитет логики. Однако от этого ни конструкции из понятий, ни способы их образования, ни операции мышления с понятиями не стали логическими.
2.5.3. Абстрактные понятия и чувственные репрезентации
Вопрос о роли и месте чувственных репрезентаций в структуре абстрактных понятий широко и давно дискутируется. М. Мерло-Понти (1999), например, полагает, что:
…ни одно из них (понятий. – Авт.) не может быть понято без соотнесения со структурами зрительного восприятия [с. 184].
В. В. Петухов [2004, с. 635] замечает, что вопрос о значимости чувственных репрезентаций для абстрактных понятий обсуждается и сейчас, хотя впервые демонстрации представленности чувственных элементов в абстрактных понятиях проводились еще сторонниками ассоцианизма (Э. Титченер). Ссылаясь на А. Пэйвио, В. Ф. Петренко [2005, с. 42–43] тоже пишет, что даже абстрактные понятия имеют некоторую «чувственную привязку».
Очевидно, что есть понятия с разной степенью абстрактности. В том смысле, что значениями одних из них являются собирательные сенсорные модели-репрезентации реальности, тогда как значениями других – уже исключительно вербальные конструкции, которые лишь как-то косвенно иллюстрируются отрывочными визуальными образами. Примером первых являются такие понятия, как стул и дерево. Примером вторых – философия (познание сущего, вечного [Платон]), абстракция (…нечто неосязаемое, рассматриваемое без конкретных примеров… [Большой толковый психологический словарь, 2001, 14]), демография (изучение структуры человеческих популяций), злокачественный (характеристика быстро прогрессирующего болезненного состояния) и т. д. Среднее положение между ними занимают, например, такие понятия: зверь (дикое, обычно хищное животное, представляющее собой угрозу для человека), цвет (особое, визуально воспринимаемое качество предметов) или клинический (имеющий отношение к клинике) и т. п.
Вопрос о том, что представляют собой «абстрактные идеи» и существуют ли обозначаемые ими сущности, подробно рассматривался еще Д. Беркли (2000), который в итоге замечает, что он не в состоянии усилием мысли образовать, например, абстрактную идею «или белого, или черного, или краснокожего, прямого или сгорбленного, высокого, низкого или среднего роста человека». Правильнее, однако, было бы сказать – не в состоянии создать абстрактный образ предмета без его качеств или образные качества без самого образа предмета. Впрочем, не все считают так, как Д. Беркли. Р. Вудвортс (1950), например, пишет:
…интроспективное исследование показало, что иногда вещи могут быть представлены и без своих качеств. Коффка доказал это в эксперименте, в котором экспериментатор называл слова, а испытуемый пассивно ждал появления образа (K. Koffka, 1912). Обычно эти образы были иллюстрациями значения данного слова-стимула. В полученной Коффкой большой коллекции данных некоторые образы репрезентировали объекты без полного комплекта качеств: «образ монеты, но без определенного номинала». «Образ животного, какого вида животного, я не знаю, но это было животное, из которого может быть получена пушнина». «Образ числа 1000, но с неопределенным числом нулей». Сходно при чтении, где можно ожидать быстрой смены образов, иллюстрирующих значение, такие образы оказываются более бедными и мимолетными [с. 48].
Чтобы понять полученные К. Коффкой результаты, проще всего провести аналогичные интроспективные опыты самостоятельно. Я мысленно с закрытыми глазами произношу слово «монета», и в моем сознании возникает последовательность кратковременных зрительных образов представления монет из белого и желтого металла с гербом на одной стороне, рифленой или гладкой торцевой поверхностью и номиналом на другой стороне. Вероятно, из-за контекста в сознании появляются в том числе образы монет со стертым от времени или непропечатанным при изготовлении номиналом. При этом я отчетливо «вижу» плоскую пустую серебристую поверхность монеты, на которой обычно присутствовали выпуклые цифры номинала. Противоречит ли наличие образа такой «деноминированной» монеты точке зрения Д. Беркли и является ли это отсутствием конкретного качества, как полагает Р. Вудвортс? Скорее это отсутствие у объекта лишь ожидаемого исследователем варианта конкретного качества при наличии другого, сходного и замещающего его варианта качества. Отсутствие цифры, обозначающей номинал, – это тоже своего рода номинал, пусть и неопределенный, то есть это сохранение качества «номинированности».
Вторая последовательность мгновенных образов, иллюстрирующих понятие животное, тоже легко возникает в моем сознании в виде образов существ, покрытых шерстью и даже вовсе без шерсти – что-то вроде дельфина. Причем образы, возникшие в сознании в ответ на появление в нем понятия животное, как и при появлении понятия монета, не исчерпываются лишь одним образом воспоминания-представления, а представлены множеством мимолетных образов сходных в чем-то объектов. Причем возникают не только образы тел, покрытых мехом и непонятно кому принадлежащих, но и образы частей этих тел, например чьей-то черной лапы с когтями.
Образ числа 1000 с неопределенным количеством нулей, пожалуй, еще более понятен, потому что у меня, например, при мысленном воспроизведении значения понятия тысяча всплывают и образы 1000, и образы множества разных по форме и размерам нулей и единиц, хотя среди этих возникающих в сознании образов представления преобладают все-таки образы единицы с тремя нулями. Учитывая то, что образы, иллюстрирующие понятия монета, животное и число 1000, возникают в сознании в рамках соответствующих собирательных и достаточно аморфных моделей-репрезентаций, включающих в себя самые разные образы многих и достаточно сильно отличающихся друг от друга объектов, говорить о каком-то якобы единственном образе воспоминания-представления не приходится. Речь может идти лишь о последовательностях зрительных и даже слуховых образов представления и воспоминания, каждый из которых репрезентирует свой вариант объекта или даже его фрагмента. Среди тех образов, которые возникли в моем сознании, например, я зафиксировал в том числе образ представления половины монеты, стоящей на ребре в какой-то щели, и именно ребро монеты было представлено особенно четко, тогда как ни номинала, ни герба на монете не было видно вовсе.
Р. Вудвортс (1950) замечает:
Беркли отрицает возможность обобщенных образов, или, как он их называет, общих понятий или абстрактных идей [с. 47].
Я думаю, что Д. Беркли прав в том, что нет и не может быть обобщенного, или абстрактного, единичного образа, выступающего в качестве сенсорного значения абстрактного понятия (6). К тому же Д. Беркли совершенно оправданно отрицает возможность существования образов качеств предметов в отрыве от образов самих предметов или образов предметов в отрыве от образов их качеств, хотя делает это, возможно, не очень удачно, распространяя свое отрицание на сами абстрактные идеи, то есть уже на понятия и конструкции из них. Понятие обобщенный, или абстрактный, образ определяется в психологии крайне расплывчато и по-разному: то как образ, составленный из фрагментов многих образов, то есть собирательный, то как отвлеченный, максимально удаленный от реальности, ничем не похожий ни на какой конкретный образ, но при этом единичный.
Однако, как свидетельствует интроспекция, то, что можно было бы назвать абстрактным образом, – это всегда множество образов. Так, значением абстрактного понятия треугольник, например, является не некий невозможный единичный образ треугольника вообще, а целая сенсорная конструкция, включающая в себя множество кратковременных образов представления и воспоминания самых разных треугольников. В «идее треугольника», таким образом, следует различать понятие треугольник и сенсорную собирательную модель-репрезентацию абстрактного треугольника, являющуюся чувственным значением этого понятия.
Рассмотрим, как формируется понятие треугольник. Обычно ребенок сталкивается сначала с визуальными образами треугольника, даже не зная этого понятия. Когда-то он впервые слышит и запоминает, что подобные расположенные на плоскости объекты с тремя углами и тремя сторонами обозначаются словом «треугольник». В результате визуальные сенсорные модели разных треугольников, с которыми он уже имел дело, формируют множество – новую модель-репрезентацию, которая обозначается понятием треугольник. С течением времени, особенно в процессе получения школьного образования, данное множество расширяется, одновременно с этим углубляется и уточняется вербальное значение понятия треугольник, то есть присоединяется вербальная конструкция[113], которая раскрывает на абстрактном уровне значение данного понятия или данной абстрактной идеи (по терминологии Д. Беркли).
Хотя если быть точным, то треугольник – это все же не «абстрактная идея», а понятие. Идея, по моему мнению, – это скорее суждение или даже умозаключение, но не понятие. Идеей можно, например, назвать вербальное значение понятия треугольник. Сенсорным значением этого же понятия является модель-репрезентация той абстрактной сущности, которая обозначается данным понятием, представляющая собой множество образов воспоминания и представления треугольников, с которыми мы имели дело на протяжении нашей жизни. Итак, Д. Беркли, как мне представляется, прав, когда говорит, что абстрактных образов нет.
Тем не менее в психологии широко обсуждаются какие-то единичные абстрактные образы. Даже в Большом толковом психологическом словаре (2001), например, читаем:
Абстрактный… когнитивный процесс… посредством которого абстрактная идея или понятие извлекаются из множества образцов… Результат этого процесса; мысленный образ абстрактного понятия [с. 15].
Р. Л. Солсо (1996) пишет о том, что Фрэнкс и Брэнсфорд (Franks & Bansford, 1971) показывали испытуемому
…фигуры, полученные путем преобразования фигуры-прототипа, и просили оценить, видел ли он их раньше. В этом эксперименте испытуемые ошибочно и с высокой степенью уверенности опознавали прототип как ранее виденную фигуру. Вероятно, это можно объяснить тем, что у испытуемых в результате их опыта с данными экземплярами формировалась абстракция – фигура-прототип. Отсюда можно предположить, что люди формируют абстракции внешних впечатлений и что именно эти абстракции хранятся у человека в памяти [с. 361].
Что собой представляет феноменологически «абстракция – фигура-прототип», автор не поясняет. Однако очевидно, что речь в данном случае идет об образах воспоминания и представления, корни которых трудно отыскать в конкретных перцептивных образах. Это тем не менее не дает оснований считать такие образы абстрактными, так как понятие абстрактный имеет в психологии (а не в быту) достаточно четко очерченное значение и относится лишь к вербальным формам мышления. Так что же такое абстрактные образы и существуют ли они?
Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко (2004) так разъясняют сущность абстракции:
Формальная абстракция состоит в вычленении таких свойств предмета, которые сами по себе и независимо от него не существуют. Такое отчленение и изолированное выражение его результата возможно только в мысленном плане (в абстракции). Так, геометрическая форма тела сама по себе реально не существует и от тела отделиться не может. Но благодаря формальной абстракции она мысленно выделяется, фиксируется, например, с помощью чертежа и самостоятельно рассматривается в своих особых свойствах. Одна из основных функций такой абстракции заключается в выделении общих свойств некоторого множества предметов и в фиксации этих свойств каким-либо знаком (чаще всего словесным или чертежом). Абстракция такого вида называется обобщающей. Комплекс абстрагированных свойств (формальное общее) становится представителем соответствующего класса предметов и позволяет отличать этот класс от всех других (например, все тела прямоугольной формы отличать от тел других форм). Этот комплекс, фиксированный каким-либо знаком, становится его значением [с. 13].
Следовательно, абстрагировать нечто можно вроде бы даже на чувственном уровне, но лишь путем мысленной группировки многих сходных образов одного предмета или ряда однотипных предметов. Возникающая в результате чувственная собирательная модель-репрезентация абстрактного свойства множества сходных образов-объектов, например их прямоугольной формы или белизны, выступает затем как чувственное значение соответствующего абстрактного понятия. Нередко образ слова, выступающий в качестве абстрактного понятия, или образы иных символов, например иероглифов, обозначающих абстрактные понятия, ошибочно рассматриваются исследователями в качестве абстрактных образов. Однако это образы совершенно конкретных физических объектов, которые лишь выступают как символы (знаки) абстрактных сущностей.
Сформированный человеческим сознанием абстрактный психический объект, треугольник например, может быть затем материализован путем создания нового, уже физического объекта – чертежа или макета треугольника, который становится при этом конкретной физической моделью данной абстрактной сущности, созданной сознанием и не существующей вне его. Можно ли считать абстрактным визуальный образ созданного человеком рисунка или чертежа такой абстрагированной им геометрической фигуры?
Конечно, нет, потому что лишь понятия треугольник, прямоугольник, геометрическая фигура являются абстрактными. Изображенные же на бумаге или сделанные из чего-либо макеты соответствующих фигур являются уже конкретными физическими предметами, и их визуальные образы тоже являются образами вполне конкретных предметов. Следовательно, единичного абстрактного зрительного образа представления-воспоминания, который якобы может возникать в моем сознании при мысли о треугольнике (вообще), не существует.
При появлении в моем сознании мысли о треугольнике (вообще) одновременно возникают разнообразные многочисленные кратковременные образы воспоминания-представления разных треугольников и даже их фрагментов, с которыми я сталкивался в течение жизни. Могут сказать, что данные образы нет оснований считать конкретными, так как я не могу вспомнить, когда и где видел эти треугольники. И все же любой возникший в моем сознании образ всегда конкретен, так как единичные чувственные репрезентации – это всегда репрезентации конкретного объекта или явления реальности. Понятие же абстрактный относится исключительно к вербальным репрезентациям. И здесь ощущения и образы выступают лишь как значения и иллюстрации. Исходя из этого, в принципе неверно говорить о возможности наличия абстрактных образов. Следует также различать абстрактные образы, которые не могут существовать вовсе, и комбинированные образы, например фантастические образы единорога или русалки, которые создаются из фрагментов разных конкретных образов и репрезентируют в итоге нечто отсутствующее в физическом мире.
Итак, следует говорить либо о множестве конкретных образов, составляющих собирательную модель-репрезентацию некой абстрактной сущности (белизны, твердости, теплоты и т. д.), выступающую как значение соответствующего абстрактного понятия, либо, если абстрактное понятие не имеет чувственного значения, – лишь об иллюстрирующих его конкретных образах, которые возникают в сознании при мысли о нем, например о треугольнике. Никакой психический образ не может быть абстрактным, так как образ – чувственная модель, а она по определению всегда и только конкретная. По этой причине мы не можем говорить об абстрактных образах, даже если это образы предметов, факт восприятия которых трудно восстановить в памяти, или образы, которые не позволяют идентифицировать предмет.
В быту люди склонны использовать одни и те же понятия при рассмотрении и психических образов, и образов физических объектов, например произведений живописи. Так, к абстрактным изображениям предметов принято относить те, в которых максимально редуцированы индивидуальные, узнаваемые черты конкретного объекта. Это наиболее явно проявляется в таком направлении живописи, как абстракционизм. Большинство исследователей тоже придерживаются, как обычно, «здравого смысла», который, не разделяя образы психические и образы физические, квалифицирует в качестве абстрактных образов все то, что:
…предполагает отказ от фиксации единичного, случайного в пользу вычленения общего, необходимого… [Новейший философский словарь, 1998, с. 2].
Использование одних и тех же понятий приводит к путанице и непониманию того, что образы психические и те физические предметы, которые тоже принято называть в быту образами, например изображения или фотографии людей, шаржи на них и т. п., – совершенно разные сущности (7). По этой причине терминология, применяемая при обсуждении картин, фотографий, портретов или шаржей, непригодна для использования при обсуждении психических образов.
Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001), обсуждая фотографию мецената Амброса Волларда и его же портрет кисти Пикассо (рис. 33), неожиданно противопоставляют «образные представления», к которым относят и фотографию и портрет, «абстрактным представлениям», к которым относят имена (понятия). Авторы пишут:
Если живопись – это образное представление, то имя изображенного – Амброс Воллард – таковым не является. Оно обозначает человека, но не имеет сходства с ним, поскольку имена, так же как и слова, являются абстрактным, а не образным представлением… [с. 351].
Авторы, однако, справедливо отмечают то важное обстоятельство, что любые самые абстрактные образы живописи, то есть абстрактные картины, не являются абстрактными визуальными образами объектов. Следовательно, бытовое понимание, согласно которому абстрактный живописный образ кого-то и абстрактный психический образ – это примерно одно и то же, не может быть принято психологией. Еще раз повторю, что в нашей психике, а потому и в психологии нет и не может быть абстрактных образов. Все образы конкретны. Даже те, которые иллюстрируют абстрактные понятия. На рис. 33, а, б, в приведены, например, все более и более удаляющиеся от оригинала изображения, созданные П. Пикассо, но образы восприятия или представления даже самых далеких из них не являются абстрактными образами в феноменологическом смысле, так как репрезентируют нам конкретные предметы, пусть и являющиеся абстрактными картинами.
Таким образом, можно заключить, что абстрактные образы в живописи – это совсем не то же самое, что абстрактные образы в нашем сознании, так как последних там нет, хотя термины и в том и в другом случае используются одни и те же.
2.5.4. Логические законы и построение вербальных конструкций
Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) пишут:
…в процессе мышления мы комбинируем понятия разнообразными, иногда весьма сложными способами. …Многие философы считали, что наши мысли принимают форму суждений, которые включают в себя субъект (предмет, относительно которого выносится суждение) и предикат (то, что говорится относительно субъекта). Суждения могут быть истинными и ложными, например «Яков любит свистеть»… и «белки едят желуди»… Когда мы размышляем, мы нередко создаем новые понятия и формулируем новые суждения. Но большая часть понятий и суждений уже хранится в памяти, где они образуют наши аккумулированные знания, «базу данных», которая поддерживает и подпитывает наши мыслительные процессы [с. 357].
Логики полагают, что суждение[114] представляет собой связь слов, оно всегда – утверждение или отрицание. Суждение является или истинным (если в нем утверждается то, что есть в действительности, или отрицается то, чего в ней нет), или ложным [М. С. Строгович, 2004, с. 147]. В каждом суждении есть подлежащее (называется в логике «субъект»), сказуемое (называется «предикат») и связка (слово «есть» или «не есть»). Логики утверждают также, что суждение является «логической формой выражения мысли» и «формой мышления» [М. С. Строгович, 2004, с. 145; А. Д. Гетманова, 2005, с. 60]. Если с последним можно согласиться, то согласиться с тем, например, что суждения «Яков любит свистеть» или «белки едят желуди» являются «логической формой выражения мысли», как и любые прочие суждения, трудно, точнее, нельзя, так как в суждениях нет ничего логического, кроме того, что логика начала ими заниматься раньше психологии.

Рис. 33. Портрет кисти Пикассо и фотография торговца живописью Clovis Sagot (а), портрет кисти Пикассо и фотография мецената Амброса Волларда (б), портрет кисти Пикассо и фотография издателя работ Пикассо Henry Kahnweiler (в)
В литературе, рассматривающей суждения, много неясностей, противоречий и небрежного использования терминов. Даже одни и те же авторы, например М. С. Строгович (2004), нередко рассматривают суждения то как предложения и высказывания, то как вербальные конструкции. А. Пфендер [2006, с. 226–238], объясняя отличия суждения, которое он считает «составным утвердительным мыслительным образованием», от утвердительного предложения, говорит о том, что суждение состоит из понятий, тогда как предложение состоит из слов.
В любом случае термины должны употребляться корректно, а раз так, то суждения и высказывания, как и предложения, – это все же языковые конструкции, тогда как мышление оперирует вербальными конструкциями и понятиями. Однако, исходя из сложившейся к сегодняшнему дню практики и для облегчения понимания, имеет смысл использовать в логике понятие мысленное суждение.
В логике суждения делятся на общие, частные и индивидуальные, на утвердительные и отрицательные, на категорические, гипотетические (условные) и разделительные, на проблематические, ассерторические и аподиктические, истинные и ложные и т. д. Выделяются также суждения простые и сложные (состоящие из нескольких простых). Простые суждения разделяются на: 1) суждения свойства (атрибутивные), в которых утверждается или отрицается принадлежность субъекту свойств, состояний, видов деятельности: роза красная, Пушкин не композитор; 2) суждения с отношениями, в которых говорится об отношениях между предметами: слон больше мыши, Сократ старше Декарта; 3) суждения существования (экзистенциальные), в которых утверждается или отрицается существование предметов: есть города, колдунов не существует. Самые простые мысленные суждения представляют собой не что иное, как пропозиции. Для рассмотрения особенностей и различий суждений имеет смысл обратиться к литературе, посвященной логике (см., например: А. А. Ивин, 1999, 2003; А. Д. Гетманова, 2005, 2007 и др.).
Если мысленными суждениями в форме пропозиций психология стала заниматься с 70-х гг. ХХ в. (см.: Дж. Р. Андерсон, 2002), то умозаключения[115] по-прежнему вотчина логиков. В логике не различают мысленное умозаключение – вербальную конструкцию и умозаключение в форме языковой конструкции. Логика обнаружила и исследовала много механизмов построения умозаключений: дедукция, индукция, аналогия, обобщение, абстрагирование, но при этом возвела в абсолют формальный силлогизм. Мысленное умозаключение – это сложная вербальная конструкция (вывод, заключение, предположение и т. д.), которая строится разными способами на основе других вербальных конструкций – посылок. В логике же понятие мысленное умозаключение сужается до «логического умозаключения».
Всегда ли умозаключение – это логическая операция? Нет. Более того, умозаключение вообще может не иметь отношения к мысленной операции с вербальными конструкциями, то есть умозаключение может быть и образным. Например, шимпанзе видит банан, но не может его достать не только подпрыгивая, но и с помощью палки. Тогда обезьяна осматривает помещение, обращает внимание на ящики, которые в нем находятся, укладывает их друг на друга, залезает на них и с помощью палки достает банан (В. Келер, 1930). Возникшая, по-видимому, в ее сознании конструкция из образов ящиков, способная решить возникшую проблему, представляет собой образное умозаключение. В чем и где здесь логика? Ее здесь нет. Мне могут возразить, сославшись на расширительное значение понятия логика, которое отождествляет ее с адекватным, последовательным, аргументированным и эффективным репрезентированием окружающего мира. Тогда я лишь еще раз повторюсь, что это уже совсем не логика, а именно адекватное, последовательное, аргументированное и эффективное репрезентирование, что не одно и то же. И надо называть вещи своими именами.
Наше сознание строит умозаключения и иными способами, например путем замены сенсорной модели вербальной моделью. Так строятся, в частности, описательные вербальные конструкции, например обезьяна достала банан.
М. С. Строгович (2004) пишет:
…умозаключения делятся на две группы – непосредственные… и опосредованные… Непосредственным умозаключением называется такое умозаключение, в котором вывод делается только из одной посылки… Опосредованным умозаключением называется такое умозаключение, в котором из двух и более суждений выводится новое суждение [с. 208].
Мысленное суждение, или вербальная конструкция, состоит из понятий, которые должны сочетаться так, чтобы и она сама (конструкция), и соответствующее ей высказывание или предложение имели смысл. Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) подчеркивают, что:
…многие грамматически правильные предложения абсолютно не поддаются толкованию: «Бесцветные зеленые мысли неистово спят». Это предложение бессмысленно, потому что абстрактные мысли не имеют цвета, а зеленые вещи не бесцветны. …Отсутствие смысла отличает предложения от непредложений. Это различие обусловлено рядом формальных правил. Правила, определяющие, как нужно объединять слова и словосочетания, называются правилами синтаксиса (от греч. «построение, порядок»). …Правила синтаксиса устанавливают, какие элементы должны быть включены в предложение и в каком порядке эти элементы могут появляться. Эти правила также определяют, как группируются слова [с. 413].
Приведенные рассуждения авторов отражают доминирующие в логике, психологии и лингвистике представления о том, что наличие или отсутствие смысла в предложении определяется правилами синтаксиса, грамматики или формально-логическими правилами. А. А. Ивин (1999), например, пишет:
Бессмысленное выражение – это языковое выражение, не отвечающее требованиям синтаксиса или семантики языка. …Более сложный тип бессмысленного представляют высказывания, синтаксически корректные, но смешивающие разные выражения языка. …«Законы логики не тонут в воде», «Цезарь – первое натуральное число» и т. п. [с. 129–130].
Однако то, имеют предложения смысл или не имеют, зависит не от их соответствия неким формальным правилам логики, законам или «требованиям синтаксиса и семантики языка», а от того, являются ли они моделями окружающего реального или даже только возможного мира (который подчиняется понятным нам законам) или таковыми не являются и не могут являться в принципе. Если они соответствуют глобальной сенсорной модели мира, существующего или возможного, которая имеется в сознании человека, и некоему «построению, порядку» реального или возможного мира, то тогда они имеют смысл. В противном случае они бессмысленны и законы логики, синтаксиса, семантики, языка, лингвистики и т. д. здесь ни при чем.
Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг (2001) полагают, что:
…утверждение (суждение) описывает миниатюрный спектакль, в котором глагол – это действие, а существительные – исполнители, причем каждое играет свою роль. В нашем утверждении о девочке – ударе – мяче «девочка» – это действующее лицо, «мяч» – объект действия, а «ударила» – само действие. Работа слушателя, таким образом, состоит в том, чтобы определить, какие актеры играют различные роли в спектакле и каков его сюжет (Healy & Miller, 1970) [с. 412].
Авторы правы в том, что многие суждения представляют собой описания наших чувственных моделей, то есть вербальные модели чувственных репрезентаций окружающего мира.
А. Пфендер (2006) пишет о том же, хотя и совсем в другой плоскости:
Каждому определенному суждению соответствует определенное положение дел. Суждению «сера желтая» соответствует положение дел, состоящее из вещества серы и его желтизны. Суждение проецирует из себя вовне это положение дел. Оно противопоставляет его себе таким образом, что проецируемое положение дел всегда находится вне проецирующего его суждения, всегда остается «по ту сторону» его или же всегда ему «трансцендентно». …Поскольку суждение, проецируя отличающееся от него положение дел, определяет его из себя самого, постольку, следовательно, суждение является первичным, а положение дел – вторичным [с. 228–229]. Такой вывод автора нельзя принять, так как он может быть верным только относительно тех «положений дел», которые недоступны восприятию. Если же они доступны восприятию, а таких большинство, и, следовательно, моделируются сенсорно, то описывающая их вербальная конструкция вторична, а «положение дел», моделируемое сенсорно, первично.
А. Пфендер (2006) полагает, что:
…в любом суждении, выражаемом в языковом утвердительном предложении, следует… различать три уровня… уровень предложений, уровень суждений и уровень проецируемых суждениями положений дел [с. 230].
Последний уровень соответствует тому, что я называю сенсорной моделью реальности. Автор пытается выстроить принципы формирования вербальных моделей, но делает это, исходя из самих моделей, тогда как надо делать, исходя из окружающей человека реальности, для моделирования которой в первую очередь и формируются вербальные конструкции. Он выделяет разные виды вербальных конструкций (мысленных суждений) в соответствии с «полагаемыми видами положения дел». По сути дела, А. Пфендер пытается дать классификацию элементарных вербальных психических конструкций. Эта задача бесконечно сложная, поэтому я даже не буду пытаться здесь ее рассматривать.



