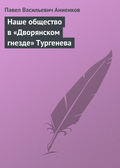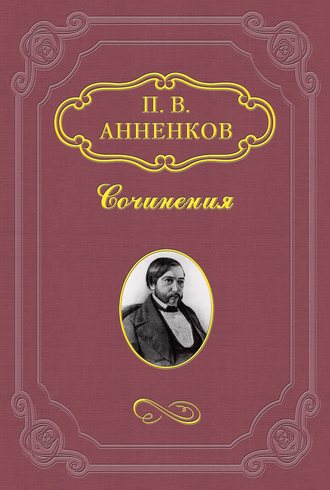
Павел Анненков
Письма из-за границы
XI
Кёльн. 19-го июня 1842 года.
Пишите в Мюнхен; оттуда хочу послать вам рапорт о странствовании по Рейну, об аллеманских государствах{373} и идеях, в них обитающих. Вы знаете, что людей здесь весьма мало, – только идеи да филистеры. До сих пор путешественник, который, по выражению Хлестакова{374}, любит этак пофилософствовать, чувствует весьма ясно и определительно, что плывет по источнику, вышедшему из того огромного резервуара, который называется Парижем. Этот невидимый моральный ток проходит всю Бельгию, разветвляется налево в Голландию, направо в Люксамбург; но тут он и пропадает. В Кёльне другая жизнь, другие головы и другие в них геданкены[40].
Народная синяя блуза пропала, и вместо ее на грациозном корпусе немца появилась куртка, открывавшая моему изумленному глазу порочное устройство германских ног вообще и странные углы того мешка, который начинается на спине тотчас, как куртка оканчивается. Однакож, по закону всемирного равновесия, ничего не может быть потеряно на свете, даже фалда. Итак, все, что утратило в полноте и размерах платье, приобрела трубка. Эта трубка, беспрестанно встречающаяся на улицах, захваченная по верхнему концу сильною тевтонскою челюстью, подвергает иногда близорукого странному оптическому обману: издали кажется, что человек везет тележку. Вместо строго расчисленного французского стола показались снова эти обеды table d'hote[41], где настоящее блюдо, окруженное бесчисленным количеством соусов и приправ, походит на арестанта, препровождаемого с доброй стражей в этап. Нет также кафе, эстаминетов[42] с вечным волнением народа около них, а есть прогулка в садах, где под каждым почти деревом стоит стол, а около него расположилась особнячком целая фамилия, охраняемая домашним пуделем от набега и преступных замыслов посторонних посетителей. Во всю дорогу следил я от скуки за физиологическим изменением женщин. По мере удаления qt Парижа женщина в глазах моих постепенно и видимо теряла хрупкость членов и крепчала. Здесь это существо полное, румяное, переполненное жизнью и здоровьем. Гарнизон здешний опускает от стыда глаза вниз, когда проходит по улицам к вахтпараду, и Беккер мог бы, движимый вдохновением, воскликнуть, как Макбет: «Рождай мне только дочерей, Рейн!»{375} Наконец, уже не увидите вы здесь злостных энергических физиономий, на которых, не будучи Лафатером{376}, можно читать все человеческие страсти (так разборчиво и крупно они написаны) и которые так часто встречаются во Франции и Бельгии. Чем-то тихим, успокаивающим веет от всех здешних фигур. Нигде нет такого несоразмерного количества счастливых лиц. Каждая голова имеет светлые глаза и ими смотрит на вас с неописанным выражением довольства, благополучия, душевного мира и желанного состояния совести{377}. Еще Байрон заметил эту особенность{378}, которая и составляет одну из главных Прелестей рейнских берегов.
Но я скучаю. Особливо чуждо и как-то странно мне, после легкомысленного французского приложения к действительности и настоящей минуте всех современных явлений, встретиться здесь с противоположною крайностью – возведением самых будничных, вседневных вопросов до ученой исторической, философской темы, до положений многознаменательных. Вы скажете: «это очень хорошо». Я тоже думаю; но знаете ли, как теряет от этого современность все краски, как текучая, история делается незанимательна, отвлеченна, и как движение мнений заступило место движения лиц, появления характеров, столкновения страстей? «Это успех», – вы скажете. Согласен, но вот, видите ли, какая невыгода. Чтоб жить в 1842 году, надобно не выходить из кабинета; чтоб видеть свет, надобно иметь книгу и очки; чтоб знать, что делается, надобно записаться в библиотеку и иметь лейпцигский каталог. Действительно, важна не кёльнская католическая протестация{379}, а важно сочинение: «Государство и религия»; «е ганноверская оппозиция{380}, а трактат какой-нибудь юридической «О конституционных властях», или лучше «О диэте», или о чем-нибудь таком же. Конечно, это весьма занимательно; но мне, горькому, до крайности любящему происшествия, обстоятельство это крайне обидно. Едешь, приехал – никакой мало-мальски странной историйки ниоткуда! Господи боже, что это такое? Я очень хорошо понимаю Берне{381}, который радовался за всю Германию, что у него украли из кармана часы в Цвейбрюкене, и говорил: это хороший знак! Я не знаю, что бы я дал, если бы у моего соседа украли часы для развлечения моего; да где! И надеяться нельзя от этой страшной немецкой честности, от убийственного расположения к порядку граждан сего племени, от совершенной их неспособности сделать что-нибудь не вседневное. Клеветники говорят, что в Германии случаются преступления: вы понимаете, как это мнение ложно и неприлично. С какой стати быть преступлениям в Германии? Чувствует ли здешняя особа последних 10 классов ревность – она пишет статью о ревности; хочет ли отомстить – рассуждение о чувстве мести, вот и все. Впрочем, эти строгие мои замечания прошу вас отнести к тому, что вот пять дней живу я один-одинехонек в Кёльне, поджидая З<аики>на и смотря в театре самую прозаическую «Фенеллу»{382} когда-либо мною виденную, с таким лавочным аусзихтом[43], что она могла быть посажена в тюрьму только за долги; смотрю на берегу Рейна его зеленые горы и пароходы, реющие по нем с баденскими картежниками и другими Путешественниками; смотрю в городе чудную половину собора, треть колокольни и 1/10 соседней башни, что все вместе составляет и начало здания, и развалину: две вещи, соединившиеся великолепно. Вот стоит новая подмостка для работников, а уж плющ вьется по стенам недоконченной башни и трава колышится на платформе ее. Архитектор кладет камень наверх и камень вниз, поправляя испорченное временем и в то же время продолжая. Сколько разбитых стекол, сколько упавших столбов! Однакож масса спицев самого собора, выведенная за триста лет, высится вся сполна, образуя колоссальный паук, которому подобного нет. Как ни много видел я церквей, но здешние византийско-греческие: Герсона, Мартина и Апостолов – поразили меня.
Кстати о церквах и зданиях. Я жил в Брюсселе, столице того странного государства, которое имеет огромную книжную торговлю, не имея литературы и литераторов, и связало все свои города цепью железных дорог, так что они сделались почти предместиями чистенького и несколько монотонного города-столицы. Как паук, сидел я в центре этой сети, и чуть появилась мысль в Гент, Антверпен, Берген ехать, – я уже там, всякий раз, впрочем, каким-то чудом находясь опять в десять часов вечера в своей маленькой комнатке трактира du Grand Miroir[44], rue Montagne. Поезд пробегает пространство в сто верст в 3½ часа со всеми остановками: плодородные поля Фландрии опрокидываются тогда перед вашими глазами; счастливые фламандские деревни оставляют впечатление белой ленты с красною каймой от цвета домов и крыш; трубы бесчисленных брабантских фабрик бегут одни за другими, как солдаты разбитого отряда, и из всей вселенной неподвижно только одно небо над вами. Таким образом, стоя одной ногой в Брюсселе, осмотрел я все эти памятники величайшего развития готизма (конец XV столетия), которыми наполнены города Бельгии: башню Мехельна, колокольню Антверпенского собора, ратушу Гента, ратушу Лёвена, вече (beffroi[45]) Бергена и проч. Мне вздумалось даже (праздность есть мать выдумок), мне вздумалось даже прочесть, что такое написано на этих сквозных, летящих, говорящих массах (известно вам, готическая архитектура есть архитектура по преимуществу беседующая: ратушу Лёвена, например, можно читать, как книгу); итак, лишь только стал я разбирать каменное письмо, как открылся передо мною новый мир. Я открыл необыкновенные характеры, новые фантастические лица, не подозреваемые никем рассказы, неизвестные еще черты юмора. Я уже хотел писать об этом открытии в арзамасскую академию искусств{383}, как через неделю в окнах одного из здешних магазинов увидел все мои открытия прекрасно нарисованные, еще лучше раскрашенные и объясненные очень точно и вразумительно.
Проклятый век! Чего только не сделал он общим местом? Нет такого впечатления, которое не было бы уже известно тысячам, такой мысли, которая бы не приходила в другую человеческую голову. Как вы думаете: чтоб написать занимательное письмецо к приятелям в Петербург, нужно уехать, по крайней мере, в Тимбукту, к кафрам или в Вандименову землю{384}. Вот в Бергене стоял я перед ракей или, лучше, ларцем св. Урсулы с миниатюрами Гемлинга, украшающими его. Эта живопись – история святой, напомнившая мне Италию и великих сынов ее: Джиото{385}, Фра-Беато{386}, Массачио{387}, наградила меня самым добрым чувством. Я непременно хотел дать вам отчет об этом чудном произведении, где простота сочинения, ощутительность всех выражений в лицах превосходив отделяются идеально поэтическою фигурой святой, являющейся в среде всей этой действительности всегда как видение, как луч или как вдохновение, я хотел, говорю, написать вам об этом подробно, но, взглянув на великолепное in-folio[46], изданное о том же предмете и которое вы можете найти хоть в лавке Исакова{388}, устыдился я и отложил перо. В Ахене стоял я перед мраморным троном Карла Великого, на котором сидел он в гробнице своей и на которой потом короновались 30 императоров; смотрел на золотой византийский ларец, где хранят кости его, на саркофаг, где покоились ноги императора и который прежде, говорят, служил гробом Августу, – все это вместе с необычайно смелыми сводами церковного хора произвело на меня впечатление странное… Я хотел написать вам об этом подробно, но, вспомнив, сколько тысяч таких впечатлений было до меня и как еще недавно Виктор Гюго достиг крайней степени пафоса за таковым же занятием, – снова устыдился и отложил перо. Наконец, здесь, в Кёльне, с какою любовью осмотрел я раку, где покоятся три восточные царя, шедшие за звездой в Назарет{389}, как твердил я их имена: Гаспар, Мельхиор, Балтазар, как ходил потом в церкви Апостолов, вспоминая о благородной жене фрау Рихмодис, погребенной здесь заживо некогда во время чумы и вышедшей из склепа благодаря сребролюбию церковного пристава, пришедшего красть драгоценные перстни с ее пальцев; как, наконец, в церкви св. Урсулы с уважением обходил двойные ее стены, наполненные костями десяти тысяч кёльнских дев, принявших мученическую смерть… Да! думал я: непременно напишу вам о всех преданиях, легендах и сказаниях, существующих на Рейне и составляющих вместе с горами, окрестными благодатными (да здравствуют они! урожай нынче будет счастливый) виноградниками вторую, не менее прелестную, хотя и невидимую его рамку, – и что же? В тот самый день на столе моем лежала книга, сам не знаю, как очутившаяся: «Полное описание всех преданий, легенд и сказок, существующих на Рейне. 1842 года, Типография Котты{390} в Тюбенгене». Скажите сами: после всего этого можно ли человеку, уважающему самого себя и не желающему быть ни литературным вором, ни компилятором, писать приятелям в Петербург письма, которые они, вдобавок, еще и печатают?
Употребляя трагический стиль, скажу: вижу, судьба повелевает мне говорить только о самом себе; покоряюсь этой неумолимой судьбе. О чем же больше говорить из Европы? Притом же я здесь замечаю необыкновенную странность. Все окружающие меня жаждут знать, кто я такой. Сосед за табельдотом, видимо, страдает желанием узнать, кто я; хозяин гостиницы осведомляется о том же с участием; полиция отбирает сведения, едва скрывая любопытство. Однакож, несмотря на лестную аттестацию сию, я в обман не даюсь; на все их расспросы отвечаю таким простаком: приехал-де сюда покурить сигарочку, пробираюсь же в Баварию собственно пивца тамошнего отведать.
Выезжая из Парижа, я имел в виду насладиться созерцанием фламандца, этого существа, которое как электрический угорь, издающий удар от прикосновения, только в торжественную минуту жизни открывает все богатства, все сокровища глубокой натуры своей; но, увы, напор моральный со стороны Франции уничтожил все это племя, которого достославным представителем был всегда для меня фламандец «Конетабля Честерского»{391}. Где тяжелая походка, где эти наружное спокойствие и брюзгливость, скрывающие вполовину истинное чувство и восприимчивость сердца? Ничего нет! Во всей Фландрии фламандского только и осталось, что огромные пивные сосудины, «чаши, во истину дьяволу обреченные»{392}, по выражению Курбского, ненавидевшего несоразмерные ковши эти, как и я. Один только раз встретил фламандца, и то вне отечества: я встретил его в Лютихе, на возвратном пути из велелепной Намурской долины, орошаемой Маасом-рекою. Приехав в Лютих{393}, взял я шестидесятилетнего старика указать мне дорогу к церкви св. Иакова, узорчатой, как киосок, да к мрачному бесподобному двору бывшего дворца епископов-принцев, и этот старик оказался, во-первых, фламандцем, а во-вторых, человеком, который сперва был в Москве, как завоеватель, а потом в Саратове, как пленник. Он шагал передо мною, беспрестанно повторяя одну казацкую фразу, оставшуюся у него в памяти: «Ну, пошел на двор, собака-француз!» Фразу эту оканчивал он русской поговоркой, которая употребляется у нашего народа, как соль ко щам, как масло к каше. Я просил растолковать мне значение последней поговорки, и он сделал это так точно, как делает Дюма с иностранными речениями и обычаями. Спокойно, но медленно, как будто с усилием рассказал он мне бедствия в плену, освобождение и новые домашние бедствия… Старик окончил горькую свою повесть живым восклицанием: «А каков Париж теперь? При Наполеоне был город славный!»
Хорош и теперь. Я оставил его в страшном волнении. Начались выборы{394}. По признанию всех публицистов, от этих выборов зависит участь Франции. Все партии, все честолюбии, все надежды сшибаются, перекрещиваются, отбегают, чтобы снова ринуться; но еще никто не знает, какого цвета и характера будет новая палата. Мне пишут из Парижа, что город словно находится в осадном положении; на улицах составляются группы, и всякая страсть, подняв голову, говорит громко… Теперь, когда отдаление сгладило все подробные черты, мешавшие общему, целостному взгляду, когда едва-едва доходит до меня оттуда дрожащий голосок какой-нибудь официальной газетки, теперь припоминаю я, что прожил три фазиса, три периода парижской жизни. Сперва показалась какая-то ровная, безвыходная борьба людей и мнений; затем раздался удар реакции, под которым погнулся, будто осел, весь волкан; за ним наступила минута тишины и апатии, изредка прорезываемая еще молниями неумеренных страстей… Все на ногах опять в сию минуту, все в движении и свалке. Изменчив, необычайно изменчив город этот! Нет предмета в природе, с которым можно было бы сравнить его ртутную движимость, беспрестанную мену цветов и красок. Нельзя ничего определить вперед, ни за что/ отвечать нельзя, и самое нелепое мнение о нем может встретить неожиданное подтверждение, как самое основательное – минутный отпор.
Прощайте. Надеюсь, вы причтете в заслугу немалую мне, что я умел, сидя на Рейне, не описывать Рейна и, проехав города, полные памятников, не говорить о них!
XII
Инспрук. 12-го августа 1842 года.
Не могу понять, как есть на свете люди, которые могут писать письма летом с Рейна и прилежащих к нему государств. Это все равно, что на балу думать о типографической ошибке, замеченной утром в статье, или беседовать с доктором о пользе и вреде ламповых и свечных испарений. С июня месяца по всему протяжению Рейна от Кёльна до Майнца загорается праздник, звездами которого служат Эмс, Висбаден и подалее – Баден-Баден и Киссинген. С июня месяца начинается этот прилив иностранцев, волна за волной, который походит на переселение народов, с тою только разницею, что вместо масс действуют тут частности в невообразимом смешении: языки, физиономии, понятия и даже различные оттенки понятий, как деньги, стекаются со всех концов Европы и – всюду принимаются. Я спустил здесь русский полуимпериал{395} и мнение, что не худо бы иметь деревеньку в сих местах. С июня месяца под каждым кустом гремит музыка, за каждым обедом летают пробки шампанского, и нет такой горы, по которой не полз бы то англичанин, то художник, то французский commis-voyageur[47], то немецкий студент с котомкой за плечами и палкой в руках. Кому не случалось в это время взбираться, как говорят, на недосягаемую высоту – к четвероугольной башне с провалившимися сводами, к обломку стены, который издали кажется продолжением утеса, к ряду окошек, в которые нельзя уже и заглянуть от неимения полов, иногда к остатку камина, к неясному гербу, к трещине, составлявшей некогда отверстие темницы или ублетки[48], ко всему, что называется руинами замка, и думать: вот я иду туда, где витают орлы, поэты да профессора истории, а между тем встретить целое женское семейство, взобравшееся прежде вас, сохранившее в этой небесной поездке неприкосновенность щегольского костюма и наполняющее всю циклопическую постройку говором и смехом: верная эмблема Рейна в эту эпоху. А эти города – Эмс, Висбаден и проч. – столицы космополитизма, кажется, не принадлежат уж никому, принадлежа всем, и как будто одобрительно помавают головой сближению всех народов и будущему скорому уничтожению их родовых отличий. Сколько в них шума и сосредоточенной общественной жизни, которая от этого приобретает немаловажное значение! Особенно важны они для нас в том отношении, что сделались живыми герольдическими книгами русского дворянства. Я видел в Бадене доктора, который знал почти все дворянские фамилии России, а в том числе и мою. Добрый доктор! Тебе принадлежит мое первое воспоминание, и ты будешь стирать первое пятно, которое покажется на благородных легких моих… Не праздники, не балы, не фейерверки этих вод составляют их главную прелесть, а легкость, с какою приводят они человека в непосредственное соприкосновение с обществом Европы, с многими важными людьми ее и с бесчисленным количеством характеров: это их заслуга. Но одно из двух: либо смотреть на все стороны, либо писать! Наслаждаться и описывать вместе – невозможно. Известно, что лучшие мемуары оставлены нам людьми старыми или недовольными. Я – ни то, ни другое, особливо я очень доволен собою. Вот почему мне странно кажется, когда кто пишет на Рейне, точно как будто нет перед ним зеленых гор, величественной реки, превосходного вина, любезных людей!
Да, нельзя писать из окрестностей Рейна! Прийдет ли на ум порядочному человеку взяться за перо во Франкфурте, когда кругом города разлегся густой сад с бесчисленными виллами, дачами и домиками, которые дышат таким выражением благосостояния, что мнится, будто из каждого светлого окошечка их выглядывает по банкиру, – когда надо гулять по тесной, грязной, но живописной Жидовской улице, где все дома с проходами, как будто на случай внезапного нападения, откуда прямо с черного порога люди переходят в великолепные палаты, выводя с собой неподозреваемые капиталы, где живет еще доселе мать Ротшильдов{396} и где всем торгуют, – когда, наконец, надо обозреть залу, где короновались Германские императоры, посмотреть на картину Лессинга{397} в галерее («Эцелино в темнице»), на «Ариадну» Данекера{398} в Бекманском саду{399} и помечтать перед двумя верхними окошечками желтого домика на улице Гроссен-Хири-Грабен{400}: там написаны были «Гёц фон-Берлихинген» и «Вертер»! За Франкфуртом являются перед нами Дармштадт, Карлсру, Стугарт. Вы скажете: да что же смотреть в этих новых столицах, которые еще обстраиваются{401} и которые, появившись случайно, хотят принарядиться по подобию великолепных сестер своих, других европейских столиц, и делают невообразимо широкие улицы без народонаселения и протягивают монотонную цепь домов без роскоши магазинов и промышленного блеска, которые прикрывали бы недостаток в них искусства? Так! Но от Дармштадта идет знаменитая Бергштрассе у подошвы Оденвальде, дорога, которая, с одной стороны, коронуется горами с их римскими башнями и феодальными замками, а с другой – прикасается к необозримым плодовитым полям, и идет она так до тех пор, пока, круто повернув, открывает реку Неккар, Гейдельберг, ярко оттеняющийся на зеленой стене горного хребта, и великолепнейшую руину замка на одном уступе его. Никогда не видел я ничего подобного этому замку времен Возрождения. Так мощна была его постройка; так действительно вся сеть украшений наружных вырезана на камне, так все в нем архитектор рассчитывал на вечность, что, кажется, стоило бы только вставить окна да положить крышу, и вышел бы тотчас дворец, которому мало подобных в Европе. И о Карлсру заметили вы справедливо{402}; но ведь в Карлсру заседает та баденская палата{403}, которая свела палатские прения с профессорскою декламацией и педантическим разглагольствием до живого и настоящего рассуждения, внося таким образом новый элемент в немецкую жизнь. Явление это тем более заслуживает внимания, что оно не подготовлено журнализмом и не поддерживается им, и таким образом существование Ицштейнов, Пфицеров{404} и проч. есть чисто самородное существование. Речи их, мнения и оппозиция не фальшивы, не представляют лицам того оптического обмана, какой так часто встречается во Франции и Англии и происходит от духа партий и корыстных расчетов самого оратора, а напротив, каждое замечание есть их собственная жизнь, часть собственной их натуры, как и должно было случиться в отечестве Шиллера. Да и о Стутгарте намек ваш не без основания; но ведь надобно ж было узнать, почему Виртемберг называется раем писателей; надобно же было открыть, что в деревеньках ее, лежащих в чаще садов и фруктовых деревьев, существуют свои писатели, издаются ведомости, пишутся книги, являются стихотворцы, что все большею частью и не выходит из околотка, между тем как столица в литературном движении и умственном гостеприимстве (вы понимаете, какое это гостеприимство) соперничает с Лейпцигом{405}. Наконец, за Стутгартом лежит Ульм, с великолепным своим готическим собором, в котором резной по дереву хор походит на эпическую поэму, а за Ульмом – некогда вольный город Аугсбург, с его площадью, где происходило знаменитое confession d'Augsbourg{406}, ратушей, золотой залой и четырьмя печами ее мастера, Николая Фохтса{407}, которые составляют страницу в истории искусства XVII столетия. В довершение всего и как последнее слово поездки по Рейну, стоит в бесплодной и нездоровой долине город Мюнхен. В замену изгнанных из него умственных интересов настроены дворцы, церкви и галереи{408}; но тяжело строить в наш век! Кажется, все уже высказано в архитектуре, и художнику только остается взять в образец старый памятник, очистить в нем все резкости, сгладить все углы и приноровить всего его к нашему современному расположению – к миниатюре и уютности. Так, здесь заметил я облагороженные и уменьшенные подобия памятников, виденных мною в других странах во всем их величии и энергии. Я видел базилику{409}, которая напомнила мне базилики Лоренцо и св. Павла. в Риме; глиптотеку{410}, которая напомнила мне строения Помпеи; дворец и библиотеку, которые напомнили мне палаццо Питти и палаццо Рикардо во Флоренции; Людвиге-Кирхе, которая напомнила мне романский собор Бонна; капеллу Всех святых, которая напомнила мне византийскую часовню королевского дворца в Палермо и великолепный собор Монреале в часе расстояния от Палермо… Так в Мюнхене образовалась для меня радуга счастливейших воспоминаний; один конец ее упирался в Гент и Брюгге, а другой переходил Альпы, огибался над всею Италией и пропадал в голубых, фосфорических волнах Средиземного моря. До письма ли было тут, сами рассудите!
Нет, нет! Я положил добраться до какого-нибудь царственного захолустия, до какой-нибудь велелепной дачи, и тогда в тишине, как рыцарь Жуковского, вспоминающий о далекой Палестине над вывезенной им пальмой{411}, написать в поучение моим внукам повесть моих странствований. С сим умыслом из Мюнхена поехал я в Зальцбург и Тироль, и тут, когда я очутился на Кенигзее, озере, лежащем в трех часах езды от Зальцбурга, запертом со всех сторон скалами и уединенном так, что слышна капля, падающая с вынутого из воды весла, а дикие олени на неприступных высотах стоят и смотрят на вас, – тут высоко поднялась грудь моя и вылетел из нее богатырский вздох, от которого в старинные годы задрожали бы горы, а ныне только тиролька, правившая лодкой, остановилась, посмотрела несколько на меня внимательнее и снова принялась за работу. По-прежнему езжу я в разные стороны, спускаюсь в долины, чтоб с берегов ручья, клокочущего без устали во все протяжение свое, посмотреть на эти волны гор, недвижно как-то напирающие со всех сторон на вас, или взбираюсь на горы, чтоб с первого, обвала взглянуть на этот зеленый оазис, который в чудном беспорядке деревень, тополей, мостов, мельниц лежит на дне, но все это без торопливости, без судорожного любопытства и без мучительного желания захватить глазами как можно более горизонта, как можно более пространства, что чувствуется обыкновенно в других странах. Тихо и целомудренно улыбаюсь я каждой тирольке, которая проходит мимо в костюме, сделавшемся, благодаря нашим театрам, эмблемой устаревшего порока, жму руку всем молодцам с остроконечною шляпой и зеленым в ней пером, читаю за завтраком «Молитвы св. Непомуку», которые принадлежат столовой девушке, и проч. и проч.; усиленно стараюсь, словом, прожить хоть недельку чисто, идиллически и успеваю. Вы видите по письму… Где же может прийти желание писать из одного благородного желания писать? Где, как не в благословенном Тироле, пишется легко, нехотя, сладко, любовно, даже наперекор другу, который по получении письма будет, как кобылица кавказского тавра, коситься на него пугливым оком.
Базель. 16-го августа с. г. н. с.
«Пугливым оком»… С сим словом сел я в почтовую карету и приехал к Констанцкому озеру, прорезал его на пароходе до Констанца, а оттуда тем же способом прибыл в Шафгаузен, осмотрел падение Рейна, переночевал и теперь в Базеле ожидаю особенных, мною заказанных башмаков для путешествия по горам. Как тишине величественной Тироля обязаны вы первою половиной письма, так теперь башмакам, имеющим попрать горделивые вершины Оберланда, Риги, Бернарда, – окончанием его. Я так живо помнил страницу Карамзина о Рейнском водопаде{412}, что в осмотре своем старался наблюсти тот самый порядок, какому он следовал: позднее осуществление одного из самых ранних, юношеских моих мечтаний! Но не только политическое состояние Европы изменилось с того времени, как странствовал молодой наш путешественник, даже изменился и водопад. Много утесов сбросил он уже с себя, сравнял много скал (смотри виды водопада в конце прошедшего столетия и вид его в 1840 году), и если что одинаково отразилось в его (Карамзина) и моем глазе, так это клубы пены да еще влажные облака водяной пыли, освещенной солнечным сиянием. Я спросил также у лодочника: нет ли такого же водопада, и, увы, не мог намекнуть он мне о Ниагаре в Америке, а просто отвечал: «Нигде нет такого». Итак, пропало даже и поколение умных лодочников с Карамзина{413}, как пропадают письма на почте (весьма неприятная потеря), как пропадает все на свете… Но возвратимся к Германии.
«Пугливым оком»… Хорошо! Что всего более поражает, однакож, путешественника, так это следующее: Германия укрепляется; куда ни оглянешься, везде строятся крепости – на Рейне, в Раштадте, Ульме, ТироЛе, и еще существует множество новых предположений. По временам из официальных газет раздаются крики: «Укрепляйтесь, укрепляйтесь!» Так одно политическое обстоятельство обратило Германию к самой себе и к началам, на которых может быть основана твердо ее материальная и нравственная сила{414}. Позитивное религиозное учение, давно уже существовавшее в Мюнхене и не имевшее сильного влияния, явилось как современная необходимость и получило великолепное развитие в Шеллинге{415}. Одни из противников профессора отказывают ему в праве вывести из старой своей философии какое-либо чистое понятие о божестве; другие в собственной своей системе находят средства положительного примирения, что доказывается переходом Маргейнеке к так называемой правой стороне гегельянизма{416}, торжественно возглашенном журналами. Замечательно, что доктор Салат{417}, принадлежавший вместе со многими мюнхенскими профессорами к первому разряду, в доказательство невозможности соединения старого взгляда Шеллинга с новым, приводит между прочим разговор с ним Н. А. Мельгунова{418}, напечатанный в «Отечественных записках», и где творец Naturphilosophie сказал: «Основание моей новой системы то же – только я сделался могущественней». Баллада Уланда{419}, проникнутая таким духом любви к германскому рыцарству (вспомните «Ветку», переведенную Жуковским) сделалась по той же причине, более чем когда-либо, источником вдохновения для художников, и крайнею границей этого направления может быть сочтено появление аристократической партии, которая говорит о необходимости восстановления всей старой феодальной отрасли властителей и не без таланта поддерживает это мнение писателями своего класса, как например, князем Сольмс-Лих{420}. Иногда думается, что все вопросы, которые казались на школьной скамейке навеки решенными, снова положены на стол, как старое дело, забытое секретарем. Об оппозиции всему этому{421}, появляющейся там и сям и также считающей в среде своей многих уважаемых людей, писать нечего: это дело без прелести новизны; аргументы все известны.
А впрочем, чем более смотрю я, тем более вижу, что никогда – о, никогда! – не были так перемешаны шашки, как з наш век: течением обстоятельств часто люди находят ныне защиту во врагах, неожиданных обидчиков – в приятелях, слабые берут с сознанием сторону сильных, сильные добровольно приносят никем не требуемые жертвы, и все это ради торжества собственных начал, principes[49]. Конечно, это только наружный хаос, имеющий тайные, но правильные законы: изучать их надо много терпения. Из всего этот выйдет нечто, но это нечто выйдет тогда, когда человек современный будет мирно опочивать под уголком деревенской церкви или за крапивой монастырской ограды… Итак, я вот что делаю: вслед за чистым, кристальным романсом Уланда, который походит на живопись по стеклу, читаю энергическое проклятие Анастасия Грюна{422}, который составляет оборот медали и как будто дополнение старо-рыцарского направления швабского поэта. Когда устает за ним воображение, я перехожу к Рюккерту{423} и в роскоши его стиха и восточных образов забываю все одностороннее или раздирающее современности; а чтоб окрепнуть после расслабительного действия этой поэзии, похожей на сон в полдень, под шум водопада какой-нибудь волшебной Алгамбры{424}, есть карета, есть Тироль, Шварцвальд, Альпы, французские газеты, мало ли еще что. Вам известно, до какой высокой степени развит здесь дух критицизма и эстетического анализа: почти нет журнальца, в котором при разборе литературного произведения не выставлено было бы прозорливо, ярко, во всеоружии противоречие, существующее между предметом и истинным о нем понятием, – разумеется, с точки зрения рецензента. Когда делается тяжело это неумеренное приложение идеи к мимо идущим вещам, что так сильно поразило меня при выезде из Франции, – я обращаюсь к уличным, так сказать, немцам и наблюдению этой странной натуры, распадающейся на две столь несовместимые половины. Вы не можете себе представить, как позабавил меня, после длинной статьи «Аугсбургского журнала»{425} о празднике в Киссенгене, немец, который вез на животе через всю Германию клетку с двумя канарейками, купленными в Остенде и отличавшимися от обыкновенных канареек только хвостиком. Особенно хорошо наблюдается эта добродушная порода Арминиевых детей{426} в дилижансе. Как только кондуктор запер дверь и лошади с упором двинули тяжелую карету, в этом желтом ларце образуется любопытный размен сведений. Все пассажиры с некоторым родом скромности спрашивают друг у друга: «Откуда вы? с вашего позволения, будет ли позволено мне… Откуда вы?» Вслед за этим тотчас обнаруживается выгода дробного деления Германии и польза характеристических отличий разных ее племен, ибо все уже знают, как и о чем друг с другом говорить, лишь только узнают, где кто родился. Вестфалец льстит славянской национальности богемца и защищает утишительное мнение, что племя его должно обновить Германию; богемец с робостью подделывается под тон воинственного пруссака, объявляя его стражем настоящей цивилизации; пруссак, со свойственным ему остроумием, снисходит до понятия венского обитателя, признавая необходимость народных театров; добродушный венец с примерным самоотвержением опровергает похвалы, ему воздаваемые, и проч. Раз встретился нам жид. На обыкновенное: «откуда вы?» он очень неграмматически отвечал: «Цюрихский еврей». Никто, однакож, не сконфузился; тотчас объявили, что все жиды музыканты – как Мейербер{427}, философы – как Мендельсон{428}, фельетонисты – как Берне. Мне еще ни разу не случалось избежать рокового: «откуда вы?» Я отвечал всегда, как Каратыгин в «Ермаке» г. Хомякова{429}, помолчав с минуту и таинственным голосом: «Я – русский!» Так мало это всегда казалось тучетворящему дымопускателю, пытавшему меня, что он всегда прибавлял: «Откуда именно: из Петербурга или Москвы?» Я никак понять не мог и до сих пор не понимаю разумности и необходимости этого вопроса. Сперва отвечал я наудачу, но теперь привел это дело в некоторого рода систему. Если спрашивает молодой и холостой человек – так из Петербурга, а если женатый, имеющий дочерей, – так из Москвы. Этак, кажется, приличнее.