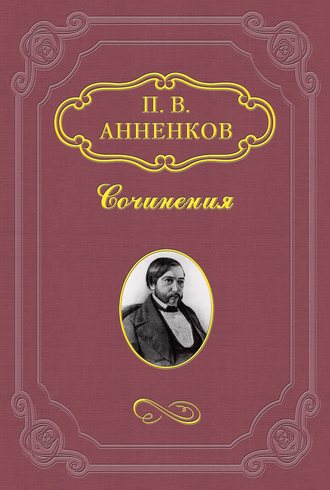
Павел Анненков
Письма из-за границы
X
Париж. 18-го мая 1842 года.
Я выезжаю из Парижа на Рейн через Бельгию и Голландию собственно для того, чтоб в первой посмотреть гробницу Карла Великого{315} да купить две-три книжки французские за треть цены, а в последней поклониться в Саардаме великому русскому имени{316}. Когда я здесь говорю, что еду на Рейн, мне отвечают: «А, это туда, где на нас написали стихи» (народная песня Беккера: Sie werden ihn (Рейн) nicht haben){317}. A кто с Рейна едет в Париж, так там, слышно, восклицают: «А, сходите же к Виктору Гюго, который хочет у нас Кельн взять («Рейн», Гюго), и скажите ему, что мы отнимем у него Страсбург!» Только и толков по обеим сторонам реки, что о реке{318}: увижу я ее, наконец, и вместе с З<аикиным>, который ждет меня в Кельне. К<атков> пишет, что собирается в Россию: хотелось бы видеть его, да вряд ли!
Я видел месяца два тому назад в палате Ламартина за работой: он ткал ввиду всех нас великолепное одеяние из золота, парчи, воздуха и вечерней зари своим мыслям о братстве народов, о подчинении всех иностранцев делу всеобщей цивилизации, мыслям, для которых изобрел и название политики социальной (sociale). Когда прерывали его, он складывал руки на груди, и благородная, аристократическая его фигура прекрасно рисовалась за мрамором трибуны. Этот уж Рейн нипочем ставит. Где Рейн! Рейна нет, а есть человечество. Ну, вот я разберу на месте и этот вопрос. Некоторого рода смешение царствует и по другим статьям, хоть, например, по статье о взаимном осмотре кораблей для прекращения торговли неграми. Прекратить торговлю – пожалуй; но согласиться на действительнейшую меру к прекращению ее – нет{319}. От этого чуть-чуть не в один день палата отказывала в своем участии Англии, а из Англии приезжали ученые и филантропы на обед к герцогу Брольи для принятия мер к скреплению общества против торговли{320}. А чтоб ни одной ноты в этом аккорде не недоставало, человек-софизм, Гранье-Кассаньяк{321}, очень хорошо понявший, что в наше время всеобщего движения вперед самое лучшее средство отличиться – это пятиться как можно более назад, издатель «Le Globe»{322}, удививший Францию своею книгой «О происхождении дворянства и каст», крепко восстал в пользу порабощения негров. Самое великое смешение, однакож, представляется в Академии. Тут Токвилю{323} приходится говорить похвальное слово Сесаку, – не знаю, что он был такое, префект наполеоновский, конюший ли, господь его знает; Балланшу, с его «Паленгенезией»{324} и несовершенно уясненными на историю и человечество взглядами, рассуждать о Дювале{325}, авторе «Влюбленного Шекспира», который так хорошо играется на домашних театрах; тут, наконец, принимают в Академию Пакье{326}, не написавшего ни одной строчки, мимо Сент-Бёва и господина Патена{327}, мимо Альфреда де-Виньи{328}. В этих приемах Академия хлопает, в продолжение года, трем-четырем самым противоречащим мнениям, как остроумно вывел Филарет Шаль: то ей нравится, что Наполеон есть остановка в прогрессе, то соглашается, что Наполеон – хороший человек, то похваляет наш век, то говорит: не мешало бы что-нибудь посущественнее. Прием Балланша породил умилительную сцену. Вместо больного Балланша его речь читал Минье{329} и в конце ее, обратясь в одну сторону, в угол, к самой двери, где сидел старик с продолговатым лицом, орлиным носом, блестящими глазами и клоками седых волос на открытом лбе, благодарил его от имени Балланша, разумеется, за дружбу, напомнив, что они оба – отшельники в сем мире, хотя один из них открыл настоящий век религиозною песнью{330}, а другой, может быть, вниманию того первого обязан некоторою известностью. Гром рукоплесканий раздался со всех скамеек, со всех галерей, сверху, с боков и снизу. Шатобриан закрыл лицо руками и заплакал. С умилением смотрел я на почтенного старика, который пережил свое политическое влияние, которому скоро-скоро откажут и в титуле гения (уж и начинается!), но который оставит по себе память благороднейшей души, чистейшего характера. В одной из галерей сидела приятельница его, старушка Рекамье{331}, с своим обществом и также хлопала. Я был у Рекамье на концерте (все это Александр Иванович Тургенев хранительно напутствует мне). Благородно просты комнаты ее. Из передней маленькая приемная с знаменитым горельефом Тенерани{332}; из приемной небольшая белая зала с огромною, но манерною картиной Жерара{333}, изображающей г-жу Сталь в виде вдохновенной Коринны с арфой в руках. В этой зале пела Полина Гарсия{334} и Рашель – Федра декламировала страстные монологи. Как-то странны были в этой милой комнате и при этом обществе чинных дам и девиц ее сладострастные вскрики и полные жара описания… Кроме Гизо, Баранта{335}, Шатобриана, тут был и Сент-Бёв, издавший вторую часть своего «Port-Royal», так хорошо обличающего болезненное воображение Сент-Бёва, который, начав с «Volupte», кончает теперь глубоким суровым мистицизмом янсенистов{336}. Тут был и Ампер, так добросовестно и остроумно развивавший нам нынешний курс Монтаня, Паскаля и Декарта{337}; тут был еще Ленорман{338}, Фориель{339}, Сен-При{340} и пр. и пр. Турецкий посланник в красной своей феске и с благородною, задумчивою физиономией, свойственною всем туркам хорошей крови, тихо помавал головой, слушая Рашель и думая, вероятно, о других сильных страстях на другом конце Европы. Но из всех лиц, наполнявших залу, примечательнейшее лицо для меня была сама хозяйка. Есть имена, с которыми соединено всегда понятие о юности, красоте, грации: Юлия, Офелия, Мария Стюарт{341}, Рекамье. Против всех правил эстетики последняя жива до сих пор, имеет большой чепец на голове, морщины на лице, неопределенную талию, и я подумал: нужна смерть для красоты!
Упомянул я за восемь строк несколько профессорских имен: должен прибавить, что нынешнюю зиму аудитории двух из них были особенно полны: Сен-Марк Жирардена{342} и аббата Дюпанлу{343}. Жирарден, профессор французской поэзии, придет, сядет и начнет веселый разговор со студентами Сорбонны: остроты, намеки, каламбуры даже образуют электрическую струю, которая постоянно возбуждает хохот слушателей, и та Сорбонна, в которой слушал лекции Данте, которая волновалась от вопросов Абеляров{344}, Сен-Сиранов{345}, Декартов, хохочет нынче!.. Как бы порадовался г. К<ор>ф{346}, который, кажется, сказал, что гордится способностью хохотать и ценит ее выше всего. В нынешний курс Жирарден взял тему, которая так близка к обществу, что почти походит на политическую: это – о страстях, составляющих драму, где современных драматических писателей он уничтожает{347}, ставя их лицом к лицу с старыми классическими писателями, а потом с греческими образцами. Оно, конечно, смело перед молодежью, которая имеет право свистка на лекциях и которая воспользовалась этим бесчестным правом сперва на лекции Ленормана за сравнение французской и английской конституций и предпочтение последней, а потом на лекции Мишле{348} – за хаотические, несвязанные его мысли о философии истории, где видно было только страшное желание сказать нечто близкое к высокому, sublime, не высказавшееся однако; конечно, смело – говорю – объявить этой молодежи, что любимые ее писатели разрабатывают в драме одно плотское страдание, одну физическую боль; это в Жирардене, как вообще у всех сотрудников «Journal des Debats» Шаля, Шевалье{349} и самого Жанена, происходит не от сильно возмущенного эстетического чувства, а от политических причин, да еще от свойственной всем им женоподобности, изнеженности, какого-то жалкого морального расслабления, печать коего носят они даже на лице и в голове и манерах. По всей справедливости, господа эти с ужасом отвращаются от безумного воя новейшей драмы; но они с таким же ужасом отвратятся и от всякого энергического душевного порыва.
Аббат Дюпанлу и проповедник Равиньян{350} составляют первые звенья той религиозной реакции, которая обнаружилась в последнее время в Париже{351}. Надо вам сказать, что обстоятельства приготовили и очистили ей дорогу, так что появление ее никого не удивило. Всякий, кто пожил в Париже месяцев шесть или семь, как я, скажет вам о необычайном равнодушии общества ко всему, что делается перед глазами его, о потере им последней веры в свои собственные идеи, в дело рук своих, о изнеможении и апатии его{352}. Некоторые происшествия, вам известные и которые никогда не могли бы случиться в другое время, ясно подтверждают мою мысль. Присматриваясь ближе, я заметил или показалось мне, что даже волнение и протестации врагов настоящего порядка вещей не искренни, энергия их насильственна и подложна. Да, они ни к чему не готовы, ничего не определили и слабы, не имея никакого разумного будущего. И вдруг раздается голос старого католицизма, который никак не может отстать от Западной Европы, им вскормленной, и является к детищу тотчас, как задумалось оно после тревоги широкого пира. Если принять в соображение, что теперь идет дело не о семинарии, не о десятине какой-нибудь, а о введении католицизма в нравы и о принятии им под покров свой всех вопросов века, то нынешняя религиозная реакция может иметь важные последствия для Франции. А может быть, и ничего не будет; она явится и разлетится как мираж; уж их сколько было!.. Дюпанлу занимает кафедру духовного красноречия в Сорбонне. Нынешнюю зиму тема его была: об отношениях гения к церкви… Дюпанлу – лирик до излишества: часто случается, что самая мысль теряется в бесчисленном количестве образов и картин, которыми он обставляет ее; лекции его походили на непрерывную перемену декораций: но зато огромная аудитория, вмещающая в себе до трех тысяч человек, была недостаточна для всех жаждущих насладиться его импровизацией; но зато мертвая тишина царствовала во все время, как текла его речь; но зато оглушительные рукоплескания раздавались при всяком перерыве ее, при всякой остановке профессора. Проповедник Равеньян – совершенно в другом роде. С высших ступеней общества сошел он в ряды монашествующего ордена, и речь его отзывается непреклонностью глубокого убеждения, энергией, скажу даже – некоторым родом деспотического убеждения… «Проповедники посланы к вам», – сказал он в одной из своих проповедей удивленным парижанам, – «не для того, чтоб добиваться ваших похвал и прислушиваться к вашим толкам: они посланы учить вас и требовать покорности»… Широкий лоб его, впалые глаза и сухощавое лицо доказывают лучше всего, что он, как шелковичный червь, по выражению Гёте, плетет нить из самого себя, из собственной внутренности; старания его в нынешнюю Страстную неделю собрать многозначительную толпу под хоругвь религии увенчались полным успехом. В день Пасхи 2000 человек явились к причастию. Я был на некоторых из этих поучений{353}, происходивших в 7 часов вечера в Notre-Dame de Paris. Старая церковь, плохо освещенная несколькими лампами, составляла чудную раму энергическому проповеднику, и покуда говорил он о нарушении грехом всеобщей, мировой гармонии, о разъединении души и божества, которое составит посмертное мучение первой, как составляет ее страдание здесь на земле, я украдкой смотрел на своды, висевшие из темноты над головой моею, на переходы церкви, залитые мраком, из которого выходили только колонны, стремившиеся вверх, да белые статуи алтарей. Аббат Ботен{354}, бывший профессор Страсбургского университета, представляет третье лицо этой религиозной пропаганды, и блестящею своею речью, свободой и чистотой французской фразы своей сделался исключительным проповедником аристократического женского общества, с принцессой Клементиной, дочерью короля, во главе… А между тем вы уже предчувствуете, что, верно, в каком-нибудь конце Парижа есть нечто диаметрально противоположное всему этому; это почти так же необходимо здесь, как в симметрической архитектуре второе отверстие по случаю существования первого. Есть, есть! Как не быть! Вот новый проповедник г. Шатель{355}, который воспевает хвалы даже автору «Орлеанской девственницы»: я вспомнил о процессе, бывшем месяц тому назад в исправительной полиции. Я думал, что поколение отвратительных книжонок, порожденных концом XVIII столетия и которыми наполнены библиотеки провинциальных помещиков, уже прекратилось во Франции. Нет, недавно захватили книжонку г. Боналя «Les lamentations sociales»{356} при самом выходе ее из типографии, и судьи (французские судьи! видели и слышали они многое! не легко привести их в краску!), эти судьи потребовали тайного заседания, a buit clos[32] из опасения оскорбить разбором этой книжки общественное приличие, публичную нравственность. Напрасно хотел я потом взглянуть на это чудище: ни в одной лавке нет, и матери дочерей вон высылали, когда я спрашивал о ней.
С появлением спаржи, молодых артишоков и зеленого горошка у ресторатера начинается весна в Париже. Конечно, можно сказать, что и позеленевшие аллеи Champs-Elysees и Тюльери доказывают ее наступление, но не столько. А что уж без всякого возражения свидетельствует справедливость показания календаря, несмотря на противоречащий ему сырой ветер, так это закрытие выставок: художественной, севрской, гобеленовой и проч. Я вам не писал о конкурсе на сооружение памятника Наполеону{357}. Проекты, представленные по этому случаю художниками, могли бы составить поучительнейшую статью для эстетики. Представьте себе сотню голов, занятых мыслью произвести что-нибудь великое, неслыханное, необъятное, как сам человек, которому надобен, по мнению Франции, памятник… Что из этого могло выйти – вы догадываетесь: чудовищности неимоверные. И действительно: один хочет повесить гроб его под куполом церкви Инвалидов; другой – создать огромный кристальный шар, освещенный газом и вращающийся на своей оси, с драгоценным прахом внутри; третий предлагает нечто вроде гигантского фокуса-покуса, то есть, машины, которая будет выставлять круглый год, в тот самый день, как были выиграны баталии, изображения их. Благоразумнейшие из художников ограничились только гиперболическими аллегориями: шар земной, раскалывающийся под стопой великого, все столицы Европы, покрытые щитом его, и проч. и проч. Были и такие, как граф Батар, например, которые хотели напомнить некоторые частности из жизни императора. Огромный кусок гранита, обведенный великолепною золотою решеткой, доказал бы, по его мнению, простоту одеяния и привычек Наполеона, а вместе – роскошь туалета и блеск окружавшей его свиты. Вот истинно художническая идея! Удивительно, как никто не подумал изобразить в виде прекрасных женщин, летящих гениев, рогов изобилия и труб, надуваемых славою, обыкновения Наполеона складывать руки на груди, выставляй ногу вперед, щипать себя за ухо.
Но надо сказать и то: лишь только француз начинает задумывать серьезное oeuvre capitale[33], как говорят здесь, – в художествах или литературе, все равно, первая мысль, поражающая его мозг есть: «что бы доказать такое?» Вам известно, что все «Лукреции Боржии», «Марин Тюдор» и «Марионы Делорм» В. Гюго доказывали различные идеи. Я нарочно привел примеры из драматической литературы, потому что в ней всего виднее это направление. Вся нынешняя зима была преисполнена подобных сценических доказательств; не говорю о бульварных театрах Ambigu, Gaite, Folies{358}, которые назло своим титулам, были притонами страшных мелодрам, основанных единственно на разных невозможных происшествиях (это-то именно и составляет их прелесть для народа с живым и несколько испорченным воображением), но о театрах, имеющих притязание на литературность, каковы Одеон и Porte Saint-Martin. Одеон доказывал, например, следующие положения, признанные и обсужденные потом всеми критическими листками: «горе народу, выдающему защитников своих» (драма «Палермский трибун»){359}; «почести портят сердце» («Кедрик-норвежец», драма){360}; «гений редко признан бывает современниками» («Плутни Кинолы», комедия){361} и проч. Эта последняя вещь принадлежит Бальзаку. Вероятно, вы уже знаете, что никогда, an grand jamais[34], не разрешался в страшном неестественном своем напряжении мозг человеческий чем-нибудь близким к этой нелепости. И произошла она не от порочного устройства умственных способностей в авторе, а от непомерных притязаний его, от желания подняться до облака ходячего. Тут же еще и Шекспир вмешался… Истинно сказать, что с тех пор, как Франция открыла Шекспира{362}, потеряла Франция сон, аппетит и веселость. А сказать правду, так в целой Европе всякое литературное преступление производится во имя Шекспира. Круглый год нет двух пьес в нашей части света, которые произошли бы от наблюдения человека и жизни и которым не повредило бы желание автора поздороваться и подать руку Шекспиру. Что за вредный «сочинитель»! Да когда же выдадут закон против него? Широкий юмор его, его кончетти, игра слов его породили в «Плутнях Кинолы» («Ressources de Quinola») самые чудовищные вещи, и между прочим эту реплику: «Ему (Киноле) более известна любовь к механике, чем механика любви», а может быть, и наоборот: наверное не знаю. Знаю только, что когда пьеса приближается к этому месту, так напоминающему бесхитростных актеров Вильямова балагана{363}, партер великолепного Одеона, доселе буйный и непокорный, вдруг притихает; лицедей, произносящий знаменитую фразу, приближается к лампам и при мертвой тишине произносит ее с расстановкою. Минуту затем царствует невообразимый шум, хохот, крик, вскоре покрываемый однакож ярыми: bis! bis! Снова наступает торжественная тишина, и актер снова, подходит к лампам с несчастною фразой во устах. Только после третьего я четвертого раза, вдоволь насытившись величием и глубиной ее, публика утихает, то есть покрывается и уходит.
Но возвратимся к пьесам на темы. Есть из них такие, основная идея которых даже в одну строчку и не упишется, а требует долгого и несколько сложного развития. Так «Жарвис», драма Дюма и еще другого господина, игравшаяся на театре «Porte Saint-Martin», по единогласному свидетельству всех критиков, написана для того, чтоб доказать, как предосудительно принимать на себя звание редактора-ответчика политического журнала из видов корысти, и как все низости, клеветы и преступления, свершаемые настоящими издателями, падают на лицо редактора и покрывают его всеобщим презрением, хотя бы сам он не имел на Душе ни одной печатной строки, или хотя бы какая-нибудь благородная цель Понудила его дать свое имя на прокат зависти, пороку и злобе… вот! Представьте себе, как приятно смотреть пьесу, когда знаешь наперед маршрут, растаги[35] и место следования всех ее страстей, перипетий и катастроф. В одном только случае позволяется хорошему писателю для сцены ничего не доказывать, именно – когда вздумается ему представить лакея, цыгана, бродягу благодетелем могущественного герцога, спасителем знаменитой принцессы, человеком, который держит в своих руках часть какой-нибудь важной фамилии или даже судьбу целого княжества (итальянского, обыкновенно). Тема эта здесь в большой моде. Вот и нынче на театре «Porte Saint-Martin» с успехом играют драму «Цыган Парис»{364}, который устраивает благополучие Милана так ловко, как будто дело шло о краже лошади или обмане хохла. Фредерик Леметр появляется в пяти или шести разных видах и очень хорошо представляет сперва комедианта, потом жида, потом раба, умирающего в судорогах; но странная вещь, по окончании спектакля как будто он ничего не представлял: все сгладилось, пропало, забылось, словно вас добрый паралич хватил при выходе. Точно то же направление и в художествах: аллегория и какая-то изнеженная, рассеянная грациозность…
Впрочем, достаточно о важных пьесах; la specialite[36], как говорится, Парижа – это пьесы незначительные; а так как каждый из театров имеет свой определенный характер, то, встав поутру и посоветовавшись с собственною совестью, можете без афиши назначить себе зрелище на вечер. Расположены ли вы смотреть грациозный цинизм – ступайте в Palais-Royal: там играют г-жа Дежазе и гг. Ашар{365} и Туесе; предпочитаете ли видеть комедию talon rouge[37], то есть любовных интриг времени Людовика XV, – ступайте в Variete: там играют г-жа Соваж и гг. Лафон и Левассор; намереваетесь ли посмеяться над современностью – ступайте в Vaudeville: там играют г-жа Дош{366} и гг. Арналь и Лепентр; наконец, желаете ли теплого впечатления от семейной драмы – ступайте в Gymnase{367} (благороднейший из всех театров): там играют г-жа Вольпи и бесподобный Буффе. Если прискучали вам все обстоятельства, в которых может находиться человек, – ступайте к Франкони смотреть на лошадей; обучены весьма основательно… Не нравятся вам лошади – ступайте в Rue Vivinne на каждодневные концерты Мюзара{368} по одному франку за вход. Если увертюры, кватоуры[38] и септоуры[39] причиняют вам расстройство в нервах – ступайте в Rue Lepelletier на курс магнетизма с опытами. Если сомнамбулка не разберет посредством брюха любого русского романа – махните рукой и ступайте в Rue Saint-Jacques на курс френологии с опытами{369}. Устрашитесь ли вы всезнания френолога – бегите вон, закрывая череп шляпою, нанимайте фиакр и ступайте на один из публичных балов Прадо, Salle Saint-George, La grande Chaumiere{370}, где можете свести весьма приятные знакомства. Нелюдим вы и на дружество не податливы – ступайте в один из кабинетов для чтения – советую в Rue Richelieu, к Гальяни{371}, – усаживайтесь в покойные кресла под лампой и читайте, как сгорел Гамбург дотла, как подкупает выборы министерство, какие процессы разбирались вчера в Palais de Justice, и прочее, и прочее. Но может статься, у вас глаза плохи, при газовом освещении делается воспаление, – так уж ступайте по направлению к Place de la Bourse, и в одной из улиц, прилегающих к этой площади, увидите вы дома с маленькими беленькими дверями, чистенькими, узенькими лесенками из сеней. Войдите по первой лесенке, какую выберете, отворите дверь и вы очутитесь в новом приятном обществе.
Случилось страшное происшествие на версальской железной дороге: сто человек мужчин, детей и женщин сгорели живьем в четырех вагонах, запертых на ключ, обливаемые кипятком опрокинувшейся и лопнувшей машины. В числе жертв находился Дюмон-д'Юрвиль{372}, сгоревший с женою и четырнадцатилетним сыном.







