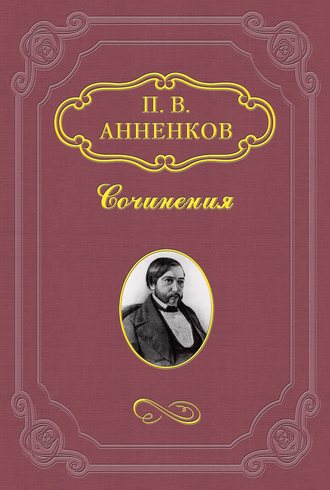
Павел Анненков
Письма из-за границы
IX
Париж. 7-го февраля 1842 года.
Праздники здесь начались весьма своеобычно, а именно – новою оперой Галеви{266}, неистовыми балами-маскарадами в театральных залах, приговором к смерти трех заговорщиков{267} (после помилованных), осуждением журналиста Дюпоти{268}, приговоренного к пятилетнему заключению, полною реакцией правительства духу неограниченной свободы и увеличением гарнизона. Я присутствовал на весьма важном заседании палаты пэров{269}, когда адвокаты в черных своих мантиях и в трехгранных шапках, которые давали им очень большое сходство с портретами Вандика{270} и Рубенса, вставали один за другим, защищая каждый своего обвиненного клиента; я видел этого Дюпоти, которому судьба предоставила быть козлом покаяния журналистики, и в виде которого посадили на одну скамейку с убийцами всю революционно пишущую братию. Не возможно было дать более сильного урока! Трибуна обвиненных представляла контраст поразительный: на одном конце скамейки сидел Кенисе, выстреливший в принцев плотный, ражий мужчина, с грубыми чертами лица и в синей блузе работника; на другом – молодой человек лет 33, щегольски одетый во фраке, завитый, в белых перчатках, лев, одним словом! Адвокатское красноречие есть что-то условное, зело напыщенное, не исключая театрального эффекта и трескучей фразы, но поразительное особенно для свежих глаз, каковы мои, искусством отыскать уголок в кодексе, буковку, недоразуменьице, что-нибудь наконец, и если не закрыть обвиненного от меча правосудия, то смягчить удар по крайней мере. Есть что-то великодушное и в размахивании руками, и в придуманном понижении голоса, и в этих вопросах, долженствующих остаться без ответа, и в этих восклицаниях. Кажется, будто дело идет о собственной голове защитника; приходит мысль: вот человек, который для благородного своего подвига не погнушался бы сделаться балетмейстером, механиком увеселительной физики и даже составителем живых картин. Я думаю, Палье, неистово и прехитростно выпутывавший Кенисе, отдал бы половину своих доходов, чтобы какой-нибудь шутник сделал искусственный гром над головами пэров в средине его речи. Однакож последствия доказали, что ни главный прокурор Геберт{271}, сидевший за особенным столом в красной мантии, ни канцлер, сидевший за другим, ни все почтенные пэры, сидевшие полукругом и украшенные почтенными сединами, а большей частью ничем похожим на волосы не украшенные, не были увлечены красноречием адвокатов. Дюпоти, почти сглаживавший важность настоящего преступника Кенисе, приговорен был к пятилетнему заключению, всегдашнему состоянию под присмотром полиции и уплате издержек, и Франция почувствовала наконец, что у ней есть чья-то сильная правительственная рука. Этим ударом и побочными, следовавшими за ним, совершенно нарушено то равенство борьбы между всеми партиями, о котором я писал в последнем письме. Напрасно журналисты выдали декларацию, а провинциальные прислали депутатов для подтверждения ее своими подписями; напрасно говорила! она о гонениях на печать и принимала решение защищать свободу тиснения донельзя: это уж не тот манифест журналистов, с которого началось постыдное кровопролитие 1830 года{272}. Я видел вслед за этим следующее. 31-го декабря выпущен был из темницы Ламне{273}. Толпа молодежи и учеников собралась перед его окнами, кричала: «vive!», требовала появления его на балкон, как вдруг будто из земли появился отряд солдат, запер улицу с одной стороны, взял ружье под приклад и по команде офицера пошел тихо на толпу, сдавил ее, выгнал на бульвар и скрылся.
Душою всех внутренних и внешних событий – Гизо{274}, замечательнейшее лицо нашего века. Сколько ненависти, сколько восторга! Решительно можно сказать, что во Франции нет ни одного человека, который говорил бы о нем хладнокровно и который с его именем не открыл бы все задушевные свои мысли. Притом же, он и загадка для современников: хочет ли он утвердить монархию на таком незыблемом основании, что уже никакое столкновение партий не могло поколебать ее, или только эгоистически хочет торжества своей партии мещанства, bourgeoisie; свергнет ли его палата депутатов, или он попрет это собрание – неизвестно…
На театре Porte Saint-Martin дается ныне презабавная шутка, под именем «1841 и 1941 год, или Париж сегодня и Париж через сто лет». Это одно из тех обозрений, о которых всякая новая выдумка, всякий новый роман, пьеса, происшествие, заслужившее Почему-либо внимание публики в прошедшем году, находят каламбур, остроту, пародию. Пьеса открывается разговором работников у артезианского колодца: это знаменитый парижский Гренельский колодезь, который точно в прошлом году так проказил, как будто сам напрашивался в водевиль: во-первых, завяз в нем кусочек инструмента, которым ковыряли его, а во-вторых, вместо ключевой воды стал он выбрасывать массы грязи и возродил опасение в ученом мире и в правительстве, что обессилит грунт земли, на котором стоит Париж, и приготовит таким образом поглощение сего нового Вавилона. На сцене колодезь этот выбросил вместо грязи прехорошенькую девушку, легко, но благопристойно одетую – Истину, которая, в награду за случайное свое освобождение, дает зеркало владетелю колодца и говорит: «Ты узнаешь настоящее значение всех вещей». С этого начинается ряд сцен, выводящих чрезвычайно остроумно в карикатуре все, над чем плакал Париж, за что платил деньги, о чем толковал серьезно, а за ним и многие иные языки, все, чем восхищался. Теперь Париж ломится в театр похохотать над самим собою и сказать: «Какой же я был дурак!» Чудесная пьеса! И мне пришло в голову в антракте, когда отдыхал от беспрерывного смеха, разобрать вам ее ради поучения, пополнив некоторыми собственными комментариями, впрочем, везде ясный, сильный и во многих местах высокого достигающий текст ее.
Итак, вот является олицетворение нашего века открытий и выдумок в особе г. Блакфорта{275}. «Что я сделал в прошлом году? А вот посмотрите: я изобрел для артистов головного убора восковые фигуры женщин во весь рост, которые за зеркальными стеклами великолепных магазинов, освещенные сильным светом газа, повертываются весь длинный зимний вечер действием особенной машины перед глазами проходящих и толпы праздных гуляк, осуществляя таким образом возможность сказки Гофмана»{276}. Вслед за этим вносят пьедестал. Блакфорт нажимает пружину, и является девушка, великолепно расчесанная, с открытой грудью, и вертится медленно, вертится постоянно. Потом: «Я изобрел средство косые глаза возвращать на настоящий путь, так что с этих пор весь род человеческий будет правильно смотреть на вещи!» И тут же производит операцию, которая несчастного пациента обращает в какое-то чудовище. «Мало того: я подрезываю язычок в горле». И болезненное мычание молодого человека, потерявшего дар слова после операции, возвещает об успехе нового открытия. Наконец, показывает он ящик с замком-капканом от воров, имеющий один недостаток: он так дорог, что, купив его, вы ничего не оставите для сохранения, – и фельетон журнала с повестью, каждый раз отсылаемою к следующему нумеру, так что склеенные вместе листки составляют огромную ленту, для развития которой недостает сцены театра. Блакфорт тут же предлагает писать вместо: окончание впредь – «Окончание завещаю законному наследнику моему». Тем и ограничился Блакфорт при исчислении новых открытий; но обозрение его далеко неполно. Куда же девал он объявления, печатаемые на последней странице журналов? А это последняя страница есть такой волшебный мир, с которым не может сравниться никакая фантастическая сказка. Там растут китайские деревья, приобретая в 13 дней толщину дуба, считающего себе сотенку-другую лет; там есть печь, которую стоит только внести в комнату, чтоб она обратилась в паровую баню; там есть порошки от известных болезней, не требующие ни малейших предосторожностей и столь невинные с виду, что вы можете глотать их перед 12-тилетней девочкой, и она спросит только: «Зачем вы едите конфекты, когда это зубам вредно?» Там есть неизносимые платья, шляпы, на которые пропущен был, с согласия Англии, Атлантический океан, и они выдержали опыт; несгораемые свечи, лампы почти без масла, сапоги, излечивающие подагру: совершенный ералаш физических законов мира!.. Необходимость сбыть товар произвела известный кредит, которым славится Париж, а необходимость иметь наличную деньгу произвела все эти шарлатанства и услужливость «гг. ремесленных профессоров», как они себя называют. Не солгу вам ни в едином слове, если скажу, что г. Штауб, знаменитый портной, оценив с опытностью знатока красоту моих луидоров, собственною своею особой изволит часто ждать в передней аристократического моего пробуждения. Говорят также, что я за честь заставить зевать Штауба от скуки плачу 10 и 20 франков лишних при каждой вещи… Та же нужда денег породила вещь почти непонятную: музыкальная газета, например, за 24 франка в год дает вам, кроме нумера журнала, десятка два новых романсов, десяток портретов виртуозов и три или четыре концерта, где участвуют многие знаменитости итальянской и французской опер. А вот это как покажется вам: вы подписываетесь на газету «Фигаро»{277}, платите деньги и получаете билет абонемента. Кажется, и все? Как бы не так! Ступайте в любой из трех богатейших магазинов, приторгуйтесь к вещице и вместо денег заплатите билет абонемента: его примут как ассигнацию, а газету вы все-таки получаете как ни в чем не бывало. Тут уж человеческая догадка должна признаться в собственном бессилии, и тупой ум мой ничем другим изъяснить это не может, как только желанием гг. издателей ощутить, во что бы то ни стало, давление империала на ладони. Кстати о магазинах. Здесь существует приятное обыкновение дарить друг друга в новый год вследствие пословицы: «Маленькие подарки способствуют дружбе». Недавно огромные окна магазинов, а магазины здесь это целые улицы, это бесконечный переход от кашемира к едва существующим (так легки!) тканям и от них к бронзе, золоту, картинам, статуйкам и проч., – эти окна залиты были подарочными вещами. Конечно, прошел тот удивительный век, когда богатый человек мог сидеть на кресле, которое само по себе было художническое произведение, смотреться в зеркало, принадлежащее к истории искусства, когда Бенвенуто Челлини{278} помечал в записках своих: «Я сделал превосходную чашу кардиналу… Я выковал рукоятку кинжала для герцога…» и проч.; нечего и говорить: все зримое и покупаемое нашим поколением – без стиля, ничтожно, мертвенно; но здесь как-то оно замысловато в собственном бессилии, хитростно в пошлости своей, мелочно со сноровкой, и есть некоторого рода польза и занимательность в рассматривании нынешнего ремесла в полном его проявлении. Наконец, упоминать ли вам о мелкой промышленности, которая собирает остатки обкуренных и брошенных сигар, чистит вам за 10 копеек сапоги, продает листки вечерних журналов за ту же сумму, играет на кларнете, придерживает вас за 5 копеек, когда вы выходите из кабриолета, и, словом, живет пылью, упавшею с ваших ног, прокармливается гвоздем, выпавшим из вашего каблука, спекулирует сброшенною перчаткой и проч. К числу, может быть, самых замысловатых выдумок нашего века принадлежат ухищрения воров, несмотря на бдительность полиции, которая, надо правду сказать, удивительна. У одного из знакомых моих вытащил из кармана фрака 300 франков молодой человек, спросивший у него о дороге куда-то и тотчас же узнавший в нем иностранца по ответу: «Я тоже иностранец, – сказал он, – и могу поделиться с вами некоторыми сведениями: вот площадь Согласия, это Лукзорский обелиск, а это церковь Магдалины: обратите внимание ваше на горильеф фронтона»… А покуда он обращал внимание, кошелек противозаконно переменил хозяина. Последняя воровская штука, здесь случившаяся, решительно принадлежит истории мошенничества и водевилю. Известно, что дамы самого высшего легитимистского общества являются в дома «кетировать», собирать милостыню на бедных своего округа, и ради благородного своего подвига, даже в знак христианского смирения, вступают в комнаты холостяков, взбираются на чердаки и не гнушаются самых черных закоулков дома. Не нужно говорить, что сделало мошенничество проклятое… Подъезжает великолепная карета; человек в чулках и пряжках отворяет дверцу, выходит дама, щегольски одетая, по имени де-Фюсак или что-то такое на ак; и, обобрав порядком весь дом, благополучно отъезжает. Исправительная полиция, заседания которой, как вообще всех судов, публичны и находятся в Palais de Justice, старом здании на острове Сите, представляет иногда сцены занимательнее драм круглого года. В будущих письмах я вам опишу (разумеется, если ответите мне на это письмо) все здешнее судопроизводство, а теперь только скажу, что формы его одинаковы как для уголовного преступника, так и для хмелем ушибленного, и что мне казалось, будто с этими ограниченными формами нельзя даже Павлушу какого-нибудь выучить басенке г. Б. Ф.{279} Однакож нет… Да, впрочем, это после. Пояснив таким образом первую сцену, возвращаюсь снова к пьесе.
Толпа модисток с визгом выбегает на сцену, преследуя какую-то девушку в шубейке. «Подайте нам ее: она перепортила у нас все поддельные цветы, подмочила башмаки и расстроила все наши предположения!» «Да кто же ты?» – спрашивает почтенный старичок, владетель зеркала, у гонимой девушки. «Лето, сударь», – отвечает шубейка. Не знаю, справедлива ли эта насмешка над летом, но что касается до зимы, то это совершенная самозванка. На улицах грязь, недельку простоял холодок в семь градусов, да и пропал: фонтан Пале-Рояля бьет до сих пор, Сена течет без льда… Разговор модисток в этой сцене есть местная непереводимая карикатура. Вообще, присутствие женщины в Париже поразительно заметно; решительно нет ни одного магазина, ни одной лавки, ни одного ресторатера, где бы не было за бюро и прилавком красиво одетой девушки, в передничке и ожерелье. Даже в публичных lieux d'aisance[30], где берут с вас за удобство, соединенное с некоторою роскошью, 15 копеек, даже и там в конторе счетные книги ведет и деньги принимает молодая женщина, одетая в снуровку. В маскарадах Большой оперы лоретки в черных капуцинах своих интригуют, ревнуют или бесят своих поклонников; но что делается в зале тем первым классом, погибшим – это описать трудно! Женщины в мужских костюмах и мужчины в разных фантастических одеяниях, охватив, сжав друг друга, вихрем несутся вдоль залы, опрокидывая все, что попадется на пути. Вопли и бешеные крики неистового удовольствия возносятся до небес; громовая музыка не в состоянии заглушить адский шум; всякое движение есть обида, с умыслом нанесенная приличию; всякое слово – неблагоразумие или вольность человека, разорвавшего на некоторое время все связи с обществом и его условиями. В первый раз, как я увидел эту оргию, эту скачущую толпу, услышал эти визги женщин, меня кинуло в дрожь буквально: мне показалось, будто пушечным выстрелом выкинуло меня вдруг из настоящей жизни куда-то за две тысячи лет к вакханалиям{280} и луперкалиям{281}; таковы маскарады Парижа в Большой опере! Какая разница, боже мой, с балом, данным в зале Opera Comique{282} высшим легитимистским обществом в пользу ancienne liste civile, то есть пансионеров Карла X{283}! Билет стоит 20 франков. В 10 часов все ложи наполнились разодетыми дамами, и coup-d'oeil[31] снизу на эти три ряда цветов, женских головок и туалетных драгоценностей был превосходный. В самой зале чинная теснота, толчки утонченной вежливости, молчаливые кадрили. Берье{284}, знаменитый оратор легитимистской партии, принимал поздравления в ложах от дам за речь, произнесенную им в это же утро в палате против права взаимного осмотру кораблей державами: тут он изверг хулу на англичан{285} и поднял бурю! Но и Гизо, отвечавший ему, стоил поздравлений: его ледяная речь рядом с огненною импровизацией Берье, захватила энтузиазм палаты и остановила его. Наконец, упомяну вам еще о классе женщин: это гризетки, то есть девушки магазинов, труда, ремесла, которые для перенесения жизненных треволнений соединяются в группы тоже с трудом и ремеслом – со студентами, артистами, стихотворною и повествовательною молодежью, и все это участие женщин в обществе дает Парижу особенный характер, не без некоторой прелести, не без некоторого нежного оттенка. Скажу это для поучения тех, кто считает городок этот смесью крови и грязи{286} и укореняет такое мнение в публике.
Возвратимся к пьесе. Великое затруднение причиняет всем сущим на сцене бюст Мольера, которому никто не может найти приличного места, подобно тому, как правительство не знало, в каком углу Парижа поставить ему памятник. Происходит по этому случаю замечательный разговор: поставить его на площади Медицинской академии нельзя: он так часто оскорблял медицину; на площади Сорбонны нельзя: он не любил педантов; словом, перебрали все площади, и ни одна не годилась для Мольера: он оскорбил почти все площади и почти все народные памятники. Досталось бы от него, думаю, и нынешней Сорбонне, и нынешней College de France{287}. В этих двух зданиях происходят публичные лекции знаменитейших профессоров Парижа, получающих жалование от правительства, и лекции которых, посещаемые всеми классами народа, принадлежат к числу парижских зрелищ{288}, во-первых, по отсутствию, по крайней мере в философских и литературных лекциях, строгой науки, а во-вторых, по необычайному старанию профессоров сделать чтения свои как можно остроумнее, пестрее, замысловатее. Никто так мастерски не наводит этого лоска, свойственного статейке, как Ампер{289}. Он читает историю французской литературы в XVI и XVII столетиях, разобрал Монтаня{290}, как человека, писателя и философа, и перешел легким очерком Шарона{291} к Паскалю{292}. Это самое лучшее проявление французского анализа: текст писателя дает профессору обильный источник для отрывочных замечаний, всегда остроумных; сближение некоторых мест порождает особенную игру мыслей, где и софизм, и практически верная мысль равно искрятся и блистают; частые обращения к истории порождают эпизоды, где исторические лица группируются с верностью и увлекательностью современных записок, а все вместе образуют цветистую и занимательную лекцию. Только гораздо позже, когда вы пожелаете возвратиться к основной мысли, увидите очень простое положение, что XVI столетие, бурное, скептическое, породило необходимо-правильный, религиозный век Людовика XIV{293}, а Монтань с холодным, несколько эгоистическим своим характером обратился, как свойственно этим характерам, к самому себе, написал, не думая, выводы этого учения и создал, во-первых, прекрасную скептически-философическую книгу, а во-вторых, прекрасную, живую, верную французскую прозу. Озанам{294} читает немецкую литературу, начав с «Нибелунгов»{295} и, мимо «Гудруны»{296}, достигнув миннезингеров{297}. Это воплощение французского эклектизма, столь спокойного для изыскателя: все материалы под рукой – стоит только класть их всегда параллельно. Он находит в «Нибелунгах» то же присутствие судьбы и теории возмездия, как и в греческих эпопеях, и тут являются ему два ряда немецких критиков. Одни говорят: Гомера не было, и все, как древние, так и новые эпопеи созданы народом, а собраны только одним человеком. Другие говорят: Гомер был, и все эпопеи, старые и новые, созданы одним гениальным человеком, представителем народа. Эклектик тотчас мирит двух врагов, находя, что каждый отчасти прав, и это объяснение вопроса, как видите, немного трудное. Впрочем, Озанам привлекает огромную публику, и рукоплескания часто гремят ему сколько за занимательность самого сказания, столько и за те немецкие идеи, в которые он должен входить для химического процесса их соединения и переварки. Филарет Шаль{298} читает английскую литературу. Вступительная лекция его отличалась особенно произвольными положениями, весьма недостаточно оправданными, а следующие лекции показали это еще яснее. Разделение поэзии на условную и истинную, на ложную и верную, на искусственную и простую, не выведенное ниоткуда, а между тем пребеззаботно подтверждаемое примерами в том и другом роде, поражает глаза. Достоинство его лекций лежит собственно на большей или меньшей занимательности этих примеров и на большем или меньшем остроумии, с которым он их приводит. Эдгар Кине{299} еще не начинал своих лекций о литературе южной Европы. Кроме этих лекций, читаются курсы литератур китайской, коптской, санскритской, индийской и господь знает еще какой. Лекции естественных наук, ремесел всегда полны. Есть еще множество частных курсов. Недавно был я в институте, заведенном частными людьми для образования ораторов, в которых действительно так нуждается Франция. В положенные дни всякий может являться на кафедру института и говорить на заданную тему. При мне тема была: «о пользе искусств для оратора». Истинно сказать, часа два болтали пустяки, чему, впрочем, кажется мне, главною причиною была сама тема. Лучше всех о прекрасном и благородном говорил бывший издатель «Франкфуртского журнала» Дюран{300}. Он пользуется в Европе не очень завидною репутацией, но о тех вещах говорит всегда со слезами на глазах…
Я здесь достал у А. И. Тургенева{301} последние три тома Пушкина и, после четырнадцатимесячного воздержания от российской литературы, с первого приема наткнулся прямо на нашего псковского усопшего. Господи владыка, как он ударил по всему существу!.. Да вы, впрочем, не поймете, что значит читать за границей Пушкина. А здесь решительно ничего нет в литературе даже такого, чтоб наделало шуму. Французы совершенно согласны, что путешествие Гюго на Рейн – скучно{302}. «Майорка»{303} Жоржа Занда, тоже путешествие, расшевелило несколько умы, но скоро было забыто вследствие таковой резолюции: не может быть, чтоб «Майорка» была так хороша. Роман Бальзака, печатавшийся в «Siecle» и вышедший особенною книгой: «Записки двух девушек»{304}, кажется, возбудил даже здесь негодование излишнею фигурностью выражения. Предпочитают ему «Кавалера Арменталя» Дюма{305}, но многие говорят: «Я не читаю романов Дюма, потому что поджидаю, когда он переделает их в драмы: тогда будет легче, занимательнее, да и деньги хорошо употребятся: пьесу увидишь, и роман узнаешь». Книгопродавцы прибегли с горя к картинкам и великолепным изданиям, чтоб завлекать охладевшую публику; новый роман Сулье: «Если б молодость ведала! Если б старость могла!» издается еженедельно листками, со всею типографскою роскошью, и бог знает, когда кончится. В этом роде замечательны статейки, собранные под заглавием: «Животные, писанные ими самими (peints par eux-memes), а нарисованные другими», с прекрасными карикатурами Гранвиля{306}. Политические брошюры распространяются страшно, так распространяются, что одному человеку уже и вычитать нельзя, что появляется в неделю. Я только хожу да посматриваю на окна книжных магазинов, где каждый день является новая афишка. Вчера возвещали о брошюре: «Я бью стекла»; третьего дня: «Счет пощечин, полученных Францией»; сегодня: «Памфлет и история». Плюнешь всякий раз, да и отойдешь прочь!
Наконец, первый акт пьесы заключается пародией всех театров; тут в карикатуре являются целые сцены из замечательнейших пьес прошлого года, сыплются намеки на авторов, актеров и актрис, на писателей, деревянную мостовую, новые моды и черт знает еще на что. Думаю: только цензура помешала вывести на сцену палаты, магистрат, духовенство и двор. Так изволит тешиться Париж над самим собою. Второй акт, занятый будущностью Парижа, где пароходы ходят в тридцать шесть часов в Пекин, аэростаты летают в Гаванну за сигарами, люди всех наций появляются на улицах всемирного города, вымощенных уже bois de pallisandre{307}, фантастически довершает эту пьесу, доставившую мне более удовольствия, чем «Кипрская королева» Галеви с процессиями, серенадами, танцами; чем «Цепь» Скриба, поддерживаемая превосходною игрою Плесси в роли графини; чем несколько нахальный водевиль «Виконт Леторьер»{308}, где Дежазе в мужском костюме так дерзостно хорошо читает; чем Арналь с уморительными ужимками в «Палатине»{309}, Лафон{310} с иронией, скрывающей глубокую испорченность, в «Электрической цепи»{311}, буф Левассор в фарсе «Синий чулок»{312}, и сладенькая Вольпи{313} в сантиментальном водевиле «Парижские феи»{314}, – более чем, вероятно, доставят удовольствие новоожидаемые письма Гюго, Дюма и Бальзака…







