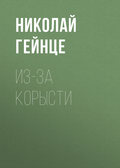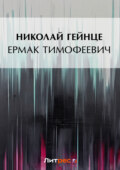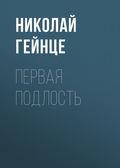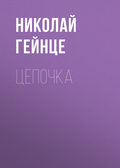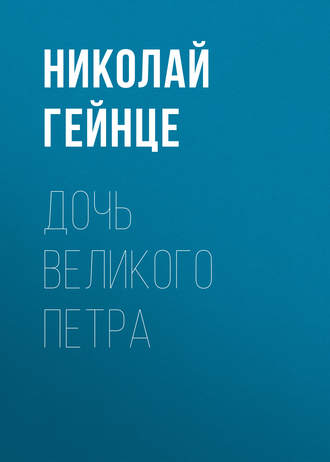
Николай Гейнце
Дочь Великого Петра
XXVI. Избрание в гетманы
В конце 1746 года императрица Елизавета Петровна сосватала за графа Кирилла Григорьевича Разумовского, несколько, как говорили тогда при дворе, против его желания, свою внучатую сестру и фрейлину Екатерину Ивановну Нарышкину.
Екатерина Ивановна родилась 11 мая 1731 года. Она была дочерью капитана флота Ивана Львовича Нарышкина. По отцу Екатерина Ивановна была внучка любимого дяди Петра Великого боярина Льва Кирилловича, заведовавшего Посольским приказом и умершего в 1705 году. Он один из всех братьев царицы Натальи Кирилловны оставил мужское потомство.
Тетки Екатерины Ивановны при дворе Петра Великого играли весьма важную роль и считались чем-то вроде принцесс крови. Из них Агриппина Львовна вышла за князя Александра Михайловича Черкасского, Александра за знаменитого Волынского, Мария за князя Федора Ивановича Голицына, а Анна за князя Алексея Юрьевича Трубецкого. По матери своей невеста графа Разумовского происходила от Фомы Ивановича Нарышкина, дяди Кирилла Полуектовича.
Дед ее, Кирилл Алексеевич, был сперва царским кравчим, потом обер-комендантом дерптским, первым с. – петербургским комендантом и, наконец, московским губернатором.
Дядя ее, Семен Кириллович Нарышкин, первый щеголь своего времени, бежал в царствование Анны Иоанновны, преследуемый за приверженность к цесаревне Елизавете, во Францию и проживал там под именем Тенкина. Елизавета Петровна по восшествии своем на престол пожаловала его в камергеры и назначила посланником в Англию. Он там оставался всего шесть месяцев, назначен был гоф-маршалом при великом князе Петре Федоровиче, а потом обер-егермейстером в 1757 году. Он известен тем, что был изобретателем знаменитой в прошлом столетии у нас роговой музыки.
Тетка Екатерины Ивановны, Софья Кирилловна, была замужем за бароном Сергеем Григорьевичем Строгановым.
Екатерина Ивановна лишилась родителей в раннем младенчестве и воспитывалась в доме дяди своего Александра Львовича, известного своею надменностью и женатого на графине Елене Александровне Апраксиной.
Таким образом, все детство свое, пока не была взятой ко двору, прожила она с двоюродными братьями своими, Александром и Львом Александровичами, столь известными в прошлом столетии любезностью и гостеприимством. В приданое получила она половину всего огромного состояния Нарышкиных. За княжной считалось 88 тысяч душ и, между прочим, дом на Воздвиженке (теперь графа Шереметева), подмосковные села Петровское (известное под именем Петровско-Разумовского), Троицкое, Котлы, огромные пензенские вотчины: Черниговская и Ерлово.
Вот описание свадьбы Кирилла Григорьевича, как оно значится в камер-фурьерском журнале 1746 года:
«27 октября сняли траур, который носили по французскому дофину. Сего же числа отправилась при дворе ее императорского величества свадьба камергера графа Кирилла Григорьевича Разумовского с фрейлиною Нарышкиною. Пополудни знатнейшего обоего пола особы съехались ко двору ее императорского величества в галерею, а в 6-м часу пополудни во дворец велено въехать придворным цугом, так же и других знатных персон каретам, в которые сев, чиновные по свадебной церемонии поехали по жениха на его двор, и в 7 часу привезен он во дворец, прямо к большому галерейному крыльцу, и препровожден в церковь. Потом обыкновенною церемониею, из покоев ее императорского величества, через галерею, невеста ведена с литавры и трубы маршалом его сиятельством князем Трубецким с шафером и другими кавалерами. Невесту вел его императорское высочество; за ними следовали ее высочество государыня, великая княгиня и другие чиновные дамы в церковь и, по обвенчанию, такою же церемониею пошли в галерею и в парадные камеры, пока на приготовленные столы кушанья становили. И как поставили кушанья в покоях на стороне ее императорского величества, подле малой комнатной церкви, в трех покоях: в 1 большом 2 стола с балдахином на 80 персон; во 2-м – 2 стола на 80 же персон; в 3-м покое на 20 персон, то за столом обыкновенно под балдахином поместилась невеста подле ее матери, по правую сторону ее высочество государыня великая княгиня; по левую же ее светлость вдовствующая ландграфиня Гессен-Гомбургская; в конце стола, из высочайшей милости, изволила присутствовать ее императорское величество; подле ее величества по правую и левую сторону сидели господа послы; во время стола за стульями у послов стояли камер-пажи; затем сидели знатнейшие дамы. За другим столом под балдахином жених, отцы и братья и прочие знатные иностранные министры. Во время столов, на свадебной церемонии, обыкновенно, маршал с трубы и литавры, приводил ближних девиц и форшнейдера. Здоровья маршал с шаферами пить начал: 1) жениха и невесты; 2) отцов и матерей; 3) братьев и сестер; 4) форшнейдера и ближних девиц; 5) всех гостей. Форшнейдер был камергер граф Скавронский; шаферов, камергеров и камер-юнкеров 6 человек. А за прочим столом сидели так же знатные персоны 6 класса. В продолжение стола играла итальянская музыка. И по окончании стола возвратились в галерею и начались танцы; несколько потанцевав, с музыкою провожали до карет и отвезены жених и невеста в дом их. Того дня при дворе была надета статс-ливрея.
28 числа октября, поутру, обыкновенно, помянутые камергер граф Разумовский с женою ее императорскому величеству всеподданнейшее благодарение приносили, также и их императорским высочествам, и того дня при столе их величеств уняты были кушать. Того же дня пополудни собрались в галерею все знатнейшие персоны и начался бал; а, между тем в выше объявленных комнатах, в которых 27 числа кушали, таковые же столы приготовлены. И по окончании бала кушали вечернее кушанье; сидела обыкновенно невеста в своем месте под балдахином; потом приведен граф Разумовский церемониею, при битии литавр и игрании труб, маршалом и, сорвав над своею графинею венец, посажен с нею. Ее императорское величество из высочайшей милости изволила при том столе присутствовать яко гостья, а ее высочество государыня великая княгиня и господа послы сидели подле ее императорского величества так, как в первый день. За другим столом его императорское высочество и прочие чиновные персоны и чужестранные министры. В продолжение стола была итальянская музыка. Здоровья кушали те же, которые в 1 день пили. По окончании стола разъехались по домам.
29 числа октября роздых.
30 числа октября пополудни ее императорское величество и их императорские высочества и все знатнейшие чужестранные лица были в доме упомянутого графа Разумовского; был бал и кушали вечернее кушанье».
На другой день после свадьбы, 28 октября, графиня Екатерина Ивановна была пожалована в статс-дамы. Между тем малороссийские депутаты Лизогуб, Ханенко и Гудович все еще находились при дворе, ожидая окончательного решения об избрании гетмана. Они, впрочем, сумели за это время выхлопотать много льгот для своей родины.
Наконец, 16 октября 1749 года подписан был Елизаветой Петровной указ об отправке графа Гендрикова для избрания гетмана и о передаче всех дел украинских из Сената в Коллегию иностранных дел. В это время были отпущены и депутаты. Дело об избрании графа Кирилла Григорьевича было решено в Петербурге, теперь следовало исполнить обряд выбора его вольными голосами.
15 января 1750 года приехал в Глухов граф Гендриков. Он привез жалованную грамоту и через два дня по его приезде, по его требованию, генеральные старшины съехались в генеральную канцелярию и подписывались на «прошении в гетманы Кирилла Григорьевича». Гендриков после этого угощал напропалую старшин, которые у него немало «гуляли и куликали».
14 февраля прибыл на избрание митрополит Киевский и архиерей Черниговский, а 17-го и все полковники, старшины и бунчужные, кроме рядовых казаков, которым не было указу являться к этому сроку. На другой день в квартире Гендрикова, или, как ее называли в Глухове, «квартире министерской», собраны были все полковники, бунчужные товарищи, полковые старшины, сотники, архиереи и все духовенство и им объявлено было избрание гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, «а рядовых казаков при этом не было». Несколько дней посвящено было на подготовку самого избрания при обстановке, дотоле еще неизвестной на Украине.
Наконец, 22 февраля произошло самое торжественное избрание, или «элекция», как выражались современники. По прибытии утренней зари и данному сигналу из трех пушек народ толпою стал собираться со всех сторон на площади, между церквами Николаевскою и Троицкою, где изготовлено было возвышение о трех ступенях, покрытое гарусным штофом и обведенное перилами, обитыми алым сукном. В то же время выступили к тому месту полки под главным начальством есаула Якубовича.
В 8 часов, по данному второму сигналу, собрались в дом полномочного министра графа Гендрикова генеральные и войсковые старшины, бунчуковые товарищи и знатное малороссийское шляхетство, а митрополит Киевский, Тимофей Щербацкий, с тремя епископами, печерским архимандритом Иосифом Орнатским и прочим духовенством, отправились в церковь Святого Николая Чудотворца.
В 9 часов третий сигнал возвестил народу о начале церемонии. Прежде всего выехали со двора великорусского полномочного шестнадцать выборных компанейцев в полном вооружении под предводительством их старшины. За ними следовали гетманские войсковые музыканты с литаврщиками, играя поход; потом в богатой карете, запряженной цугом, секретарь Коллегии иностранных дел, Степан Писарев, вез высочайшую жалованную грамоту, которую держал в руках, на большом серебряном вызолоченном блюде. Все полки отдавали ей честь ружьями и наклонением знамен. По сторонам кареты шли двенадцать гренадер при ружьях. За каретой несли гетманские клейноды: большое белое знамя с русским гербом, подарок Петра Великого гетману Данииле Апостолу, гетманские булаву, бунчук и печать. Наконец, несли войсковой прапор. Затем цугом ехал в богатой карете граф Гендриков и его ассистенты, окруженные гренадерами и придворными лакеями.
Когда граф Гендриков приблизился к возвышению, внесены были на него царская грамота и гетманские клейноды и положены были на два стола. Государственное знамя держал Гамалей с двумя товарищами около стола, на котором лежала грамота. За ними поместилось духовенство в полном облачении. Около стола, где лежали клейноды, стояли генеральные старшины и бунчуковые товарищи, а вокруг возвышения все шляхетство. Посреди возвышения стал граф Гендриков.
– Ее императорское величество, – сказал он, – по прошению всего малороссийского народа всемилостивейше соизволяет быть по-прежнему на всей Малой России гетману и повелевает избрать им себе из природных своих людей гетмана, по малороссийским своим правам и вольностям, вольными голосами, для которого избрания я, с высокомонаршею грамотою, сюда, в Малую Россию, и прислан.
После этого секретарь Писарев громогласно прочел всему собранию жалованную грамоту. По прочтении грамоты митрополит Киевский от имени малороссийского народа принес всеподданнейшее благодарение «за таковое ее императорского величества к народу милосердие». Тогда граф Гендриков, оборачиваясь на все стороны, громогласно несколько раз спросил:
– Кого желаете себе в гетманы?
На это духовенство, генеральные старшины, бунчуковые и войсковые товарищи, полковники, старшины и шляхта объявили, что, так как самым верным и неутомимым ходатаем за них постоянно был граф Алексей Григорьевич Разумовский, то они за правое полагают быть в Малой России гетманом брату его, природному малороссиянину, ее императорского величества действительному камергеру, лейб-гвардии Измайловского полка подполковнику и Академии наук президенту, орденов Святого Александра Невского и Святой Анны кавалеру, графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому.
Народ троекратным криком подтвердил избрание. Граф Гендриков поздравил тогда всех присутствующих с новоизбранным гетманом. Раздался сто один пушечный выстрел, и по полкам все казаки стали стрелять беглым огнем.
Грамота и гетманские клейноды были внесены в церковь Святого Николая, куда отправилось собрание. Началась литургия, после которой был отпет молебен с многолетием государыне, причем произведена была троекратная пушечная и ружейная во всех полках пальба. Из церкви грамота и клейноды перенесены были в дом Гендрикова, а полки выведены были за город и распущены.
В следующие дни состоялось избрание депутатов, которые должны были ехать в Петербург, чтобы благодарить государыню и поздравить нового гетмана.
Странным показалась вся эта невиданная дотоле обстановка малороссиянам. Многие, конечно, радовались – имя гетмана имело для них все же что-то магическое. Старые казаки только, вздыхая, покачивали головами и чуяли, что настали другие времена, что прошла невозвратно пора Сагайдачного и Хмельницкого, при избрании которых и на ум никому не приходили все эти процессии, возвышения, обтянутые сукном, и богатые кареты, заложенные цугом, те простые, но веселые времена, когда громада казаков собиралась на площади и шапками забрасывала любимого избранника.
XXVII. Новые фавориты
Влияние Бестужева на дела государственные все усиливалось. Крайне пронырливый и подозрительный, неуживчивый и часто мелочный, он в то же время был тверд и непоколебим в своих убеждениях. Враг непримиримый, он был, однако, другом друзей своих, и тогда их покидал, когда они сами изменяли ему. С необыкновенным искусством умел он действовать даже через своих недругов, и долгое время Шуваловы служили его целям.
Замечательно, что на стороне своей он имел честнейших людей того времени; так, барон Иван Антонович Черкасов, кабинет-секретарь государыни, человек суровый и упрямый, но любивший порядок и справедливость, был его лучшим другом. Главной силой Бестужева была тесная связь его с Алексеем Григорьевичем Разумовским. Значение Алексея Петровича еще более возвысилось со времени женитьбы его сына на молодой графине Разумовской. Императрица поставила Бестужева на такую близкую ногу, что не проходило почти вечера без приглашения его на маленькие вечеринки, и Елизавета Петровна дозволила ему говорить все, что он хочет. Эта «молодая графиня Разумовская», титулованная так и в камер-фурьерских журналах, была родная племянница Алексея и Кирилла Разумовских, дочь их покойного брата Данилы, Авдотья Даниловна, фрейлина императрицы.
18 декабря 1747 года, в день своего рождения, Елизавета Петровна обручила сына камергера, камер-юнкера графа Андрея Алексеевича, с фрейлиной Разумовской во время бала и в присутствии всех чужестранных министров и знатнейших особ обоего пола. Брак, совершенный 5 мая 1747 года, был несчастный. У молодых с первых же дней брака стали происходить домашние ссоры. Молодая графиня грозилась пожаловаться государыне и своему старшему брату, обещалась обратить свое замужество в унижение великого канцлера и его семейства, настолько, насколько она до сих пор служила к их возвышению. В конце 1747 года графиня Авдотья Даниловна поехала с мужем в Вену, куда молодой Бестужев был отправлен с поздравлением по случаю рождения эрцгерцога Леопольда.
Мария-Терезия, нуждаясь в союзе с Россией и знавшая, что Бестужев и Разумовский были сторонниками венского кабинета, осыпала любезностями графиню Бестужеву. Жила она недолго: беспутный муж скоро вогнал ее в могилу. Горячий сторонник союза с Англией, где он провел свою молодость, и с Австрией, дружественные отношения к которой были еще завещаны Петром Великим, Алексей Петрович Бестужев не мог равнодушно думать о Пруссии и Франции. Он знал, сколько денег потратили и Фридрих Великий, и версальский кабинет на то, чтобы его свергнуть, и направил все усилия к тому, чтобы окончательно уничтожить влияние этих двух держав в Петербурге. Он перехватил депеши приятеля Лестока – де Шетарди, полные дурных отзывов о Елизавете Петровне, и добился того, что французский посланник был со срамом выгнан из России.
Один враг был сломлен, но за Пруссию стоял еще граф Лесток, которому государыня была многим обязана, но которого терпеть не мог граф Алексей Григорьевич и который сам открытым презрением ко всему русскому, бестактным поведением и необдуманными словами приготовил себе погибель. 22 декабря 1747 года Лестока схватили, допрашивали, пытали и сослали сперва в Углич, а потом в Устюг Великий.
Другие враги Бестужева, Шуваловы и Воронцов, держались благодаря своим женам, но трепетали перед всемогущим канцлером. Великий князь, о котором Бестужев отзывался с величайшим презрением, лишенный своей голштинской свиты, которую канцлер выгнал без всяких церемоний из России, и великая княгиня, на которую он смотрел как на малозначащую девочку, окруженные соглядатаями, не могли ни двинуться, ни вымолвить слова без его ведома.
Вскоре после ссылки Лестока двор снова переехал в Москву. Там государыня обедала и ужинала у Разумовского, в Горенках, а 17 марта в селе Петровском было обеденное кушанье для тезоименитства его сиятельства графа Алексея Григорьевича; кушала ее императорское величество и их высочества и первого и второго класса обоего пола персоны. Палили из пушек при питии здоровьев. Вслед за двором приехал в Москву и граф Кирилл Григорьевич.
Вообще, когда двор покидал Петербург, то северная столица обращалась в совершенную пустыню. Не видно было более карет, и улицы зарастали травою.
В это пребывание в Москве Елизавета Петровна очень серьезно заболела. У нее сделались страшные спазмы, от которых она лишилась чувств и жизнь ее была в опасности. Придворные страшно переполошились, но болезнь хранилась под величайшим секретом. Даже великий князь и великая княгиня узнали о ней только случайно.
«Целую ночь, – пишет Линар, датский посланник, хорошо знакомый с тем, что делалось при дворе, так как он был принят как свой у Бестужевых, – были собрания и переговоры, на которых, между прочим, решено было главными министрами и военными властями, что, как скоро государыня скончается, великого князя и великую княгиню возьмут под стражу и императором провозгласят Иоанна Антоновича. Число лиц, замешанных в это дело, очень велико, но до сих пор никто друг друга не выдавал. Я подозреваю многих в том, что они принимали участие в заговоре, особенно же имеющих причины опасаться великого князя и весьма естественно ожидающих более милостей от принца, который всем им будет обязан».
Этим показанием объясняется начало совещаний Бестужева и Апраксина у Чеглоковых, о которых упоминает Екатерина II в своих воспоминаниях. Вероятно, и Алексей Григорьевич знал об этих планах. Ему, как истинно русскому человеку, не раз приходилось внутренне вздыхать ввиду иностранных замашек и вкусов наследника престола.
Опасения катастрофы, однако, исчезли, государыня скоро поправилась. Впрочем, как мы уже сказали, об ее болезни знали лишь самые приближенные лица. Всякий спрос о здравии императрицы мог бы любопытного привести прямо в Тайную канцелярию.
Елизавета Петровна вскоре переехала в Перово, к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Туда приглашен был и великий князь с великой княгиней. Каждый день бывали в Перове охоты, и мужчины возвращались домой поздно, усталые и нелюбезные, так, что дамам приходилось искать развлечения в себе самих. Государыня ежедневно принимала участие в охоте.
Великая княгиня усердно принялась за чтение, что составило исключение при дворе, где редко кто брался за книгу. Обер-гофмейстерина Чеглокова, состоявшая при Екатерине, горько жаловалась на скуку. Не с кем было поиграть в карты, до которых она была страстная охотница, да к тому же ее муж, которого она страшно ревновала, совсем отбился от рук. Благодаря подаренной ему собаке Цирцее он участвовал в каждой охоте и сделался предметом постоянных насмешек и шуток всей перовской компании. Его уверяли, что собака его не упускала ни одного зайца, и тщеславный Чеглоков был в восторге.
В Перове великая княгиня заболела, и здесь она увидела доказательство того обязательного влияния на приближенных, которым природа столь щедро ее наградила. Враждебная ей Чеглокова, приставленная к ней Бестужевым, чтобы следить за каждым ее шагом, с самой нежной заботливостью стала ухаживать за великой княгиней во время ее болезни и с этих пор совершенно переменилась в своих к ней отношениях. Вскоре после этой болезни захворала вторично и государыня. Она приказала перенести себя в Москву, и весь двор шагом ехал за нею.
Новый припадок спазма не имел последствий, и вскоре Елизавета Петровна отправилась на богомолье к Троице. Она дала обет пройти пешком все шестьдесят верст и начала свое путешествие от Покровского дворца. Пройдя в день версты три или четыре, императрица возвращалась в Москву в карете. Иногда она в экипаже отправлялась далее, к тому месту, где приготовлена была стоянка. После отдыха она снова возвращалась в карете туда, где остановилась в своем пешеходстве, и отсюда снова продолжала свое шествие. Таким образом, поход этот занял почти все лето, тем более что иногда императрица по нескольку дней отдыхала в Москве и селах по дороге.
На время богомолья великий князь и великая княгиня переехали на троицкую дорогу и поселились в Раеве, именье Чеглоковых, близ Тайнинского. Государыня отправилась в Воскресенский монастырь. Граф Алексей Григорьевич сопутствовал ей, а также и некоторые из самых приближенных к ней лиц. Дорогой государыня останавливалась в принадлежащем Разумовскому селе Знаменском и там вечернее кушанье кушать изволила в ставках на лугу, подле Москвы-реки.
В это пребывание императрицы в Знаменском и произошло возвышение нового любимца, Ивана Ивановича Шувалова. Доказательством этого служило то, что он уговорил Разумовского уступить ему Знаменское, напоминавшее ему о начале его случая, а впоследствии подарил его сестре. Вряд ли Алексей Григорьевич уступил бы без особенных на то причин имение, подаренное ему в 1742 году государыней из собственных ее вотчин.
Как бы то ни было, но через месяц, накануне своих именин, которые она праздновала в Новом Иерусалиме, 4 сентября, императрица пожаловала своего камер-пажа в камер-юнкеры. Это было событие при дворе.
Все на ухо друг друга поздравляли с новым фаворитом. Возвышение Ивана Ивановича Шувалова, который еще камер-пажом обратил на себя внимание Екатерины своим прилежанием и любовью к чтению, исподволь было подготовлено его родственниками. Графиня Мавра Егоровна Шувалова, женщина умная, ловкая и дальновидная, пользовалась разными случаями, чтобы обратить на красавца пажа внимание государыни, и благодаря ей Иван Иванович получил сперва золотые часы, потом пожалован был камер-пажом, а наконец, и камер-юнкером. С необычайною хитростью Шувалов так устроил дело, что Бестужев и Апраксин просили государыню пожаловать Ивана Ивановича в камер-юнкеры, и граф Александр Иванович приезжал к ним нарочно, будто просить, чтобы они сделали одолжение и ее величеству в удобное время доложили. Нет сомнения, что Бестужев и Апраксин обратились к другу своему Разумовскому и что добродушный Алексей Григорьевич сам же просил о возвышении своего соперника.
С этих пор нанесен был первый удар могуществу Бестужева, и Алексей Григорьевич стал мало-помалу удаляться на второй план. Алексей Петрович уступил, однако, не без борьбы. Он решился заменить нового фаворита своим собственным созданием, которое было бы его орудием, а не подмогой для недругов. В самом деле, вскоре стали замечать при дворе, что роскошнее всех бывал одет на представлении актеров-кадетов, о которых мы упоминали, красивый юноша Никита Афанасьевич Бекетов. Ему было лет восемнадцать или девятнадцать, и он исполнял роли первых любовников. Потом и вне театра показались на нем и бриллиантовые перстни, и кольца, и часы, и кружево, и все самое лучшее. Наконец, он вышел из корпуса и, несомненно, вследствие настояния Бестужева, ненавидевший всякие интриги Алексей Григорьевич взял молодого Бекетова к себе в адъютанты, что давало тогда капитанский чин.
Придворные не замедлили вывести из этого свои заключения. Стали говорить, что, если граф Разумовский приблизил к себе Бекетова, это сделано с целью противопоставить его молодому камер-юнкеру Шувалову, так как бывший кадет обратил на себя особенное внимание государыни.
Придворные не ошиблись. Действительно, Бекетов был избран Бестужевым, чтобы отстранить Шувалова и его партию. Во всем этом деле явно была видна рука Бестужева. Он приставил к молодому и неопытному Бекетову другого адъютанта, состоявшего при графе Алексее Григорьевиче, Ивана Перфильевича Елагина, который в то же время служил и под его начальством в Коллегии иностранных дел. Жена Елагина – камер-фрау государыни доставляла Бекетову тонкое белье и кружева, а так как она не была богата, то ясно было, что деньги тратились не из ее кошелька.
Более года оба соперника жили при дворе. Бекетов был произведен в полковники, занял комнаты во дворце и, казалось, брал решительный перевес над Шуваловым. Положение же графа Алексея Григорьевича среди всей этой интриги для людей не посвященных во все тайны придворной жизни, казалось неизменившимся. Государыня зимой гостила по три дня, а иногда по шести дней у него в Гостилицах и праздновала, по обыкновению, в его доме день святого Алексея – человека Божия, причем в продолжение обеденного и вечернего столов была обычная пальба из пушек, итальянская музыка и иллюминация. Брат его был назначен гетманом.
Казалось, все было по-прежнему, да, в сущности, оно и было, потому что положение новых фаворитов государыни было очень далеко от положения ее «тайного супруга», каковым был Алексей Григорьевич Разумовский.