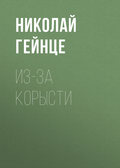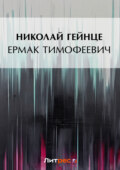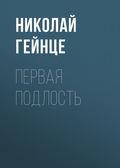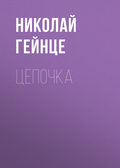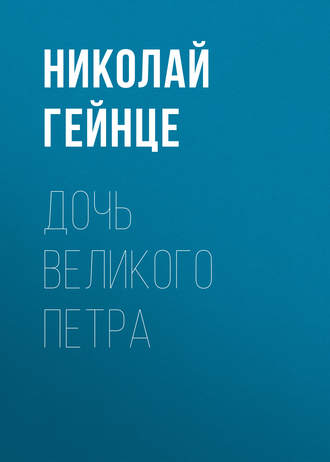
Николай Гейнце
Дочь Великого Петра
XXII. Искусительница
Станислава Феликсовна нагнулась к сыну и, хотя они были одни, понизила голос до шепота.
– Неужели ты без всякого сопротивления подчинишься насилию, позволишь разорвать священную связь между матерью и ребенком и попрать ногами нашу любовь? Если ты допустишь это сделать, в твоих жилах нет ни капли моей крови – ты не мой сын.
– Мама! – воскликнул мальчик.
– Он послал тебя проститься со мною, а ты терпеливо покоряешься да еще принимаешь его позволение за величайшую милость с его стороны, – перебила его Станислава Феликсовна. – Ты в самом деле пришел проститься со мной навсегда, в самом деле?
– Я должен! – с отчаянием прервал ее сын. – Ты знаешь отца и его железную волю, разве есть какая-нибудь возможность противиться ей…
– Если ты вернешься к нему, то нет, но кто же заставляет тебя возвращаться?..
– Мама! Ради бога! – с ужасом воскликнул он, но руки матери еще крепче охватили его, а горячий, страстный шепот продолжал раздаваться над его ухом.
– Что так пугает тебя в этой мысли? Ведь ты только пойдешь за матерью, которая безгранично тебя любит и с той минуты будет жить исключительно тобой. Ты часто жаловался мне, что ненавидишь военную службу, к которой тебя принуждают, что с ума сходишь от тоски по свободе; если ты вернешься к отцу, выбора уже не будет: отец неумолимо будет держать тебя в оковах; он не освободил бы тебя, даже если бы знал, что ты умрешь от горя.
Ей не было надобности уверять в этом сына. Он знал это лучше ее. Всего какой-нибудь час назад он имел случай убедиться в непреклонности отца. В его ушах еще раздавались последние суровые слова:
– Ты должен научиться покоряться и научишься.
Его голос стал почти беззвучным от горечи, когда он отвечал.
– И все-таки я должен вернуться, я дал слово быть дома через два часа.
– В самом деле! – резко и насмешливо произнесла Станислава Феликсовна. – Так я и знала! То тебя считали не более как мальчиком, каждым шагом которого надо руководить; за тебя рассчитывали каждую минуту, ты не смел иметь ни одной самостоятельной мысли, теперь же, когда дело идет о том, чтобы тебя удержать, за тобой вдруг признают самостоятельность взрослого человека.
Она нервно захохотала. Сын со страхом и недоумением смотрел на нее.
– Ну, хорошо, – продолжала она, – так покажи же, что ты взрослый не только на словах – действуй как взрослый! Вынужденное обещание не имеет никакой силы: разорви же невидимую цепь, на которой тебя хотят удержать, – освободись…
– Нет, нет, – бормотал сын, возобновляя попытку вырваться из ее рук.
Но попытка эта была неудачна. Мать крепко держала его в объятиях.
– Пойдем со мной, Осип, – говорила она тем нежным, неотразимым тоном, который делал ее, как и сына, чуть не всемогущей. – Я давно все предвидела и все подготовила; ведь я знала, что день, подобный сегодняшнему, настанет. В получасе ходьбы отсюда ждет мой экипаж, он отвезет нас на ближайшую почтовую станцию, и раньше, чем в Зиновьеве догадаются, что ты не вернешься, мы уже будем с тобой далеко, далеко…
– Нет, мама, нет, это невозможно…
Станислава Феликсовна, не слушая его, продолжала:
– Там свобода, жизнь, счастье! Я введу тебя в широкий вольный свет, и только тогда, когда ты узнаешь его, ты вздохнешь полной грудью и почувствуешь радость освобожденного из темницы узника.
– Мое слово, мама, мое слово…
Как бы не замечая возражений сына, мать продолжала:
– Я знаю, каково бывает на душе у такого счастливца, ведь и я носила цепи, которые сама сковала себе в безумном ослеплении; но я разорвала бы их в первый же год, если бы не было тебя. О, как хороша свобода! Ты на собственном опыте убедишься в этом.
Она прекрасно умела найти дорогу к желанной цели. Свобода, жизнь, счастье! Эти слова отзывались тысячным эхом в груди юноши, в котором до сих пор насильственно подавляли бурное стремление ко всему тому, что ему предлагала мать. Как светлая, очаровательная картина, залитая волшебным сиянием, стояла перед ним жизнь, которую рисовала ему Станислава Феликсовна. Стоило протянуть руку – и она была его.
– Мое слово… – еще продолжал бормотать он.
– Это ловушка…
– Отец будет презирать меня, если…
Она перебила его:
– Если ты достигнешь великой и славной будущности? Тогда явись к нему и спроси, осмелится ли он презирать тебя. Он хочет удержать тебя на земле, тогда как природа дала тебе крылья, которые уносят тебя под облака. Он не может понять твоей натуры, никогда не поймет. Неужели ты хочешь погибнуть из-за простого обещания?
– Но, мама…
– Пойдем со мной, Осип, со мной, для которой ты все! Пойдем на свободу.
Она увлекала его прочь, медленно, но неудержимо. Правда, некоторое время он еще противился, но вырваться ему не удалось. Под влиянием мольбы и нежности матери последний остаток сопротивления постепенно ослабел. Он последовал за ней. Через несколько минут у пруда было совершенно пусто. Мать и сын исчезли.
В то время, когда у берега лесного пруда происходило описанное нами объяснение между матерью и сыном, в столовой княгини Вассы Семеновны хозяйка дома, ее брат и полковник Иван Осипович Лысенко, казалось, спокойно вели беседу, которая совершенно не касалась интересующей всех троих темы. Эта тема была, конечно, разрешенное отцом свидание сына с матерью. Иван Осипович не касался этого предмета, а другим было неловко начинать в этом смысле разговор.
Сергей Семенович иногда серьезно, с искренним сожалением поглядывал на своего друга. В душе у него сложилось полное убеждение, что мать одержит победу над сыном и что последний не вернется. Княгиня Васса Семеновна думала то же самое, хотя и не успела объясниться с братом ни одним словом по этому вопросу. И брат и сестра слишком хорошо знали Станиславу Феликсовну.
Время шло. Иван Осипович, видимо, сильно нравственно ломавший себя, стал нервно двигаться на стуле и чутко прислушиваться к малейшему шуму, долетавшему из сада. Поднявшийся легкий ветерок шелестел деревьями, и только. Густые сумерки стали ложиться на землю. Слуги зажгли в столовой огни.
Назначенные отцом сыну два часа миновали. Разговор между тремя собеседниками еще продолжался, но все чаще и чаще стал обрываться не только на полуфразе, но и на полуслове. Напряженное состояние духа собеседников достигло высшей степени. Его совершенно неожиданно разрешил Иван Осипович.
– Лошади, вероятно, готовы… – вдруг встал он.
– Лошади…
– Какие лошади?..
Это повторение слов невольно сорвалось с губ и брата и сестры. Иван Осипович мрачно посмотрел на них.
– Лошади, которые могли бы меня отвезти в Тамбов, а оттуда в Москву. Мне, как я уже говорил, необходимо уехать сегодня же, я и так заговорился с вами и опоздал на целый час.
– А сын? – невольно вырвалось у Сергея Семеновича.
– У меня нет сына, – ледяным голосом произнес Иван Осипович.
Княгиня Васса Семеновна переглянулась с братом, но оба они не сказали ни слова. Они хорошо поняли, что Иван Осипович убедился сам, что сын нарушил данное им слово и перешел на сторону матери. Тогда действительно он мог считаться погибшим для отца. Тогда действительно у Ивана Осиповича не было больше сына.
– У меня нет сына!
Эта фраза, казалось, так и осталась висеть в атмосфере комнаты, атмосфере тяжелой и неприветной, какая чувствуется лишь тогда, когда в доме произносят роковое слово «умер». Все трое стояли несколько минут как окаменелые. Первая прервала эту томительную паузу княгиня Васса Семеновна, дернув сонетку.
– Вели подавать лошадей… – приказала она явившемуся лакею.
Иван Осипович стал прощаться. С почтительностью и с какой-то особой нежностью поцеловал он руку хозяйки дома. Прощанье с другом было, видимо, для него тяжелее. Он нервно обнял его, несколько раз поцеловал и тотчас отвернулся. От прозорливого Сергея Семеновича не ускользнула предательская слезинка, появившаяся на реснице Ивана Осиповича. Последний, впрочем, резким движением головы смахнул ее и твердой, ровной походкой вышел в переднюю, а затем на крыльцо, у которого уже позвякивала бубенцами и колокольчиками княжеская тройка сытых лошадей с блестящей шерстью.
– Прощайте!.. – крикнул Иван Осипович вышедшим проводить его на крыльцо княгине и Сергею Семеновичу.
Ямщик крикнул:
– С Богом.
Лошади тронулись…
Княгиня и ее брат молча стояли на крыльце, вдыхая легкую свежесть теплого июльского вечера, как бы дыша полной грудью после пройденного трудного пути с тяжелой ношей. Звук колокольчика и бубенцов удалявшейся тройки по мере его удаления точно снимал с них именно тяжелую ношу. Наконец эти звуки замолкли.
Брат и сестра вернулись в столовую. Они молча вошли и молча сели на свои места. Стул, на котором только что сидел Иван Осипович Лысенко, так и стоял отодвинутым вкось быстрым его движением, когда он совершенно неожиданно встал прощаться.
– Нелегко ему, бедному! – прервала молчание княгиня Васса Семеновна.
– Да-а-а… – протянул Сергей Семенович. – Он сам виноват… Зачем было отпускать сына… Я говорил ему… Он рассердился…
– Что же он сказал?
– Он заявил, что уверен, что Осип вернется, так как тот дал ему честное слово. Но он не принял во внимание, что мальчик уже вторую неделю находится под влиянием женщины, для которой слово «честь» не существует.
– Не слишком ли вы строги к ней, – заметила княгиня. – Она прежде всего мать, господа.
– О, как часто женщины злоупотребляют этим словом, – горячо возразил Зиновьев. – Разве мать не должна жертвовать своим личным «я» для пользы своего ребенка?
– Я тебя не понимаю.
– Разве она не понимает, что отец, конечно, скорее выведет сына на честную дорогу, нежели она, бездомная скиталица, разведенная жена… Как бы она ни была настроена враждебно против своего мужа, она не может усомниться в одном, в его честных правилах… Где она была восемь лет? Почему только теперь ей понадобился сын? Нет, это возмутительно… Мальчик погиб не только для Ивана, он погиб для всех…
– Кто знает! Быть может, она сама уже не прежняя, давно исправилась… – возразила княгиня Васса Семеновна.
– Женщины никогда не исправляются! – отрезал Зиновьев.
XXIII. Придворные интриги
Мы уже говорили, что с воцарением Елизаветы Петровны немецкий гнет, более десяти лет тяготевший над Россией, был уничтожен мановением прелестной, грациозной ручки дочери Великого Петра. Елизавета Петровна отличалась добротой своей матери, отвращением к крови, здравым смыслом и умением выбирать людей. Она сохранила на престоле ту любовь к своей родине, ту простоту Петра I, которые стяжали ей имя «матушки» у народа.
Ее двор был отрицанием «Домостроя». Он подчинялся овладевшему тогда Европой влиянию Франции. Пышность, блеск, увеселения, маскарады, оперы, водевили, возникшие при Анне Иоанновне в грубом виде, достигли версальского изящества. Тогда же была изобретена и известная роговая музыка.
Императрица сама переодевалась несколько раз в день, в ее гардеробе было до 15 тысяч шелковых платьев. Она любила сидеть перед зеркалом, болтая вздор, слушая сплетни дипломатов.
Проходили месяцы, пока министр удостаивался доклада. В глубине души это была настоящая русская помещица. По вечерам Елизавета Петровна была окружена бабами и истопником, которые тешили ее сказками и народными прибаутками. От балов она переходила к томительному богослужению, от охоты к «богомольным походам». Она благоговела перед духовенством и часто жила в Москве.
Когда даже на второстепенное место представляли иностранца, она спрашивала:
– Разве нет русского?
При Елизавете Петровне возникла русская литература, науки и высшее образование, а внешняя политика отличалась национальным направлением. В проповедях, академических речах, рукописных листках справедливо говорилось: «Промысел спал, государственное управление дремало; уничтожались дела Петра I, коронами играли как мячами. Теперь восстаньте, сыны отечества, верные россы!»
Елизавета Петровна начала с объявления, что она останется девицей, а наследником назначает своего племянника, сына Анны Петровны, который тотчас же был выписан из Голштинии и обращен в православие под именем Петра Федоровича. Это был тот самый «чертушка», который, если припомнит читатель, смущал покой Анны Леопольдовны.
Наряду с этим при дворе интриги были в полном разгаре. Никогда до сих пор не представлялось такого простора для всяких мелких доносов, наушничества, пронырства и каверз. Первую роль играли женщины: Мавра Егоровна Шувалова, Анна Карловна Воронцова, Настасья Михайловна Измайлова и другие.
От женщин не отставали и мужчины. Немедленно по воцарении Елизаветы Петровны образовались партии, только и думавшие о том, как бы одна другую низвергнуть. Вражда их забавляла государыню, и часто пересказами старалась она еще более возбуждать противников друг перед другом.
С одной стороны стояли представители союза с Францией, к которым присоединилась еще голштинская свита наследника престола, с другой – Бестужев, опиравшийся на Разумовского. Сам же Алексей Григорьевич не принимал участия в сплетнях и интригах придворных. Они были противны его добродушной и честной натуре. Его близкими приятелями были Бестужев и Степан Федорович Апраксин, но тем не менее в дела государственные он не вмешивался, а Бестужева любил потому, что в нем, несмотря на его недостатки, природным инстинктом чуял самого способного и полезного для России деятеля.
Первая стычка между двумя партиями имела следствием несчастное Лопухинское дело. Герману Лестоку во что бы то ни стало хотелось уничтожить соперника, им же самим возвышенного. Он ухватился за пустые придворные сплетни, надеясь в них запутать вице-канцлера и тем повредить Австрии. Надо заметить, что в числе осужденных на смертную казнь, но помилованных вошедшей на престол своего отца Елизаветой Петровной, был и граф Левенвольд, казнь которого заменена была ему ссылкой в Сибирь.
Негодование и досада овладели близкой к нему женщиной – Натальей Федоровной Лопухиной. Она отказалась от всех удовольствий, посещала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок вещей. Этого было достаточно. Лесток и князь Никита Трубецкой стали искать несуществующий заговор против императрицы в пользу младенца Иоанна.
Агенты Лестока – Бергер и Фалькенберг – напоили в одном из гербергов подгулявшего юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность. Лопухин дал волю своему языку и понес разный вздор. Из этого же вздора Лесток составил донос или, лучше сказать, мнимое Ботта-Лопухинское дело.
Лесток и Трубецкой старались замешать в это дело кроме Бестужева и бывшего австрийского посла при нашем дворе маркиза Ботта д’Адорна, который был в хороших отношениях с Лопухиной, и выставить их как главных зачинщиков. Концом процесса было осуждение Лопухиных: Степана, Наталью и Ивана бить кнутом, вырезать язык, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать.
Казнь Лопухиной описывает современник-иностранец. Казнь происходила на Васильевском острове, у зданий 12 коллегий, где теперь университет. Наталья Федоровна была в полном смысле красавица.
«Простая одежда, – говорит очевидец, – придавала блеск ее прелестям. Один из палачей сорвал с нее небольшую епанчу, покрывавшую грудь ее; стыд и отчаяние овладели ею, смертельная бледность показалась на челе ее, слезы полились ручьями. Вскоре обнажили ее до пояса ввиду любопытного, молчаливого народа; тогда один из палачей нагнулся, между тем другой схватил ее руками, приподнял на спину своего товарища, наклонил ее голову, чтобы не задеть кнутом. После кнута ей отрезали часть языка».
Наталья Федоровна Лопухина очень пострадала от наказания, потому что отбивалась от рук палача. При казни палач, когда вырвал ей часть языка, громко крикнул, обращаясь с насмешкой к народу:
– Купите, дешево продам.
Бестужева, однако, дело это не сломило.
После описанной трагической развязки этого процесса двор переехал в Москву. Через несколько недель, весной 1744 года, приехала принцесса Ангальт-Цербст-Бернбургская, Иоанна-Елизавета с дочерью Софией-Августой-Фредерикой. Приезд этот был нежданным ударом для Бестужева, мечтавшего о брачном союзе для наследника престола с принцессой Саксонской.
В то же самое время миропомазание принцессы Софии, принявшей с православием имя Екатерины Алексеевны, было последним торжеством Лестока.
Во время пребывания двора в Москве, 12 мая 1744 года, императрица подарила Алексею Григорьевичу село Перово и деревни Татарки и Тимохово, а также и двор Гороховский на земле Спасо-Андроньевского монастыря, отобранной прежде в военную канцелярию, но с тем, чтобы за землю платить монастырю оброчные деньги.
Государыня, как мы знаем, любила посещать Перово и гостила там иногда довольно долго. Там Елизавета Петровна любила потешаться соколиной и псовой охотой, на которую приглашались часто чужестранные министры и некоторые из знатных особ обоего пола. В те времена Перово было не то, что теперь. Там красовались великолепный дворец, роскошный тенистый сад с дорогими растениями, беседками, фонтанами, статуями и прочее. Длинный проспект проведен был вплоть до Измайловского зверинца. Здесь государыня охотилась, а в самом Перове любила смотреть на игры и хороводы поселян.
Мы уже имели случай заметить, что Алексей Григорьевич Разумовский в государственные дела вмешиваться не любил. Он понимал, что высшие правительственные соображения не при нем писаны, что он к этому делу не подготовлен, и поэтому ограничивался тем, что передавал государыне бумаги Бестужева да не пропускал случая замолвить за него доброе словцо. К тому же свойственная всем истым малороссиянам лень еще более отстраняла его от головоломных занятий.
Были, однако, два вопроса, которые его задевали за живое. Для них он забывал свою природную лень и отвращение к делам и смело выступал вперед, не опасаясь из-за них докучать государыне.
Первый вопрос касался до дел духовных и духовенства. Благодаря Разумовскому влияние духовенства на набожную и суеверную Елизавету приняло огромные размеры.
«Первейший тогда, в особливой милости и доверенности у Ее Императорского Величества находящийся, господин обер-егермейстер граф Алексей Григорьевич Разумовский, – говорит князь Яков Петрович Шаховской, – приятственно с духовными лицами обходился и в их особливых надобностях всегда представителем был».
«Первый тогда фаворит, – говорит он далее, – Святого Синода членам особливо благосклонен был и неотрицательно по их домогательствам и прошениям всевозможны у Ее Величества предстательства и заступления употреблять».
Протоиерей Дубянский и архиепископ Амвросий не ошиблись в своем расчете и имели у трона действительного и скорого защитника и ходатая. Это заступничество, вопреки жалобам Шаховского, имело отчасти и плодотворные результаты. Если не по инициативе Разумовского, то, по крайней мере, через его посредство учреждена была в Свияжске особая комиссия с целью распространения христианства в среде инородцев. Миссионеры посылались и в Сибирь, и на Кавказ, и в Камчатку. Из татар Казанской губернии, благодаря неутомимой деятельности архимандрита Дмитрия Степанова, возведенного впоследствии, и весьма вероятно по представительству Разумовского, на новгородскую кафедру, крестилось 360 тысяч человек, и много также калмыков приняли веру христианскую.
В «Ведомостях» постоянно появлялись известия о присоединении к православию, и государыня очень часто бывала крестною матерью. Доброе семя было брошено и начало уже пускать корни. Вслед за принятием христианства неминуемо последовало окончательно обрусение края. К сожалению, благие начала эти не принесли доброго плода и благодаря равнодушию следующих царствований прошли без следа.
Рядом с учреждением миссий упомянем еще об основании в Астрахани семинарии для приготовления проповедников между иноверцами, о печатании Евангелия, о молитвенниках для грузин и, наконец, о новом издании всей Библии, не появлявшейся в печати с самого 1663 года.
К сожалению, это религиозное настроение имело и темную сторону. Набожностью императрицы и Разумовского для достижения своих целей беспрестанно пользовались хитрые интриганы. Конечно, религиозные убеждения Алексея Григорьевича были самые искренние. Вера его была чиста и изливалась из глубины души его, но нельзя не сказать, что при всем его желании добра отсутствие всякого образования служило ему помехой. Он был часто орудием ловких и властолюбивых царедворцев и лиц, прикрытых рясою, конечною целью которых было по большей части не истинное благо духовенства и преуспеяние веры Христовой, а достижение лишь выгод и личное влияние на дела.
Этим объясняется то, что, несмотря на исключительное положение некоторых духовных лиц при дворе, во все продолжение царствования Елизаветы Петровны и на постоянное благорасположение к ним государыни и непрестанное ходатайство за них Разумовского, собственно для улучшения всего духовенства и рационального усиления его влияния было сделано или ничего, или так мало, что не стоит об этом упоминать.
Другой вопрос, возбудивший живое участие в Алексее Григорьевиче, были дела Малороссии. Здесь он действовал совершенно самобытно, руководимый единственно страстной любовью к родине. При дворе никто не обращал внимания на отдаленную Украину, до нее никому не было дела, и она, еще столь недавно пользовавшаяся правами свободы, стенала под игом правителей, посылаемых из Петербурга. Права ее были забыты, и, по свидетельству Георгия Кониского, страшным образом отозвался на ней ужас «бироновщины».
В Петербург прибыли депутаты от Украины с поздравлением с совершившимся священным коронованием Елизаветы Петровны. Прием, оказанный им, льготы, ими привезенные, рассказ о силе и влиянии Разумовского при дворе, о любви его к родине и всегдашней готовности хлопотать и стоять за земляков произвели сильное впечатление в Малороссии. Все дохнули привольнее, во всех сердцах зародились надежды на будущие блага, и «генеральные старшины» громко стали поговаривать об избрании гетмана.
По отъезде депутатов-земляков Алексей Григорьевич загрустил по родине и стал думать только о том, как бы ему побывать в Малороссии.
Малейшие желания тайного супруга императрицы были законом для двора.
Елизавета Петровна сама решила посетить Киев.