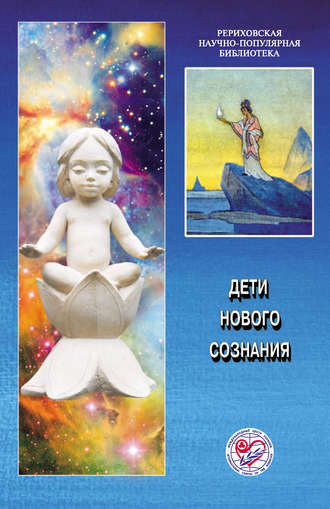
Коллектив авторов
Дети нового сознания. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2006
Вселенную, дали Вернадскому материал для его гениальных научных обобщений, выразившихся в его учении о живом веществе и концепции ноосферы.
Чижевского увлекало все трудное, новое и необычное. «Ах, какая это была хорошая пора жизни! – вспоминал он о годах детства и юности. – Молодой мозг стремился к познанию тайн природы и готов был ухватиться за любое явление, в надежде извлечь из него что-либо таинственное, неведомое, никому еще не известное. <…> Я метался из одной области в другую и наслаждался дивною способностью ума познавать» [2, с. 16]. Важную роль в его познании сыграло увлечение астрономией. В книге воспоминаний «Вся жизнь» Чижевский посвятил этому немало возвышенных и восторженных слов: «Астрономией же я стал пылко интересоваться еще в 1906 году, то есть девяти лет от роду, а в 1907 голу уже написал “Популярную космографию по Клейну, Фламмариону и другим” – “труд”, сохранившийся в моем архиве до сих пор. С каким душевным трепетом и наслаждением я любовался звездами через свой телескоп! <…> Еженощные наблюдения в телескоп за звездами раскрывали мне все несказанное великолепие надземного мира. <…> Уже одно прикосновение к телескопу вызывало во мне странно-напряженное чувство, похожее на то, когда человек ждет свершения чего-то загадочного, непонятного, великого. Но при взгляде в окуляр я почти всегда испытывал и испытываю головокружение и ту спазму дыхания, о которой говорят “дух захватывает”» [2, с. 16–17]. Почти ежедневное прикасание к этой космической сказке, которая не оставляла его и во сне, красота и бесконечность звездного океана, фантастические пейзажи Луны и лики других планет Солнечной системы приобщали его к таинству Космоса, расширяя в беспредельность сознание и мировосприятие. Как и В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский познавал мир через общение с природой. Вспоминая свою совместную работу с К.Э.Циолковским, он писал: «У нас никогда не было свободного времени, когда мы могли бы заняться ну хотя бы просто созерцанием природы… Мы и в этом созерцании были взволнованы и всегда заняты наблюдением. Каждая букашка, каждая мошка, каждый листик, каждая травка являлись нам величайшей загадкой, и наш мозг пытливо работал над ней… чаще всего бесполезно. Но иногда нам везло – мы делали некоторые обобщения. Это нам давало исключительную радость. Мы всегда занимались только своим делом, и это было одно из величайших благ, на которое может рассчитывать человек… Что значит “свое дело”? Это поиски ответов на вопросы, которые ставили мы сами перед своим мозгом, перед своей жизнью, перед природой…» [2, с. 31]. Они тоже «вопрошали» природу и получали ответы, проникая все глубже и глубже в тайны Мироздания.
У Павла Флоренского было много общего в обретении знания с остальными космистами. Он писал: «Почти все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, получено не от школы, а скорее вопреки ей. Много дал мне отец лично. Но, главным образом, я учился у природы, куда старался выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал, фотографировал, занимался. Это были наблюдения характера геологического, метеорологического и т. д., но всегда на почве физики. Читал я и писал тоже нередко среди природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время» [цит. по: 9, с. 5]. Наследственная способность к наукам выразилась в том, что, даже не прилагая особых усилий к выполнению школьных заданий, Павел всегда оставался первым учеником и с отличием окончил школу и университет. Но у Павла Флоренского была одна уникальная особенность в познании мира, которую он сформулировал так: «Это была жажда знать, учиться познанием тайны, всецело слить себя с таинственно высвечивающими ноуменами» [цит. по: 8, с. 641]. Обладая необычной способностью видеть невидимое другим – силой, «себя знающей и собой владеющей», которая заключалась в даре проникновения в суть вещей[15], пройдя в детстве и юности через драматический период раздвоения между своими внутренними духовными переживаниями и интеллектуальным освоением мира внешнего [8, с. 640–648], Флоренский приобрел синтетическое восприятие всех явлений, позволившее ему сформулировать универсальную методологию познания. «Иногда природа проговаривается, – писал он, будучи уже взрослым, – и, вместо надоевших ей самой заученных слов, скажет иное что-нибудь, острое и пронзительное слово, дразня и вызывая на исследование. Тут-то вот и подглядывай, тут-то и подслушивай мировую тайну. Лови этот момент, где есть отступление от обычного – там ищи признание природы о себе самой. И с ран-нейшего детства я был прикован умом к явлениям необычным. Когда взор направлен в эту сторону, то и в самом сочетании обычного (если бы поверить вообще в окончательную реальность обычного), в нем уже чуется бесспорное вмешательство необычного, чего-то большего обычных свидетельств о себе самой природы» [цит. по: 8, с. 642]. Овладение универсальным методом познания мира подняло П.А.Флоренского на такие вершины понимания и мастерства, которые свойственны лишь гениям. Недаром те, кто хорошо его знал, сравнивали Флоренского с Платоном, Леонардо да Винчи, Паскалем.
Одним из отличительных качеств тех, кому судьба предназначила стать носителями нового мировоззрения, была постоянная неудовлетворенность собой и уже достигнутым. Эту движущую силу развития А.Л.Чижевский замечательно определил как тончайшую игру «духовных сил, сил мощных, но требующих от своих творений еще большего превосходства, еще большего совершенства» [2, с. 11]. Эти внутренние духовные силы, не дававшие им успокоиться, были тем вечным двигателем, который постоянно вел вперед, к новым открытиям и достижениям. Именно это отличало избранников доли от их сверстников, братьев и сестер.
В автобиографических заметках Циолковский писал: «Как же сказались на мне свойства родителей? Я думаю, что получил соединение сильной воли отца с талантливостью матери. Почему же не сказалось то же у братьев и сестер? А потому, что они были нормальными и счастливыми. Меня же унижала все время глухота, бедная жизнь и неудовлетворенность. Она подгоняла мою волю, заставляла работать, искать» [1, с. 24–25]. Возможно, глухота в какой-то степени и способствовала выявлению талантов Циолковского, но главным был неугасаемый огонь устремления к знанию и поиску истины, отблеск которого виден в каждой строчке его воспоминаний: «Я все время искал, искал самостоятельно, переходил от одних трудных и серьезных вопросов к другим, еще более трудным и важным. <…> Но книг было мало, учителей у меня совсем не было, и потому мне приходилось больше создавать и творить, чем воспринимать и усваивать. Указаний, помощи ниоткуда не было, непонятного в книгах было много, и разъяснять приходилось все самому. Одним словом, творческий элемент, элемент саморазвития, самобытности преобладал. Я, так сказать, всю жизнь учился мыслить, преодолевать трудности, решать вопросы и задачи» [11, с. 58].
У Вернадского неудовлетворенность своими делами, ощущение недостаточности, по сравнению с внутренней сущностью вещей, своих переживаний, не достигавших «хотения», как он это формулировал, шло от глубокого внутреннего ощущения своего потенциала, своих возможностей. Его мощные духовные силы действительно требовали от него «еще большего превосходства, еще большего совершенства», отсюда и то повышенно критическое отношение к себе, к своим достижениям и своим возможностям, которое не оставляло его до конца жизни. И даже достигнув серьезных результатов в науке, разработав несколько новых направлений, он пишет в дневнике: «Надо работать над наукой серьезно, а я дилетант. Или уже такова моя судьба?» [3, с. 129]. От этой внутренней непреходящей неудовлетворенности шла глубина и многогранность всех его достижений.
Наиболее ярко свое стремление к совершенству выразил А.Л.Чижевский. «…Я всегда был ненасытен и всегда жаждал, – писал он, вспоминая детские годы. – Если бы у меня были тысячи глаз и тысячи рук, я всем бы им нашел работу. Я все хотел сам видеть, все слышать, все ощущать, во все проникнуть и насытить, наконец, свою неутолимую жажду. Ни разу в жизни я не был чем-либо удовлетворен. Да, я никогда не знал удовлетворения. Что бы ни вышло из-под моего пера, моей кисти, из моих лабораторий, могло меня удовлетворить лишь на час или день. Затем чувство досады и неудовлетворенности закрадывалось в мое сердце» [2, с. 10]. Эта духовная жажда и чувство неудовлетворенности были мощным стимулом к познанию и творчеству, которое проявилось в неординарных достижениях и открытиях нового знания.
Другим выдающимся качеством, переводящим неудовлетворенность и полученные разными путями знания в творческие достижения, было необыкновенное трудолюбие. Наверно, желание трудиться и умение организовать свою работу так, чтобы она приносила радость, свойственно всем великим людям. Можно вспомнить, как трудились Рерихи, не теряя ни минуты драгоценного времени. То же мы видим и у будущих ученых-космистов, которые росли и формировались в трудовой атмосфере, царившей в их семьях. Однако следует отметить, что труд подрастающих гениев и по качеству, и по интенсивности, и по ритмичности отличался от обычного рутинного, часто обусловленного внешними обстоятельствами, а не внутренней потребностью труда. В Живой Этике сказано: «…мало желающих трудиться вечно на творчество новых форм» [12, 28]. Но именно в труде предтечей космизма с раннего детства присутствовало это желание – непрестанно трудиться в поисках нового знания и нового осмысления всех явлений бытия, что приводило их к созиданию новых форм, новых направлений в науке и нового мировоззрения. И этот труд всегда был радостным и желанным. Про каждого из них можно было сказать, что «в духе его живет песнь нескончаемой радости труда» [12, 35].
Циолковский, вспоминая детство, писал о своем отце: «Всякий физический труд он поощрял в нас и, вообще, самодеятельность. Мы почти все делали всегда сами» [1, с. 20]. Но к этой привычке добавлялось то, что было свойственно только ему, – радость познания и реализации познанного собственным трудом. Радость миру природы, творчеству, рукотворным и природным созданиям; например, легкое движение тележки, вертушки в форточке, воды в пруде побуждало его самого к созданию различных рукотворных аппаратов, над которыми он трудился с упоением. А позже, уже взрослым, он с не меньшим упоением трудился над разработкой приборов и устройств, способных покорять пространство, преодолевать силу тяжести…
Разнообразнейшими делами была занята каждая минута жизни Вернадского. В детстве и отрочестве это проявилось в чтении огромного количества книг, наблюдениях природы, глубоком осмысливании дискуссий взрослых на разные темы, которые он слушал, затаив дыхание. В студенческие годы он трудился, добывая знания не только на естественном отделении физико-математического факультета, но и на математическом: «Слушал иногда лекции начертательной геометрии <…> прошел аналитическую геометрию и работал в астрономической обсерватории» [3, с. 28], «Я посещал отдельные лекции исторические, филологические, юридические, математические и т. д.» [3, с. 31]. Только с возрастом он стал отдыхать, сидя в кресле и слушая музыку, но мозг его при этом напряженно работал, и многие идеи зарождались именно в такие моменты. Если по письмам и дневникам собрать и восстановить ежедневную работу Вернадского, то можно увидеть, какой это был титанический труд, почувствовать его напряженный ритм. Но сам ученый, как правило, был неудовлетворен результатами своих усилий и жаждал большего. Могучая работа его мысли и желание реализовать плоды своих размышлений опережали реальные земные возможности: «Мысль давно так не работала в научном направлении, как в этом году. Неужели опять ничего не сделаю? Много читаю и старательно пополняю пробелы своего образования во всех областях физико-химических знаний» [3, с. 145]. Тем не менее, произведенная им за всю жизнь работа – от социально-общественной деятельности до научных и философских трудов – это труд гиганта, непосильный для обычного человека.
«Феноменальная трудоспособность была моей отличительной чертой», – так охарактеризовал себя А.Л.Чижевский [13, с. 85]. «Данным качеством, – писал он, – я был обязан строгому воспитанию и тем правилам, которые мне привили мои родители и родные с первых же дней сознательного существования» [2, с. 81]. По прошествии многих лет Чижевский глубоко осознал и ярко сформулировал значение организованного, ритмичного и постоянного труда для собственного развития, совершенствования и творчества. «Дисциплина поведения, дисциплина работы и дисциплина отдыха были привиты мне с самого детства. Это – важнейшие регуляторы жизни. В некотором глубоком-глубоком подсознательном отделе моей психики был заключен основной принцип жизни – ни одного дня без продуктивной работы, которая не вносила бы в фундамент будущей жизни нечто важное. Пусть это будет маленький, самый что ни на есть ничтожный “кирпичик”, но его надо сделать, создать, усвоить или понять. Время во всех моих делах играло основную роль. Время было для меня всегда самым дорогостоящим фактором, и одной из основных целей моей жизни было сохранение его или использование его себе и своему мозгу на благо – даже не так уж себе, как именно мозгу, то есть мысли, усвояемости, памяти, творчеству, деятельности, движению вперед» [2, с. 80–81]. Вот это «ни дня без продуктивной работы», идущее из неведомых глубин самого его существа, и привитая с детства дисциплина труда позволили ему достичь тех потрясающих результатов, истинное значение которых еще предстоит осмыслить и понять. И этот непрерывный и ритмично организованный труд не был ему в тягость. «С детства я привык к постоянной работе, – продолжает свои воспоминания Чижевский. – И когда пришло время, когда нельзя было не работать, я принял работу как истинное благо, как обычное и обязательное явление жизни» [2, с. 81].
С раннего детства не терял ни минуты драгоценного времени и Павел Флоренский: «Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время. Я составил себе стенное расписание занятий по часам, причем время, назначенное классам и обязательному посещению богослужения, окружил траурной каймой, как безнадежно пропавшее. Но и его я пользовал для своих целей» [цит. по: 9, с. 5]. Затем, учась на физико-математическом факультете Московского университета, он, как и Вернадский, помимо занятий математикой, слушал лекции на историко-филологическом факультете, принимал участие в работе философского семинара, которым руководил замечательный представитель плеяды философов Серебряного века С.Н.Трубецкой. Кроме того, самостоятельно изучал историю искусства. С детства он учился уплотнять время и, став взрослым, довел это умение до совершенства. Как вспоминал Сергей Булгаков, Павел Флоренский «извне был скорее нежного и хрупкого сложения, однако обладал большой выносливостью и трудоспособностью, отчасти достигнутой и огромной аскетической тренировкой. Я был свидетелем этой его аскетической самодисциплины, как и его трудового научного подвига: обычно он проводил ночи за работой, отходя ко сну лишь в 3–4 часа пополуночи, но при этом сохраняя всю свежесть ума в течение дня…» [цит. по: 9, с. 20]. Итогом такого интенсивного труда были его фундаментальные исследования в самых различных областях науки и техники, искусства, философской и религиозной мысли. Открытия и изобретения, монографии по физико-техническим дисциплинам, статьи по истории и философии искусства и археологии, мировоззренческие трактаты, стихи и поэмы – это богатейшее творческое наследие титана XX века еще долго будет постигаться не одним поколением потомков.
Очевидно, что труд для Циолковского, Вернадского, Чижевского и Флоренского был не только привычкой, выработанной в детстве, но и внутренней настоятельной потребностью, диктуемой теми ритмами Космоса, которые они несли в себе. Космический пульс вечного неустанного труда звучал в них, не затихая ни на миг, открывая новые возможности и приводя к великим свершениям.
В Живой Этике – философии космической реальности, методологические основы которой были заложены Циолковским, Вернадским, Чижевским, Флоренским, Рерихами и другими выдающимися представителями русского космизма, утверждается: «Согласованность планетной жизни с высшими сферами даст людям лучшие комбинации» [12, 14]. В жизни каждого из них такая согласованность и взаимодействие с мирами иных, более тонких состояний материи, проявляется с раннего детства. Это творческое взаимодействие по-разному ими осознавалось, но составляло неизменную основу и ведущую силу их деятельности и достижений.
Юный Костя Циолковский был необычным ребенком, отличавшимся от своих сверстников мечтательностью и утонченностью. Об этом говорили его прозвища: «…птица, блаженный, девочка» [1, с. 29]. Глухота еще более оторвала его от обыденности, способствуя развитию созерцательных свойств характера. В детстве он не осознавал свою связь с миром Высшим, это понимание пришло немного позже. К.Э.Циолковский писал: «Я видел и в свой жизни судьбу, руководство высших сил. С чисто материальным взглядом на вещи мешалось что-то таинственное, вера в какие-то непостижимые силы, связанные с Христом и Первопричиной. Я жаждал этого таинственного. Мне казалось, что оно меня может удержать от отчаяния и дать энергию. Я пожелал в доказательство видеть облака в виде простой фигуры, креста или человека» [11, с. 58]. И через несколько недель он увидел облако сначала в виде правильного четырехконечного креста, а затем в виде безукоризненной по форме человеческой фигуры. «Это странное явление в связи с моими предыдущими мыслями и настроениями, – вспоминал Циолковский, – имело громадное влияние на всю мою последующую жизнь: я всегда помнил, что есть что-то неразгаданное, что Галилейский учитель и сейчас живет и имеет значение и оказывает влияние до сих пор. Это придавало интерес тяжелой жизни, бодрило. Я говорил себе, что еще не все потеряно, есть что-то, что может поддержать, спасти. Несмотря на то что я был проникнут современными мне взглядами, чистым научным духом, материализмом, во мне одновременно уживалось и смутно шевелилось еще что-то непонятное. Это было осознание неполноты науки, возможность ошибки и человеческой ограниченности, весьма далекой от истинного положения вещей. Она осталась и теперь и даже растет с годами» [11, с. 59].
Вне всякого сомнения, это осознание неполноты научного знания и ограниченности человеческих представлений о строении Мироздания, умение проникать внутренним взором в суть вещей, которую он постигал разумом, привели его к разработке собственной космической философии, в которой он обрисовал сложность и многоплановость одухотворенной Вселенной, состоящей из «множества космосов», населенных разумными существами различной степени развития. Его друг и ученик А.Л.Чижевский не раз писал об этом внутреннем зрении, отмечая способность К.Э.Циолковского как исследователя провидеть на десятилетия вперед [2, с. 36–37]. «Константин Эдуардович имел ряд уникальных особенностей, которые отличали его от различного рода коллег, – отмечает ученый-космист современности Л.В.Шапошникова. – Если они постигали Космос теоретически, то Циолковский нес его в глубинах своего внутреннего мира, что позволяло ему проникаться Космосом и чувствовать его всем своим существом. Космос был как бы его частью, его мироощущением. Он был связан с ним не только информацией, но и образами, которые он черпал в его глубинах и переносил в земную действительность. Придет время, и эти космические картины, которые возникали в его воображении, будут подтверждены теми, кто проникнет в бездонные и беспредельные глубины Мироздания» [8, с. 450]. Можно только догадываться о тех формах, в которых проявлялась эта информация, но некоторые намеки на это можно увидеть в трудах самого Циолковского, например в «Сказке, рассказанной внуку Алеше».
Вернадский с детства был впечатлительной и чуткой натурой. «Я любил все чудесное, фантастическое, – писал он о своем раннем детстве, – меня поражали образы “Ветхого завета”, я и теперь еще помню то наслаждение, с каким я читал историю Саула, Самуила, Авессалома и Давида. <…> Эти образы вызывали у меня бесконечный ряд вопросов; я верил существованию рая и задумывался, где он находится, меня интересовали вопросы, как жили Адам и Ева, на каком они говорили языке, etc <…> Я создал себе какую-то религию, полную образов, то страшных, то нежных, но которые жили везде и всюду» [3, с. 16]. Он обладал особым качеством образно воспринимать все, что узнавал или видел. Очень тонко чувствовал живопись, музыку, и они приводили его в особое состояние духа: «Вчера был на концерте в церкви – некоторые вещи на меня произвели сильное впечатление, <…> мне казалось, что эти звуки проникают в меня глубоко, глубоко, что им ритмически отвечают какие-то движения души, и все мое хорошее, сильное собирается в полные гармонии движения» [3, с. 174]. «Некоторые из основных моих идей, как идея о значении жизни в космосе, стали мне ясными во время слушания хорошей музыки. Слушая ее, я переживал глубокое изменение в моем понимании окружающего» [цит. по: 8, с. 269]. Вернадский всегда ярко и образно, внутренним видением ощущал предметы, которых касался в своих размышлениях, наблюдениях, исследованиях, – будь то звездное небо или обнажения геологических грунтов. «…Такое настроение может быть особенно сильно тогда, когда дух проникает в окружающее и когда ты чувствуешь ускоренный темп смелого вхождения в окружающую мглу» [3, с. 189]. «Это было редкое духовное качество, – отмечает Л.В.Шапошникова, – свойственное великим художникам, мыслителям и ученым. Оно помогало ему познавать окружающий мир не как изолированный остров, на котором он в силу каких-то обстоятельств оказался, а во всем богатстве его временных и пространственных связей» [8, с. 268]. Наивысшим образом это качество проявилось в 1920 году во время тяжелой болезни, когда он в деталях увидел всю свою последующую жизнь, по сути осуществившуюся почти полностью, не считая некоторых внешних обстоятельств. Как и К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский был информационно и образно связан с той высокой космической реальностью, существование которой он предчувствовал и о которой говорил: «Перед нами открываются горизонты негаданные – даже в самых смелых и фантастических утопиях будущего» [3, с. 234].
А.Л.Чижевский был исключительно одаренным и ярко эмоциональным человеком. Он с детства ощущал в себе присутствие высших сил, творческого огня, который свойственен всем великим творцам. «И я всегда горел внутри! – вспоминал он. – Страстное ощущение огня – не фигурального, а истинного жара было в моей груди. В минуты особых состояний, которые поэты издревле называют вдохновением, мне кажется, что мое сердце извергает пламень, который вот-вот вырвется наружу. Этот замечательный огонь я ощущал и ощущаю всегда, когда мысли осеняют меня или чувство заговорит. Прекрасные произведения искусства и творения науки мгновенно вызывают во мне ощущение этого внутреннего жара» [2, с. 10]. Это был отклик чувствительной души и высокого духа на космическую энергетику Красоты: «Мое слабое здоровье, частые головные боли, сверхчувствительность ко всему окружающему, резко повышенная нервная возбудимость благоприятствовали развитию таких сторон моей души, которые не могли безразлично относиться к искусствам. С раннего детства я страстно полюбил музыку, поэзию и живопись, и любовь эта с течением времени не только не уменьшалась, а принимала все более страстный характер даже тогда, когда корабль моих основных устремлений пошел по фарватеру науки» [2, с. 13]. Обостренное чувство прекрасного давало ему развитую способность воспринимать и познавать мир не только научным путем, но и через образы. И со временем он сформулировал теорию образа как способа познания. Его повышенная чуткость не только к внешним воздействиям, но и к чему-то более тонкому, неосязаемому, неуловимому приводила к удивительным творческим достижениям. Он внутренним восприятием ощущал ритмичность космической жизни и запечатлевал это чувство как в ритме своих стихов, так и в научных выводах. Каждая частица огненной его натуры отзывалась на энергетические процессы, происходившие и в беспредельной Вселенной, и в конкретной конечной материи. Это находило отражение в его трудах, имевших широкий диапазон – от мировоззренческих и космогонических до исследований влияния ионизированного воздуха на жизнедеятельность организмов и изучения магнетизма крови. Трудах, заложивших основы науки будущего.
Наиболее глубокое и проявленное взаимодействие с высшими сферами было у Павла Флоренского. С раннего детства он испытывал в обычной жизни плотного земного мира чувство «особенного», того, что он называл «таинственно высвечивающими ноуменами». Он вспоминал: «Услышишь, бывало, о чем-нибудь, в чем почуется отверстой тайна бытия, или увидишь изображение – и сердце забьется так сильно, что, кажется, вот сейчас выскочит из груди, – забьется мучительно сильно; и тогда весь обращаешься в мучительно властное желание увидеть или услышать до конца, приникнуть к тайне и остаться так в сладостном, самозабвенном слиянии. Повторяю, это было не возгоревшееся любопытство, которое все же поверхностно, а стремление гораздо более глубокое и сильное, потрясение всего существа, плен и прорыв в неведомое» [цит.
по: 8, с. 641]. Им владела «жажда чудесного», и он искал это чудесное в сказках, но они бледнели перед его собственными переживаниями: «…самостоятельные и сказочные испарения подымались из душевных недр и оплотневали в образы, – подобные исконным образам народной веры» [цит. по: 8, с. 644]. Это взаимодействие с мирами более тонкого состояния материи осталось с ним навсегда: «Иной мир в моем глубочайшем самоощущении всегда соприкасался со мною как подлинная и не внушающая ни малейшего сомнения действительность. Это ощущение касалось не только стихийных недр природы и всей ее жизни, духовного облика растений, скал и животных, но и человеческих душ, в частности – святых» [цит. по: 8, с. 645–646]. Запахи, цвет, музыка, красота вещей и природы являлись для него как бы точками входа в иной мир. Запах ванили был «томным и смуглым», музыка ассоциировалась с холодным вихрем, вызывающим «эфирный восторг» и доводящим до экстаза, все изящное наполняло нежностью и вызывало ощущение высокого и чистого звука. Опираясь на свой глубокий опыт сверхчувственного, Павел Флоренский мог утверждать, что существует «некоторое до-мысленное знание, знание бытия, – непосредственное, мистическое. Оно – не предметно; знающий не может говорить о своем знании, знает его, по слову Достоевского, “не ответчиво”, но оно не может не иметься. <…> Это, однако, не мысль только, не продукт рефлексии только, а проведенное через горнило мысли реальное отношение к иному, “соприкасание мирам иным”» [10, с. 251]. Флоренскому, как никому другому, удалось соединить внутреннее, духовное и внешнее, экспериментальное знание; познание научное, опирающееся на изучение видимого мира, и вненаучное, опирающееся на «со-прикасание мирам иным».
Л.В.Шапошникова – ученый новой формации, которую можно смело отнести к замечательной когорте носителей и выразителей космического мировоззрения, отмечает: «Соприкосновение Мастера с Высшим миром и его Красотой возникает в результате мучительного труда его духа, всей энергетики его внутреннего мира» [14, с. 102]. Воспоминания великих космистов, их труды со всей отчетливостью показывают, что с юных лет и до конца жизни неугасимый огонь устремления к глубокому и всестороннему познанию законов Мироздания определял ту необыкновенную – напряженную и в то же время утонченную – энергетику их внутреннего мира, которая открывала им пути к мирам иным. Это уникальное качество бодрствующего и трудящегося духа – пытливость – не давало им успокоения и вело дальше по пути эволюции – через тернии к звездам.
Им было присуще еще одно уникальное качество, свойственное лишь высоким духам, – синтез. Оно проявлялось и в широком диапазоне их творческих интересов, и в одинаковой способности восприятия точных наук и гуманитарных дисциплин, языков других народов и их культуры, поэзии, живописи, философии и религиозных откровений, и в осознании единства и целостности мира. С детства проявляя интерес ко всем аспектам бытия, они стали «полигистрами», как охарактеризовал Павла Флоренского его современник и выдающийся философ Серебряного века Сергей Булгаков, – знали несколько иностранных языков, прокладывали новые пути в различных областях науки, создавали свои философские учения, а главное, созидали ту синтетическую систему познания, которая составила методологическую основу философии космической реальности – Живой Этики.
Синтетическое единство Мироздания ощущалось Циолковским с ранних лет. Вспоминая свою учебу в Москве, он писал: «Что я читал в Москве и чем увлекался? Прежде всего – точными науками. <…> Под точной наукой или, вернее, истинной наукой, я подразумевал единую науку о веществе или о Вселенной. Даже математику я причислял и причисляю сюда же. Монизм – единство – на всю жизнь остался моим принципом» [1, с. 53–54]. Этот ведущий принцип жизни синтетически соединил в нем науку и философию: «Единая вселенская наука о веществе или материи была базисом моих философских мыслей. Астрономия, разумеется, играла первенствующую роль, так как давала [мне] широкий кругозор. Не одни земные явления были материалом для выводов, но и космические: все эти бесчисленные солнца и планеты» [1, с. 123].
Вернадский с ранних лет обладал даром гармоничного объединения знаний, полученных опытным путем, и свойственным художественным натурам умением уловить («вспомнить», по выражению ученого) нечто, запечатленное в скрижалях вечности. Этот дар находил выражение в тех поистине удивительных обобщениях, которые выделили его среди современников. Многие великие открытия В.И.Вернадского сделаны на основе обобщения исследований других ученых. Характерно, что именно его синтетичному мышлению оказались подвластны такие обобщения, которые привели к возникновению совершенно новых направлений в науке – геохимии, биогеохимии, космохимии, радиогеологии – и особенно к созданию эволюционного учения о живом веществе, биосфере и ноосфере. Современный исследователь творчества В.И.Вернадского Г.Б.Наумов объясняет этот необыкновенный дар умением видеть мир в его единстве и целостности: «Это глубокое ощущение целостности мира во всех его проявлениях – один из базисных постулатов методологии Вернадского, методологии, которую на современном научном языке назвали бы системной» [15, с. 190].


