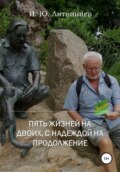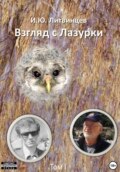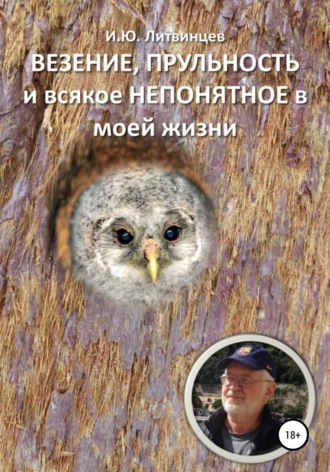
Игорь Юрьевич Литвинцев
Везение, прульность и всякое непонятное в моей жизни
Поступление в Московскую аспирантуру, событие, недосягаемое ранее даже в мечтах
И вот тут-то и пришел ПЁР с большой буквы. Даже с трех заглавных, как у меня написано. Такой большой, что и пёром его назвать язык не поворачивается.
Как я уже писал, сам не верю, когда эту историю (и некоторые подобные ей, но поменьше масштабом) из своей жизни вспоминаю. Спрашивал потом у свидетелей: было ли это на самом деле? Подтверждают: было. А это? Тоже было. Хочу официально подтвердить, что даже ни на грамм не приукрасил реальность. И клянусь в этом своим здоровьем, которого не так много и осталось.
И я уверен, что этот неожиданный и длинный ПЁР правильно назвать НЕПОНЯТНОЕ! Такая цепочки совершенно разных событий на самом деле стала судьбоносной для меня. Итак, приступаю к ее изложению.
Началось все сразу после защиты диплома. Подходит ко мне мой старый друг-приятель Жорка, с которым мы вместе в одной группе начинали учиться и куролесили года три в одной компании. Тот самый, который меня в море от смерти спас.
Но к четвертому курсу его на другую кафедру перебросили как более перспективную для будущего. И наши дорожки начали потихоньку расходиться.
В общем, появляется и переходит прямо к делу:
– Давай, ставь коньяк, пёрщик! Я в Москву поступать в МХТИ должен был ехать к профессору Лебедеву, документы подавать. С ним уже договорились. Но тут влип жестко в одну заварушку с ментами, говорят, кому-то погону оторвал. Руками махал сильно. Пьяные были в дупель, ничего не помню. В общем, отцу категорически порекомендовали держать меня лучше в Ярославле. В Москве в такой ситуации отмазать уже никто не сможет.
Папа натуру Жоркину знал хорошо, с аргументами товарищей вынужден был согласиться. Поэтому и перенаправил его в аспирантуру в НИИМСК. Накануне вечером все и решилось.
Жоре все было по барабану, он по жизни всегда был таким пофигистом. Однако про меня вспомнил. И мудрую идею подал:
– Давай, дуй в Москву и пробуй свой шанс. Там еще ничего не знают. Только сначала коньяк ставь и имей в виду: поступишь туда – тут уж одной бутылкой не обойдешься.
Зная своего друга, я ни минуты не сомневался, что все так и было. Парень он был, как потом стали говорить, отмороженный и безбашенный. Но в трудных ситуациях друг проверенный. В море ни секунды не колебался своей жизнью рискнуть, а страшно было реально. Но так же, без раздумий, он влезал и во всякие мутные и непонятные истории, особенно капитально приняв на грудь.
И я, ничего не говоря родителям, сел с утра в электричку и отправился в Москву.
Теперь-то я понимаю, каким верхом наглости было для меня заявиться в кабинет к зав. кафедрой ТОО и НХС, профессору Лебедеву Николаю Николаевичу (далее НН), который стал потом моим Шефом с большой буквы. Продолжилось мое везение сразу: он был на месте, и у него даже нашлось время и главное, настроение, меня выслушать. А мой первый вопрос «Можно ли попробовать поступить к вам в аспирантуру?» его даже развеселил. Я начал выкладывать свои козыри, но Николай Николаевич смотрел на меня как на наивного простака (скорее, как на идиота).
– Ну красный диплом, ну специальность та же, ну кандидатский по языку исхитрился в институте сдать, по блату поди, а стаж-то где? А научные публикации? Да ты же ни производства, ни химии, ни науки не нюхал. Люди годами добиваются такой возможности – здесь учиться.
И это была чистая правда. Но ведь, как я уже узнал, и исключения в этой правде попадались. Такое время на дворе стояло. Жорку же он согласился принять. Видно, за него кто-то уж очень влиятельный НН попросил. И Лебедев, при всех своих принципах, в которых я потом много раз убеждался, не смог этому «важняку» отказать.
И мне уже было показано на дверь, когда я выложил свой главный козырь:
– Николай Николаевич, я не совсем уж полный «наивняк». Вместо сына такого-то приехал. Думал, вдруг на его место можно будет попробовать поступить? И лично от него – Георгия, моего старого институтского друга – про договоренность и узнал. И больше никто не в курсе – только я и он.
Лебедев хмыкнул такому повороту событий и опять присел за стол. Он про отказ от договоренностей еще не знал.
– Интересные шляпки носила наша буржуазия, – произнес он таинственную фразу, как потом выяснилось, уже прицепившуюся к нему Сапуновскую присказку. – Это точно?
Я выдал все подробности. Он хмыкнул еще раз и тут же набрал приемную Жоркиного отца. Того сразу соединили и он, извиняясь, что не успел ещё новости сообщить, подтвердил факт отказа, правда, под другим соусом.
И тут я заметил, что настроение шефа вдруг заметно улучшилось, и он что-то прикидывает. Тогда я, конечно, не знал, ни что, ни почему. Подумал еще наивно, а вдруг я ему как потенциальный аспирант глянулся?
Позже уже, лет через пять-шесть, он мне объяснил, что потеря места по приему в аспирантуру ему совершенно была не нужна. Какие-то там квоты сгорали на следующий год. Но это было не главное. А вот факт, что тот, кто его настойчиво попросил, надавил насчет Жорки, теперь его должником станет, ему очень на душу лег. Сроки подачи заявок на флажке висели.
– У кого диплом делал? – спросил. – У Фарберова?
Фарберов был величина. Три Марка – он, Немцов и Далин, фактически стояли у основ советской промышленной органической химии, и НН его, конечно, знал. Интересно, что потом жизнь меня довольно тесно и с Марком Александровичем Далиным свела. Даже в бакинском Караван-сарае пару раз в небольшой компании посидели очень хорошо. Очень умный был человек и с прекрасным тонким еврейским юмором.
А Марк Иосифович Фарберов, который заведовал в Ярославле кафедрой, был уже сильно в возрасте и вообще без юмора. Студентов на дипломы разбирали его помощники-ученики: профессора и доценты все той же кафедры. Это я объяснил и назвал фамилию профессора – руководителя моей дипломной работы. Оказалось, что Лебедев и Сергея Ивановича Крюкова не только хорошо знал, но и ценил как специалиста. Сразу нашел телефон и перезвонил и ему. Моя везучесть продолжилась. Сергей Иванович, во-первых, оказался на месте, а во-вторых, когда понял, с кем говорит и по какому поводу, меня сразил наповал. Я их разговор слышал краем уха, но этого было достаточно, чтобы суть ухватить. Оказывается, был я чуть ли не его надеждой, и он давно хотел и сейчас хочет меня к себе взять. Лучший студент за последние годы и т. п.
Я, конечно, плохого от папиного друга не ожидал, но и столько хвалебных песнопений услышать про себя и свои химические способности тоже совершенно не был готов. Тут уже был явный перебор, и мне даже стыдно стало. Шеф положил трубку и посмотрел на меня с подозрением:
– За что это он тебя так хвалил то?
– Сам не знаю, – честно сказал я. – Первый раз такие дифирамбы в свой адрес услышал! Что на дипломе, что на научной практике гонял и в хвост и в гриву. Гонял и ругался, и даже не всегда приличными словами.
– Хм, – сказал Шеф. – Гонял, значит? И точно не знал, что сюда едешь?
Я помотал головой.
– Вообще ничего никто не знал, даже родители, – и это была кристально чистая правда.
– Ну, посмотрим. Может, и мы погоняем. Хорошо, сдавай документы, но помни – послезавтра последний день их приема.
На самом-то деле я, конечно, знал, чего меня так Сергей Иванович расхваливал. Где-то выше по тексту я уже отмечал, что это был старый друг отца. Они не только треть войны почти вместе прошли, но и учились в одной группе до третьего курса. На механическом факультете. А как технологический открылся, оба туда перейти решили. И СИ, троечнику, которому отец с учебой сильно помогал, это разрешили, а отцу – категорически запретили. Негоже, дескать, Сталинскому стипендиату по специальностям скакать. А сейчас Крюков у Фарберова уже доктором и профессором стал, а отец так на доцентстве и застрял со своим малоперспективным металловедением. Ну какая тут справедливость? И совесть, наверное, иногда мучила СИ. Как же он мог сыну своего старого военного и студенческого друга не помочь и такую редкую перспективу испортить? Вот и решил, что маслом кашу не испортишь. К тому же, если я в Москву попадал, у него самого с моим будущим (а родители бы обязательно начали доставать) проблем бы не стало. Пословица «баба с возу – кобыле легче» уж очень к этой ситуации подходит. В общем, пока все складывалось и я полным героем вернулся домой.
СИ еще родителям не звонил, он же не знал, чем наш разговор с Лебедевым закончится. А вдруг впросак попадешь? И они пребывали в мрачной уверенности, что я мотанулся к своему школьному дружку Сашке Левченко пьянствовать в общежитие МГИМО. Поэтому были буквально потрясены моим рассказом. А отец, на свою голову, вспомнил еще про одного своего военного и студенческого дружка, который сейчас в Менделеевском высоко сидел, типа проректора определенного важного и сильно специального отдела. И тут же попал под пресс моей мамы, которая считала, что мои «ля-ля» – это хорошо, но реальная поддержка на месте много весомее.
Тут же всплыла и ее любимая, старая и больная для отца, тема. Это все насчет его гораздо менее одаренных одногруппников, которые, однако, вовремя сумели подсуетиться и перевелись на перспективные тематики – и теперь доктора, профессора, проректора и т. д.
Это было жутко несправедливо: она хорошо знала, что отец несколько раз пытался во время учебы уйти к тому же Фарберову или перевестись в Москву, но именно как Сталинскому стипендиату ему было категорически в любых переходах отказано. Знала, но периодически пилила!
В итоге, бедного Юрия Алексеевича посадили за телефон. Хорошо хоть, что его на другом конце провода с радостью вспомнили и, главное, большим человеком в МХТИ все тут же было обещано: железная поддержка и звонок лучшему другу Коле Лебедеву, включение меня в какой-то блатной спецсписок на экзаменах в аспирантуру и вообще чуть ли не мое усыновление: «Юрка, Лидок, вы о чем? Ну, конечно, примем, как родного!»
Я по разговору почувствовал, что сильно подшофе был проректор, как потом и подтвердилось. Как легко было обещано, так легко и забыто. Зато мама как обрадовалась!
Почему-то я сразу не поверил во всякие включения в спецсписки и к экзамену по философии готовился нормально. Ну, и сдал его на отлично и почти без проблем. Первые два вопроса – философские – я аккуратно свел к истории философии, в которой был силен. Она мне интересна была сама по себе и раньше. И мне кажется, их бы хватило на пятерку. Но кто его знает? Третий вопрос – про какой-то пленум – был для меня пустым звуком. Правда, тут и с ним повезло. Кто-то пришел требовать освобождения аудитории, и нас прервали, предложив продолжить экзамен в другом месте. При этом переходе из одной аудитории в другую я сумел потеряться (это никого не удивило, новичку потеряться в коридорах и переходах МХТИ – раз плюнуть), и третий вопрос про пленум со шпаргалки успел просмотреть в туалете. Ну и кое-какую информацию на свежую память начал выдавать, но был быстро остановлен. Первых действительно хватило, но это после того, как я и по третьему что-то отвечать начал.
Но теперь-то меня ждала та самая специальность, на которой я в ЯТИ у Фарберова сломался. И сдавать надо будет самому Шефу! А где материалы для подготовки брать? На деле все оказалось просто: выяснилось, что уже существовал отличный учебник Лебедева «Химия и технология тяжелого органического и нефтехимического синтеза», в котором не было никаких таблиц с составом газов крекингов до второго знака после запятой
(любимый дополнительный вопрос от Фарберова на экзамене). И схемы процессов были принципиальные: для понимания необходимости проведения именно этих операций с целью получения из данного сырья желаемого продукта, а не заводской вариант переплетения всех труб и расположения вентилей, какой нам на лекциях в Ярославле любили изображать на доске.
И я усиленно готовился, старался не только в голову запихнуть, но и понять. Ну не хотелось совершенно на последнем испытании провалиться. Но моя прежняя уверенность уже была сильно поколеблена, а, может, и вообще потеряна: нового материала было очень много, и страх именно этого экзамена реально присутствовал.
Нас было четверо кандидатов – претендентов на три места. Получив билеты, мы устроились прямо в лаборатории и начали готовиться. Возможности для списывания были такие хорошие, что мне эта ситуация сильно не понравилась. Все спокойно шарили в учебнике, шансы уравнивались на глазах. Что-то я тоже написал и даже какие-то схемы нелюбимые нарисовал. В общем, было с чего начать разговор.
Первого, зрелого мужчину, вызвал сам Шеф, потом второго. Но они меня не беспокоили. Железные целевые аспиранты с производства. Довольно быстро с ними разделался, потом вышел и спросил:
– Ну, кто пойдет первым? Сопернички – претенденты!
Я галантно пропустил Фиалу Галиевну (уже познакомились) вперед – именно с ней, как предупредил НН, мы и должны будем за одно место бороться. Шеф усмехнулся и спросил:
– Игорь, ты по натуре кто – интеллигент или душман?
Я сильно удивился, сказал, что если есть только такой выбор, то пусть буду ярославский интеллигент, хотя и ругательное это в нашем городе слово.
– Ну тогда ладно, – продолжил Шеф. – А то я подумал, что у вас тут ситуация, как в анекдоте про душманов. Значит, как всегда, муж на ослике едет, а гарем сзади бредет! Но тут ему кричат: «Осторожно! Там впереди могут быть мины!» Тогда душман с ослика слезает и пропускает женщин вперед.
Все вежливо засмеялись. И я обрадовался: видно было, что настроение у НН хорошее (потом выяснилось, это он так с нами шутил: знал уже, что дополнительное место на прием получил и нас обоих возьмет). Минут через двадцать Галиевна довольная вышла, даже извинительно-сочувственно на меня посмотрела перед уходом. Значит, все хорошо у нее прошло. Ну, мне что оставалось? Я постучался. НН мне сказал: – заходи, -
но с кем-то разговаривал по телефону и, похоже, его срочно куда-то вызывали. Я правильно догадался, так как он показал мне на стул, а сам пошел к двери. Выглянул и крикнул куда-то в коридор:
– Валя, зайдите-ка сюда. – И, дождавшись подхода этого таинственного для меня Вали, в коридоре тому сообщил: – Меня тут дернули наверх к ректору. Замени. Прими у парня экзамен. Тебе же надо все равно группу набирать, а нам тут из Ярославля кого-то подкинуть хотят. Может, казачок-то засланный? Вот и разберись, – засмеялся и ушел.
Пока он говорил, я рассматривал появившегося на пороге, еще молодого, высокого шатена с усиками. Это и был Валентин Николаевич Сапунов. И вид у него был очень самоуверенный.
Он быстренько пробежал глазами вопросы моего билета (все были технологического характера, со схемами, и я был достаточно спокоен – выучил главное, пока ждал своей очереди), кинул взгляд на мои исписанные и исчерченные схемами листочки. И вдруг спросил:
– Ты вундеркинд что ли? На память такие схемы рисовать нереально! Списал поди?
От вундеркинда я решительно открестился. Ну, и от списывания тоже, но не так уверенно. И тут он вдруг собрал все мои ответы и выкинул в урну!
Можете представить мое состояние: я же успел даже прорепетировать выступление, а тут вся подготовка коту под хвост. Я, честно говоря, обалдел и сильно занервничал. Что же теперь будет? Тогда я еще не знал, что окончивший после кафедральной специальности и аспирантуры еще и физ-мат МГУ Валентин Николаевич в технологических схемах, мягко выражаясь, не сильно разбирался.
– Это все фигня, – важно сказал он. – А вот расскажи-ка мне, что ты про процессы гидроперекисного эпоксидирования знаешь?
А вот тут я обалдел совсем! Но уже в положительном смысле этого слова. Даже подумал – не подвох ли? Дело в том, что тема моего диплома в Ярославле была «Эпоксидирование олефинов органическими гидроперекисями». Можете себе представить вероятность получения именно такого вопроса на главном экзамене моей жизни?
И из полностью убитого состояния (после выбрасывания моих листочков) я быстренько возвернулся к жизни, ведь свет надежды снова замерцал, да просто вспыхнул ярким светом в конце туннеля. Литературный обзор то в дипломе был, сам составлял. Вот пересказывать варианты эпоксидирования я и начал с пероксида водорода. А это, оказывается, тема Сапуновского кандидатского диссера была. О чем он мне тут же и сообщил.
Естественно, про мой диплом в Ярославле я ему в ответ никакой информации не выдал. Просто скромно промолчал. Он же меня конкретно про него и не спрашивал, а чему я в школе научился? Не высовываться!
Так мы полчасика и побеседовали на эти темы, с симпатией поглядывая друг на друга. И уже перешли к эпоксидированию гидропероксидами, согласившись с высокой перспективностью такого направления. Я даже добавил, что повезет тому исследователю, который им будет заниматься. ВН был явно удивлен моими познаниями в этой области:
– Ты что, дополнительную литературу читаешь о перспективах развития нашей отрасли химии? – спросил он.
– Да так, иногда – скромно ответил я.
И мы уже заговорили про возможные варианты катализа этого способа. А тут и Шеф вернулся, сбежав с какого-то заседания на 5 мин. И спросил:
– Ну как?
– Пока пять с плюсом! – ответил ВН.
Шеф удивился, посмотрел на нас как-то странно.
– А вы случайно не скрытые родственники? И не были ли раньше знакомы? – засмеялся опять. И, не дожидаясь ответа, сказал:
– Значит, берем? – ВН важно кивнул.
– Ну, тогда и забирай его к себе! Эка, надо ж такое сказать, пять с плюсом! На столько, Валя, даже и я не знаю! Вот ведь нахалы какие меня окружают! – и опять убежал.
Вот так я поступил в аспирантуру! Оценили степень прульности? Вот уж точно – это было НЕПОНЯТНОЕ!
Потом мы с ВН перешли в какую-то маленькую грязноватую и убогую угловую комнатку с двумя разбитыми тягами – (это и была лаборатория его группы, состоящей тогда из лаборантки Лиды и венгерского аспиранта Иожефа). Начала разговора было очень оптимистическое, Николаич сказал, что в аспирантуре я как раз и буду гидроперекисным эпоксидированием циклогексена заниматься.
Тут бы для начала и закончить знакомство, но он решил познакомиться с моим уровнем образования поближе. Возжелал, видите ли, поговорить со мной про кинетику и ферментативный катализ. И еще спросил про какую-то именную перегруппировку. Первое слово мне еще что-то говорило, но очень смутно, второе не говорило ничего. Название перегруппировки тоже.
О чем я ему грустно, но честно и поведал! Брови его полезли вверх, и он начал меня рассматривать как экзотическую и подозрительную зверушку.
– Да, а чему вас вообще там учили? Сплошной технологии? На три года забыть про нее полностью! – Значит так, берешь сейчас же в библиотеке книгу Бенсона «Кинетика ферментативного катализа». Через три дня, считая с завтрашним, явишься и сдашь по ней экзамен. Трех дней хватит? – спросил он, и я, считающий себя специалистом по сдаче чего угодно после трех дней подготовки, кивнул.
– Спрашивать буду строго. Не сдашь – пойду к шефу и признаюсь, что был не прав, или еще лучше, чтобы не позориться, сам потом выгоню!
Сказал и важно вышел. Хорошо хоть в комнате не было свидетелей такого моего позора. Я понесся в библиотеку. Книжку с трудом, но на руки на три дня под залог выпросил. И очень быстро убедился, как сильно я переоценивал свои возможности. К концу третьего дня сломался на первой четверти этой книги (а страниц там было больше 400: полностью новая наука с новыми терминами и понятиями.) И на утро четвертого обреченно побрел к Сапунову.
Но он был не только умный, но и добрый на самом-то деле, мой учитель и будущий друг Николаич! Исповедь выслушал, проверил усвоенное непосильным трудом и… простил. Сказал, что некоторые и на двадцатой странице ломались. А потом подтвердил, считая что меня сильно обрадовал, что именно этими вещами я и буду заниматься.
Мой робкий вопрос – А как же эпоксидирование? – его откровенно развеселил.
– А куда оно денется? Исследование кинетики гомогенного катализа (там, кстати, те же закономерности, что и у ферментативного) эпоксидирования циклогексена. Так твоя тема и будет называться. Ферштейн?
Я кивнул и в первый раз был осчастливлен его любимой поговоркой про зайца, которого можно научить даже спички зажигать, но только при использовании единственно правильной методики – бить надо часто и долго. Хорошенькая перспектива! Но я заранее был на всё согласен.
А на самом деле ВН начал учить меня думать, и не просто абстрактно, а так как надо для кинетика. И так талантливо и ненавязчиво это делал, что я совсем перестал бояться демонстрации уровня своего невежества. Но он только поражался: «мол, совсем хорек мышей не ловил, не ловишь и ловить не умеешь. А надо!» И терпеливо продолжал процесс обучения.
Ему наши кафедральные дамы на 23 февраля стихотворное послание сочинили. Очень верно в нем отражена была ситуация в нашей группе:
Решая сложные задачи
По мановению руки,
Терпеть не может неудачи:
«В гробу я видел вас – хорьки!»
И иногда с душевной болью
Бросает мрачно в никуда:
«Мышей не ловите – уволю!
А ну все быстренько сюда!»
Враз лаборантке станет плохо,
Застынет аспирант без вздоха.
Конец трагедии не нов –
Простит их грозный Сапунов!
Новая жизнь. Попав сюда после ЯТИ, я как будто живой воды напился! И уже через пару лет, еще будучи аспирантом, консультировал бывших сокурсников, оставленных в статусе соискателей, удивляясь тому, что они совсем думать не умеют и, что хуже, и не хотят. Потом три их диссертации сам (!) грамотно онаучил, чем был чрезвычайно горд. Конечно, их руководители оказались в курсе. И на кафедре Фарберова моя репутация стала котироваться достаточно высоко.
Так началась счастливая полоса моей жизни в Менделеевке. Я и правда как заново родился и начал заниматься самым интересным делом – думать. Думать и с удовольствием работать, учиться и других учить, и опять напряженно работать. С удовлетворением и радостью!
Кто-то сказал, что если ваша работа и ваше хобби совпадают – значит, вы прульщик! Вам по жизни повезло. У меня было близко к этому.
Вот если все-таки до книжки про нашу кафедру доживу – постараюсь там подробнее написать, чем мы занимались с Николаичем и нашими аспирантами со всего Союза и не только (Алжир, Тунис, Мали, Мексика дважды, ГДР, Польша, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Китай даже одного гвинейца чуть не взяли. Но Шеф вовремя его выгнал. Туп был хуже пробки. Ну можно и ставшие самостоятельными республики добавить: Узбекистан, Азербайджан дважды, Грузия, Армения – многократно, Украина.)
А пока прикиньте результаты: всего больше 50 диссертаций, защищенных под нашим с ВН руководством. Это только кандидатских. Я, наверное, могу смело (в 60–70 процентах случаев) говорить «нашим», так как уже следующий после меня целевой аспирант, отправленный Шефом к ВН, посланец Армении Тарон Авакян (ставший моим другом, вечный партнер по преферансу и учитель по нардам), фактически делал работу под моим патронированием. То, что я и диссертацию его написал, это само собой подразумевается. И статьи и диссеры почти для всех не очень русскоговорящих (и не только их) написаны (если хотите – переписаны) мной, понимая их трудности с языком. А потом и сам с десяток насочинял.
Но, работая с Тароном, я и план исследования составил и, более того, внедрил Тарошу в НИИМСК, где (за счет его личного неотразимого для женщин и мужчин обаяния и умной политики, смачиваемой действительно хорошим коньяком) все нужные катализаторы нам синтезировали! А кто я был тогда для этого серьезного ящика? Да нуль без палочки.
ВН уехал в Австрию, сначала на год как стажер. Но сумел себя зарекомендовать сразу и был вызван туда опять. В общем, успешно зарабатывал себе европейское реноме в той области, где реально блистал. А именно в обработке кинетических данных с помощью приемов неформальной кинетики. Вот и пришлось его пока заменять, насколько это получалось. А он, поняв, что с трудом, но вытягиваю, с удовольствием часть работы на меня и переложил. И немалую. Но я этому был тогда только рад. Консультироваться то возможность оставалась, не совсем быстрая, но лучше, чем ничего. И идеи он по-прежнему подбрасывал, за творческую часть отвечая.
Так что думать и анализировать я за время работы с ним действительно научился. И потом не ленился совершенствоваться, вернее, жизнь заставляла. Уровня ВН, конечно, так и не достиг. Но с десяток кандидатских диссертаций потом и сам сочинил (когда в смутное время 90-х ВН в Вене отсиживался, а мы тут крутились как белки в колесе и старались выжить), не считая трех чужих докторских, мной в основном написанных. Но чтобы это все стало реальностью, надо было для начала собственный диссер защитить. А первый шаг – он реально трудный самый!