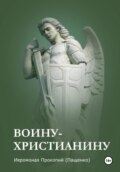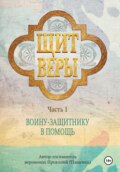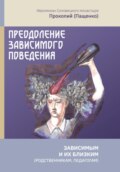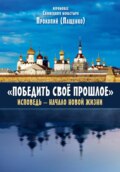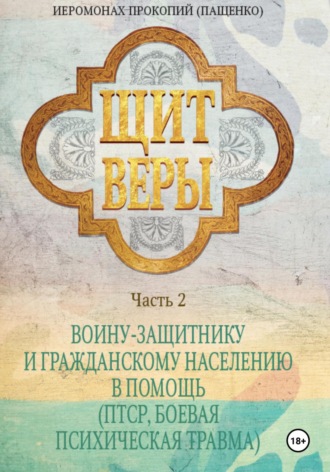
Иеромонах Прокопий (Пащенко)
Щит веры. Часть 2. Воину-защитнику и гражданскому населению в помощь (ПТСР, боевая психическая травма)
Психологические техники преодоления травматического опыта: техника дебрифинга, техника затопления. Сектантские подходы к преодолению ПТСР. Парадокс психологов
В современных светских психологических техниках, которые направлены на борьбу с ПТСР, видится много недостатков. Есть такая светская техника как дебрифинг. Суть дебрифинга состоит в том, чтобы дать человеку высказаться. Травма имеет свойство бессловесности, это некое застывшее переживание, когда человек даже не может высказать, что с ним произошло, и очень важно помочь ему в этом. Когда мы готовили сборник «Щит веры…»[98], я не хотел включать туда стихи и рассказы из книги «Отец Арсений», но меня попросили их оставить как раз потому, что травма имеет свойство бессловесности, и человек не может высказаться. А если у человека есть какие-то литературные описания людей, переживших травматический опыт, какие-то поэтические образы, он уже может через них своё переживание осмыслить и его высказать. Но дебрифинг предполагает просто высказывание. Человеку действительно может отчасти стать легче, когда он выскажется, но не факт, что после этого он не покончит собой. Если человек сказал, что он кого-то убил, может быть, ему на данный момент стало немножко легче, но эта рана никуда не ушла. И психологический принцип, предполагающий, что психолог – это просто наблюдатель, который не должен высказывать никаких оценочных суждений, – этот принцип работает здесь против пользы дела. Соответственно, во время дебрифинга человек не получает отправной точки, оттолкнувшись от которой, он мог бы осмыслить произошедшее с ним.
Уже упоминалось, что некоторые специалисты отмечают: многие вопросы, которые встают перед людьми, выходят за рамки психологии и становятся на стыке религии, этики, философии. Например, проблему жизни и смерти человек не может самостоятельно решить никогда. И здесь позиция священника более выгодна, чем позиция психолога, потому что священник может показать человеку значение истории, значение личности в истории, показать, что человек – не песчинка в жерновах истории. Не обвиняя огульно всех психологов подряд, стоит ещё раз упомянуть, что некоторые психологические техники очень напоминают сектантские. Проговаривание проблемы, например, в чём-то напоминает саентологический подход. Если человек пережил какую-то катастрофу, потерял близкого, был на войне, ему предлагается эту историю бесконечное число раз рассказывать, и в это время определённый приборчик измеряет уровень его возбуждения. И когда человек на приёме рассказывает свою историю в 530-й раз, стрелка приборчика не дёргается, и, с точки зрения саентологии, вопрос считается закрытым, но на самом деле он не закрыт. Если у человека кусок души был выгрызен, повреждён, что-то внутри него было повреждено, и он не может рассказывать о том, что он был изнасилован или что его товарищу отрезали голову, он не может от слёз это рассказывать. Но тут через многократное повторение он натренировался именно этот эпизод рассказывать без слёз. Но если он натренировался рассказывать эти мысли, это не значит, что рана в его душе заросла. Эта рана потом себя проявит в другом. Одна женщина, которая прошла несколько тысяч часов саентологических тренингов, рассказывала, что потом, придя на саентологическую встречу, увидела, что люди там тазиками едят салаты. Она поняла, что если люди так много едят, то у них не всё в порядке, и что у неё тоже травма. Тогда она ушла из этой организации. Нацеливание специалистов на проговаривание иногда даже напоминает насилие: человек может не хотеть этого делать, но его заставляют говорить о своём опыте. Но где гарантия, что он это проговорит, а потом не покончит с собой? Что с этим проговорённым опытом ему потом делать?
Джудит Герман, в частности, описывает одну из популярных в Соединённых Штатах психологических техник борьбы с ПТСР, которая называется техникой затопления. В ситуации безопасности ветерану предлагается до мельчайших подробностей изложить воспоминания о событиях, повлёкших травматический опыт. Много раз повторяя эту ситуацию, ветеран наконец сделает её частью своей личности и уже сможет более-менее успокоиться – идея такая. Также применяется «техника свидетельства» для людей, прошедших политические репрессии и пытки, – они тоже рассказывают о своём опыте в мельчайших подробностях. В обоих случаях видна интуитивная попытка эту доминанту, лежащую в глубинах памяти, подковырнуть, вывести на поверхность. Но того, что её вывели на поверхность, недостаточно – выведя на поверхность, её нужно переосмыслить, внести в неё новые смыслы, новые ростки, иначе ситуация не изменится.
У современного английского психолога Стивена Джозефа есть книга «Что нас не убивает. Новая психология посттравматического роста»[99]. Она не только о ветеранах-военнослужащих, но ещё и о людях, переживших авиакатастрофы, рождение больных детей и так далее. В этой книге есть парадокс, характерный для многих психологов. Автор справедливо отмечает, что проблема такого явления, как ПТСР в том, что на определённом этапе развития психологии это явление стали рассматривать с помощью терминологии, которую выработал Зигмунд Фрейд. То есть ПТСР стали рассматривать как болезнь, в то время как более правильно было бы – и эта позиция согласуется со словами святых отцов – всё-таки найти какие-то ресурсы в человеке, помочь ему развиваться в правильном направлении, и тогда пережитый опыт сможет стать источником мудрости. Каким образом это происходит? В качестве иллюстрации можно привести историю, которая рассказана в фильме «Охотник на оленей» (1978) с участием Роберта Де Ниро, который там играет православного христианина. В фильме показана православная община на Аляске, члены которой время от времени своей мужской компанией выезжают в лес на охоту. В одной из сцен герой Роберта Де Ниро выслеживает оленя и убивает его одним выстрелом. Затем героев фильма призывают во Вьетнам. Главный герой теряет своих друзей, по-христиански пытаясь спасти их ценой собственной жизни, но безуспешно. Потеряв друзей и вернувшись домой, чтобы как-то свою идентичность восстановить, он снова идёт на охоту, как в старые добрые времена, выслеживает оленя и, когда берёт его на прицел, опускает винтовку, потому что понимает: хватит, итак было много смертей. Он отпускает оленя. В каком-то смысле этот шаг – это символическое изображение того, что человек меняет что-то очень глубоко в своей жизни, и благодаря этому изменению у него будет шанс освободиться от своего травматического опыта. В терминологии Стивена Джозефа такое изменение личности названо посттравматическим ростом.
«Побег из лагеря смерти» – свидетельство сбежавшего узника северокорейского концлагеря как пример неудачной попытки преодолеть травматический опыт
Ещё один пример посттравматического расстройства, которое невозможно излечить, не выведя человека на уровень высших смыслов, – это книга «Побег из лагеря смерти»[100], рассказывающая о побеге заключённого северокорейского концлагеря[101]. Мальчик Шин, герой книги, живёт в трудовом концентрационном лагере Северной Кореи. Все рождённые в этом лагере дети рождались потому, что охранники давали какому-то отличившемуся мужчине право на сексуальные контакты с женщинами. Подобные контакты без разрешения каралась расстрелом. Дети, рождённые в лагере, должны были там умереть. Условия труда были очень суровыми, люди долго там не жили, и, когда Шин родился, у него уже была ненависть к родителям: зная, что он должен умереть в этом лагере, он ненавидел их за то, что они дали ему родиться здесь. Детей в лагере даже не обучали и даже не промывали им мозги в отношении пропаганды, потому что считали, что они там умрут. Кормили очень скудно, ребёнка могли забить до смерти за украденные зёрнышки кукурузы. И если кто-то из членов семьи совершал побег, остальных родственников расстреливали. В документальном фильме «Зона особого контроля», который дополняет эту книгу (он есть только на английском языке), охранник концентрационного лагеря рассказывает, что заключённый даже не может покончить с собой, потому что тогда из-за него расстреливают оставшихся в живых членов его семьи.
Этот мальчик Шин рос зверем, потому что, когда детей наказывали, это были коллективные избиения, в которых он тоже участвовал и даже не испытывал эмоций по этому поводу. Когда он узнал, что его брат собирается бежать из лагеря, он донёс на мать и на брата, потому что его бы тоже расстреляли, если бы их побег удался. Мать и брата расстреляли на глазах у Шина, и у него ничего не шелохнулось внутри, потому что он не знал, что мальчик должен беспокоиться, когда на его глазах убивают мать. Он воспринимал мать только как конкурента в еде: он воровал еду у матери, она его избивала, он снова воровал. Но потихоньку у Шина стала рождаться другая доминанта. Мы говорили о том, что выход из ПТСР – это не бесконечное проговаривание травматического опыта, а подъём на уровень каких-то более высоких смыслов. Итак, Шина поставили «стучать» на одного репрессированного партийного руководителя, и последний научил мальчика песням о дружбе, рассказал, что в мире есть что-то, помимо риса и кукурузы, и тогда Шину захотелось жареной курицы. Его культурный уровень начал развиваться. Он совершил побег вместе с тем мужчиной, но мужчина при побеге погиб. У Шина развилось классическое ПТСР, он всего боялся, у него была паранойя. Такие беженцы пугаются звука стиральной машины, и, если начальник на работе делает аккуратное замечание, они начинают очень остро воспринимать его, считая, что начальник имеет какие-то замыслы против них. И когда Шин попадает в Соединённые Штаты Америки, он знакомится с людьми, которые занимаются общественной работой в комитете по Северной Корее, у него даже появляется девушка, на которой он хочет жениться. Но потом он расстаётся с девушкой и делает ужасное заявление: он говорит, что, если откроют границы, он будет первым, кто вернётся в Северную Корею. То есть он хотел вернуться в свой концлагерь, потому что там у него было «чистое сердце». Но «чистое сердце» не в смысле евангельского понимания – блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят (Мф. 5, 8) – здесь же имеется в виду, что у него не было там морального выбора. В лагере он мог избить, убить, при этом ничего не чувствуя, и это отсутствие выбора было ему комфортно.
Воин, который оказывается в состоянии патологической доминанты, подавляющей всё человеческое в нём, – нельзя сказать, что счастлив, но в каком-то смысле ему хорошо, потому что у него нет морального выбора, а моральный выбор – это нагрузка для психики. В Штатах Шин увидел семью, где мать была не конкурентом за еду, а внимательной и любящей своих детей женщиной. И тогда он стал осознавать, что же он совершил. Но в чём беда? Возможно, Шин имел общение с представителем протестантской деноминации. Видимо, ему пытались рассказать, что Бог его любит и так далее, но он не мог понять концепцию любящего Бога, потому что видел, как детей убивают за украденные зёрнышки кукурузы. И, соответственно, ему протестантская идея не помогла. Но как можно было его вывести из такого состояния?
Мы уже упоминали слова митрополита Антония Сурожского о том, что Господь может давать человеку снова и снова пережить какой-то важный опыт прошлого, который не был человеком до конца осмыслен. Например, если женщина делала аборты или если человек чувствует вину перед ушедшими родителями, которых уже не вернуть, и постоянно помнит об этом. Может быть, было сделано что-то против совести под воздействием страха или каких-то обстоятельств. Что можно посоветовать человеку в таких ситуациях? Прощение – это, по сути, воспитание в человеке навыков, противоположных совершённым поступкам. Человек должен измениться. Если чувствует вину перед ушедшими родителями – поработать какое-то время волонтёром в доме престарелых и т. д. В книге «Православное учение о спасении»[102] архимандрита (будущего патриарха) Сергия (Страгородского) также есть слова о том, что прощение – это не значит, что Бог вычёркивает какую-то строчку из нашего прошлого. Прощение, исцеление, с точки зрения православия, происходит тогда, когда человек внутренне меняется. Через это изменение он разрывает связь с тем, кем он был в прошлом, он становится другим. Мы знаем, что Исповедь – это и есть та самая возможность вернуться в прошлое: стоя у аналоя, человек может Божиим мановением вдруг оказаться в той ситуации, где он совершил ошибку. И если бы Шину предложили такую возможность вернуться в прошлое и задали бы ему вопрос: теперь, из нынешнего твоего состояния, когда тебе ничего не угрожает, как бы ты поступил в ситуации с матерью и братом?..
По словам Ухтомского, доминанта человека оживает, если человек говорит, что он постарался бы никогда не повторить такую ошибку. Тогда, в эту минуту в него вбрасывается росток Божественной жизни, и тогда человек выздоравливает. Через пророка Иезекииля Бог говорит: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был (Иез. 33, 11). Но с Шином этого не произошло, поэтому он не смог жить в Штатах, он остался травмированным и больным.
В научной литературе был описан случай ветерана Вьетнама, который не мог успокоиться после войны. При общении с ним выяснилось, что ему на войне нравилось убивать и насиловать, ему нравилось ощущение безнаказанности. Применительно к нашему мировоззрению, это – страсти, то есть некие навыки души, которые через многократное повторение стали качествами личности человека. Соответственно, человек в своей гражданской жизни найти себя не сможет. Даже если такому человеку исповедоваться, для него не будет достаточно только разрешительную молитву получить на Исповеди, потому что навыки остались. В таком случае нужна епитимья, понимаемая не как наказание, а как помощь в исцелении тех недугов души, которые были сформированы раньше. То есть если человек обесценивал жизнь, то он должен понять, что жизнь другого человека драгоценна.
Как это сопоставимо с войной? Протоиерей Димитрий Василенков с протодиаконом Владимиром Василиком в упомянутой книге «Путь Архистратига. Преодоление зверя» отвечают, что православный воин, совершая устранение противника и пытаясь остановить его, даже вынужденно нажимая на курок, всё равно не старается себя превратить в зверя, не пытается уйти от мук совести, как это сделал Шин, через отупение и снижение порога восприятия. Православный воин не пытается, как это было в немецкой армии, представить противника в виде недочеловека, которого можно уничтожить, как клопа. Даже стоя перед лицом горькой правды, что он убил человека, православный воин не будет подвержен ПТСР, если будет понимать, для чего он это сделал – для того, чтобы остановить зло.
Православный воин не пытается обесценить факт совершённого в своём сознании. Даже советуют молиться за того, кто погиб по твоей вине. Конечно, как говорят, у истории нет сослагательного наклонения, в отношении исторического процесса трудно судить, как «было бы, если бы», но в этой книге советуется поставить вопрос: возможно, если бы не война, этот человек (убитый тобой) занялся бы, например, наукой. Кстати, такие случаи были, есть свидетельство одного советского снайпера, который во время Второй мировой войны держал на мушке одного немецкого солдата, но последний был таким юным, что снайпер просто пожалел его. После войны этот снайпер занялся наукой, и на одной научной конференции он увидел этого немца с характерным шрамом, который он разглядел в снайперский прицел. Он спросил его, не был ли он в такие-то годы на такой-то позиции. Оказалось, что это тот самый юный немецкий солдат, и они потом подружились. То есть, если бы не война, люди могли бы заниматься совсем другим, и нужно об этом помнить. Есть также свидетельство об одной женщине-снайпере в Архангельской области – во время Второй мировой войны потомственные охотники Архангельской области становились хорошими снайперами. После войны архангелогородцы помнили женщину, которая ставила в храме огромное количество свечей. Её спрашивали, неужели у неё столько людей погибло во время войны?! Но она отвечала, что была снайпером, и эти свечи – это количество людей, которых она убила. Очень велика вероятность, что у этой женщины не было ПТСР: через этот некий высший этаж духовной культуры, может быть, даже благодатный уровень, она иначе взглянула на факт совершённого, и он для неё был осмыслен.
Как интегрировать травматический опыт в жизнь человека и сделать его точкой духовного роста. Возможности психолога и возможности духовника
В понимании травматического опыта мы можем сойтись со светскими специалистами. Травму можно считать преодолённой, когда она интегрирована в психику человека, то есть когда опыт прошлого вошёл на полноценных правах в нашу личность. Но есть один нюанс. Мысль хорошая, но, как стало понятно из теории Ухтомского, интегрировать травматический опыт в психику можно только тогда, когда у нас есть некая система взглядов, позволяющая осмыслить происшедшее с неких высших этажей личности. И снова: в чём здесь парадокс психологов? Наблюдая за своими пациентами, которые вышли из посттравматического расстройства (ветеранами или жертвами изнасилования и т. д.), сами психологи не могут предложить тех инструментов, с помощью которых эти пациенты излечились. Думается даже, что эти пациенты в какой-то степени выходят из ПТСР не благодаря психологическим практикам, а вопреки им и, скорее, благодаря тем здоровым механизмам психики, которые в людях заложены Богом.
Профессор Ф. Е. Василюк, православный христианин, доктор психологических наук, автор книги «Психология переживания»[103], описал четыре уровня переживания критической ситуации. Переживание в его терминологии – это не эмоция, а термин от слова «пережить», например, смерть близкого, боевые действия, в которых ты участвовал, и так далее. Когда человек попадает в критическую ситуацию, первым, самым примитивным уровнем её переживания становится отрицание. Этот уровень переживания хорошо показал современный писатель Евгений Водолазкин в художественном романе «Лавр». Главный герой романа – врач – принимает роды у своей возлюбленной, но его профессионализма не хватает, и она умирает при родах вместе с ребёнком. Долгое время герой пытается отрицать факт её смерти: общается с ней, как с живой, даже тогда, когда тело уже начинает разлагаться.
Второй уровень переживания кризисной ситуации – уровень реалистический. К сожалению, на этом уровне останавливаются некоторые психологи. Например, девушка была изнасилована или парень с кем-то образовал бизнес, а его кинули. Естественно, в такие моменты у человека рушится картина мира: он больше не может доверять миру и близким людям. Похожее ощущение описано в псалме Давида: И ближнии мои отдалече мене сташа (Пс. 37, 13). Из такой ситуации есть два выхода. Первый – тупиковый, тем не менее он иногда пропагандируется психологами. Человеку внушается мысль: «Не было никакой картины мира, не беспокойся, не было никаких чести и достоинства, никакой дружбы, и, следовательно, если не сложились твои идеалистические представления о мире, – не беспокойся, это тупик, полюби себя в тупике». Но есть другой выход – выход в посттравматический рост, обретение новых смыслов через переживание критической ситуации, рост личности.
Возвращаясь к парадоксу психологов, приходится констатировать, что Стивен Джозеф, описывающий пациентов, которые вышли в посттравматический рост (то есть травма стала для них источником мудрости), сам как специалист не поднялся выше этого второго уровня переживания. Он советует людям страшные вещи: тем, кто столкнулся с насилием, чья картина мира и справедливости рухнула, он предлагает отказаться от этой картины мира и считать, что раньше им только казалось, что мир справедлив, он говорит, что станет легче, если признать, что люди смертны, что они просто зверюшки, которые скоро умрут. Но ведь можно человеку объяснить, что, если его картина мира рухнула, это не значит, что справедливости в мире вообще нет. Может быть, просто картина мира у него была наивная. Бывает, и избранникам Бог попускает испытания, но, если Богу будет угодно, всё в итоге будет хорошо.
Третий уровень переживания – уровень идеалистический. На этом уровне человек, столкнувшийся с кризисной ситуацией, не знает, что делать, но у него есть некий идеал, к которому он устремляется, и здесь создаются основы для проявления героизма. То есть тебе страшно и больно, но маячит какая-то звезда, которая тебя зовёт, и ты понимаешь, что предать её ты не можешь.
Четвёртый уровень переживания – творческий. По сути, это тот уровень, к которому нас призывают духовные наставники. Когда человек сталкивается с ситуацией невозможности, когда он не может реализовывать свои ведущие мотивы, без которых он себя не мыслит человеком, находясь на своём наличном уровне, он не сможет никак ситуацию преодолеть. Чтобы не сойти с ума, человек начинает творчески перестраивать жизнь вокруг себя и себя самого. И происходит метанойя, изменение ума. При внимательном духовном наставничестве, постепенно обогащая человека, уча его бороться с гневом, собственной злостью, его раны можно исцелить. Но это духовническая работа, которая в корне отличается от всех тех психологических приёмов, которые сейчас практикуются.
Важно добавить, что работать над преодолением гнева нужно с православных позиций. С точки зрения светской психологии, идея гнева не решена: светские психологи не могут разобраться, полезен гнев или нет, потому что, с одной стороны, гнев даёт энергию, а с другой стороны – разрушает. Православная позиция по этому вопросу такая: гнев был дан Богом человеку как сила напряжения для преодоления препятствий и достижения какой-то цели. Но в результате греховной заражённости человек за благо стал почитать что-то другое, какую-то свою страсть: например, славу. И человек начал силой своего гнева испепелять тех, у кого больше просмотров на ютубе. Путь исцеления от гнева в том, что по-гречески называется «апатией», но не в том смысле, когда человек пьёт водку, лёжа на диване. «Апатия» на аскетическом языке означает бесстрастие: когда ты начальник и перед тобой подчинённый, которого нужно взбодрить, ты это делаешь, указывая ему на его ошибку, но при этом тебя не трясёт от гнева. То есть сила напряжения остаётся, активность остаётся, но при этом ты не заражаешься личной ненавистью. Подобным образом это проявляется на поле боя: необходимо решить задачу, но при этом ты не испытываешь личной ненависти к противнику.
В книге «Кавказские подвижницы»[104] о двух схимонахинях, которые жили в советские годы и совершали реальные чудеса, рассказывается о высокопоставленном командире, с которым одна из этих схимонахинь была знакома. Этот командир когда-то участвовал в подавлении восстаний во время Гражданской войны, и впоследствии его стали мучить кошмары, в которых он бежал по подземелью, а за ним гнались озверевшие люди, готовые его растерзать. В одном из снов он добежал до некоего старца, который укрыл его мантией, и таким образом он спасся. Потом он понял, что это был преподобный Сергий. Этот командир стал ездить в Троице-Сергиеву Лавру, пришёл к вере, потом принял постриг. Уже после Второй мировой войны он участвовал в разработках оружия, курировал действия в отношении ракет. Он заранее предвидел свою кончину, перед кончиной оделся в схимническое облачение, и, когда дверь взломали, его нашли в схиме. В руках его была записка, в которой он говорил, что нет противоречия между религией и наукой. Его история – пример того, что человек не просто реконструировал свою травму, но принял решение о деятельном покаянии. Если он в прошлом участвовал в несении смерти, то теперь он стал нести жизнь. Он тайно (поскольку религия ещё была под запретом) переводил средства на восстановление храмов и помогал людям. Когда он пришёл к вере, он вспомнил, что в детстве верил в Бога, но потом, под воздействием пропаганды большевиков о ненаучности религии, эту веру утратил. Уже после своего покаяния он стал изучать историю революции и понял, что в ней были задействованы определённые силы, целью которых было сеяние хаоса. То есть в итоге на свой травматический опыт он стал смотреть с высшей точки – с точки зрения личности, вечных смыслов.
У Ставрогина, героя романа Достоевского «Бесы», тоже отчасти было ПТСР: он участвовал в дуэлях, по его вине погибли люди, и он даже видел оскаленную морду демона. Епископ Тихон посоветовал ему провести пять-семь лет в послушании, чтобы исцелиться от опыта прошлого. Это великие слова. Потому что, если у человека есть развёрнутая психотравма, психологи предлагают только до бесконечности говорить об этой психотравме в надежде, что она как-то интегрируется в личность, но у них нет инструментов для этой интеграции. И здесь у духовника больше возможностей – он может начать человеку помогать выстраивать то, как общаться с людьми: например, со своими детьми в семье. Это всё важно. Какой-то военнослужащий накричал на ребёнка, что привело к ссоре в семье. У него начались переживания, он не может с ними справиться и уходит в запой. В момент ослабления разума доминанта всегда будет всплывать, поэтому духовник, работая вместе с самим человеком, не только учит его анализировать опыт боевых действий или других травм, а может вместе с человеком обсудить, например, что тот будет делать, когда поссорится с супругой. Потому что, если человек не будет знать, что с этим делать, он уйдёт в запой, у него всплывёт какой-то механизм разрушения.
Мы не даём человеку техники забвения, практикующиеся также в светской психологии, – эти техники очень опасны. Мы не боимся на Исповеди вытащить тот травматический опыт, который был пережит в прошлом. Если было, например, совершено убийство, даже на войне, и было совершено покаяние в нём, то и очищение, помимо самой Исповеди, здесь тоже требуется, потому что трудно быть полностью бесстрастным после того, как твои товарищи погибли. Если духовник настраивает человека на встречу с Богом, где Господь помогает человеку эту рану зарастить, и если духовник одновременно учит человека бороться со своим гневом и с другими страстями, то у человека происходит выход в посттравматический рост, и опыт травмы становится для него источником духовного возрастания.
Также важно, чтобы духовник помогал человеку преодолевать ложные установки. Например, один спецназовец, который учился в суворовском училище, рассказывал, что знал ребят, которые ещё в училище поклялись друг другу в верности своему боевому братству и пообещали, что за каждого убитого из «наших» убьют по сорок врагов. И что в итоге? Спецназовец сказал, что из этого братства осталось три человека, и получается, что каждому из них нужно убить несколько сотен. Здесь надо работать с человеком, надо говорить, что сам такой подход неверен. И у духовника здесь гораздо больше инструментов, чем у психолога, который не даёт советов, а лишь отстранённо «наблюдает» пациента.