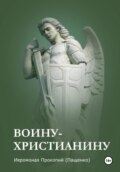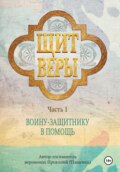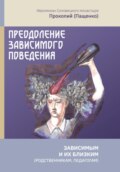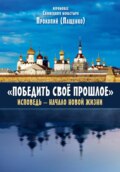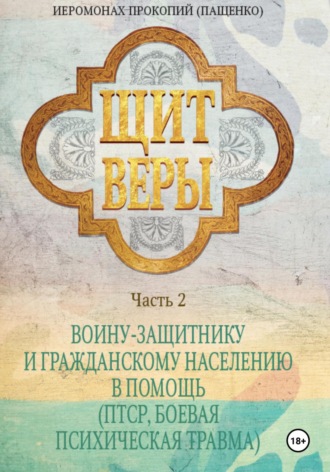
Иеромонах Прокопий (Пащенко)
Щит веры. Часть 2. Воину-защитнику и гражданскому населению в помощь (ПТСР, боевая психическая травма)
Но через три месяца всё стало меняться. «Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немцы раненые так же кричат, умирают». Открытием было то, что немцы – отступают. Пленные рассказали, что ополченцы в своих нелепых одеждах тоже внушают немцам страх. Стойкость ополченцев остановила наступление немцев на Лужском направлении, и немецкие части застряли. «Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться. Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех девятисот дней, против сытого, хорошо вооружённого врага уже в силу превосходства духа» [!].
Со временем Гранин был произведён в лейтенанты, стал командиром. «Мой лейтенант» – так называются его воспоминания потому, что он сам удивлялся себе. Неужели этот лейтенант, так смело принимающий решения, и есть он, тот самый, который начал войну в обмотках?
Через некоторое время он женился. «Бога у нас не было, – так он поведал о том, о чём потом рассказывал митрополит Митрофан (Баданин), – Его [то есть Бога] заменяла любовь, потом мой лейтенант узнает, что Бог это и есть любовь».
Два пути воина: воин-волк или воин-христианин
Наличие смысловой вертикали особое значение приобретает тогда, когда противник пытается подавить психологически, когда противник идеологически «заряжен», и особенно – когда он исповедует концепцию зверя (волка). Есть путь воина-волка (воина-зверя) и путь воина-христианина.
Останавливая зло, воин-христианин сам должен не озвереть, ибо озверение – это «билет в один конец», путь к ПТСР и распаду психики. Кто бы что ни говорил, но, перестав однажды быть человеком и став волком, трудно вернуться обратно к человеческому статусу.
Вопрос о противостоянии воина, исповедующего концепцию зверя, и воина-христианина разбирался в серии эфиров[76], включённых в проект «Путь жизни и путь смерти: два подхода к ПТСР, два пути воина – языческий и христианский», имеющий целью помочь воинам, принимающим участие в СВО (конечно, в более широком значении подразумевается, что помощь необходимо оказать не только им). В контексте СВО это противостояние приобретает новое измерение, ведь российским воинам приходится сражаться с противником, вовлечённым в мистические культы, напоминающие культы Третьего Рейха; с противником, вовлечённым в идеологию ненависти[77].
Ненависть может стать той чёрной доминантой, которая подавит деятельность других отделов коры, фиксируя внимание человека лишь на негативных образах. Так и приходят к ПТСР. А потому нужно каким-то образом и боевую задачу выполнить, и ненавистью не заразиться.
Вопрос о двух подходах к пути воина можно проиллюстрировать двумя примерами. Первый пример – берсерки, «спецназ» викингов, которые, по преданию, входили в боевой транс с помощью психоактивных веществ. Во время боя они находились в состоянии ярости, но вне войны могли считаться отщепенцами, ведь и в обычной гражданской жизни продолжали идти путём конфликта. Противоположный пример – святой благоверный князь Александр Невский, который во время войны был непревзойдённым воином, а во время мира – мудрым и рассудительным правителем.
Эти два образа сравниваются в статье «Три силы: Цель жизни и развязавшееся стремление к игре (казино, гонки, игра по жизни)»[78]. В этой статье ставится вопрос об инстинктах – как к ним относиться – а также вопрос о силе гнева (как относиться человеку к силе гнева?). Не пересказывая всего содержания статьи, здесь стоит отметить, что ответы на эти вопросы лежат не на уровне горизонтали. Ответы можно найти, двигаясь по вертикали – к преображению.
Академик Ухтомский считает, что «природа наша возделываема», а потому человек вовсе не обязан стукаться в действие инстинкта, как в роковую стену. То, что даётся природой, является фундаментом, и эти фундаменты заменяются «по мере роста всё новых и новых условных связей И. П. Павлова [то есть по мере развития второй сигнальной системы, о которой писал И. П. Павлов]». В этом смысле инстинкты не являются чем-то раз и навсегда заданным, их можно рассматривать как фонд человека. «Важная и радостная мысль в учении дорогого И. П. Павлова заключается в том, что работа рефлекторного аппарата не есть топтание на месте, но постоянное преобразование с устремлением во времени вперёд».
Работа высшей центральной нервной системы поднимается в своих достижениях не на основе унаследованных рефлексов и инстинктов, а на основе борьбы доминант с тем поведением, которое было унаследовано и стало привычным. В случае этого преобразования определять поведение будут не инстинкты, а те надстройки, которые станут возникать над инстинктами при столкновении с доминантами (в статье говорится, что сила гнева исцеляется любовью; человек сохраняет огненное напряжение и активность, но при этом не дрожит от ненависти к людям). И эти надстройки станут достижениями человека, они и будут влиять на его дальнейшее поведение. Такие надстройки человек формирует с помощью смысловой вертикали, с помощь веры[79].
(Так, по мнению некоторых авторов, «мужество надстраивается над биологической витальностью, связывая и оформляя её убеждениями, верой, принципами». Под витальностью в данном случае понимается сила человеческой жизни, она неразрывно связана с отношением к смыслам. Эта сила жизни настолько укоренена и активна, насколько присутствует в жизни человека связь со смыслами. И потому мужество неотделимо от целостности человека, от его языка и от способности к творчеству, от его духовной жизни и от его главного интереса. Если в человеке живёт вера в его причастность силе Бытия, то у него появляется фундамент для мужества. Мужество и вера остаются с человеком даже тогда, когда «перестают действовать внешние гарантии»[80].
Иллюстрируя тему формирования надстройки над инстинктами, можно привести размышление о родах, сообщённое автору одной женщиной в переписке. Она писала, что «в родах, если установка на страдания, то это одна картина (потеря контроля, хаос, стереотипные крики, гримасы и т. д.). Если есть установка на любовь, то картина совсем другая: тогда думаешь именно о ребёнке, как ему не навредить, как совершается божественное чудо рождения человека»).
В отношении критики веры, когда говорят, что «религия – дурман для народа», Ухтомский отвечает следующее. Он говорит, что продолговатый мозг тормозит мозг спинной, а головной мозг является тормозителем продолговатого.
«Отказываться ли от милого пресмыкания в болоте с уютными лужами и вкусными самками в жирной и славной болотной грязи ради далёких и проблематических предвосхищений будущего, с которым я, быть может, так-таки и не встречусь?»
Красота и религия пусть будут тормозителями импульсивного пресмыкания, ориентации на обыденные интересы, в том числе полового аппарата и выделительных органов. Красота и религия «снимают с очереди ближайшее и наличное ради далёкого и предстоящего! Дурманят и затормаживают свиное в человеке, чтобы помочь в нём человеческому!»
Таким образом, учитывая всё сказанное выше, можно сделать следующий вывод. Красота и религия могут преобразить действие тех процессов, которые фиксируют человека на обыденных для боевых действий образах. Могут уберечь от застревания в той модели поведения, которая разрушит психику человека.
Равновесие
То, как в реальной жизни выглядит описанное академиком Ухтомским действие высших надстроек центральной нервной системы, а также – действие красоты и веры, иллюстрируется примером монахини Адрианы (Малышевой). Монахиней она стала уже в очень зрелые годы. В молодости она с началом Великой Отечественной войны записалась в добровольцы и всю войну провела в военной разведке, то есть на самом «передке», на линии боевого соприкосновения. Многократно она переходила линии фронта для выполнения боевых заданий. И примечательно, что после такой военной жизни, после войны, она не превратилась в жертву ПТСР. Она училась, работала в конструкторском бюро Королёва. Что же поддерживало её?
Надо сказать, что годы войны особо не были окрашены у неё верой. Время было такое, что о вере не говорили. Люди поддавались нарративу идеологии, пытающейся выдавить веру из их сознания. Но всё равно огонёк веры, загоревшийся в детстве, не покидал её душу окончательно.
Она усвоила урок командира: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлять товарища в беде. Закон фронтовой жизни непреложен: сам погибни, но друга спаси». Командир неукоснительно требовал соблюдения нравственных норм: благородства, уважения друг к другу, скромности.
Она вспоминала, что «самое трудное на войне – это нескончаемые бытовые тяготы. Ведь служба на передовой – это жизнь без крыши над головой». «В таких условиях заслужить уважение и любовь товарищей можно было, только заставив себя не роптать, не жаловаться, являть пример выдержки».
Однажды, когда она с другими бойцами перешла за линию фронта, группа столкнулась с чувством голода. Если бы кто-то начал искать пищу, то возникла бы рискованная ситуация: их могли засечь немцы. И тогда она достала свой НЗ – «неприкосновенный запас» – кусок сухого чёрного хлеба. Разделила на пять частей и, раздав кусочки, сказала, чтобы ребята не жевали хлеб и не глотали его сразу, а держали во рту, как конфету, пока не размякнет. И через некоторое время она услышала, что есть ребятам уже не хочется.
Спустя много лет оставшиеся в живых вспоминали, как маленьким кусочком хлеба удалось утолить голод молодых здоровых парней. Ребята (к тому времени уже поседевшие) «пытались объяснить это чувством единства, которое возникло у них при общей трапезе, да ещё так честно разделённым сухарем». «А я верю, – говорила она, – что в этот момент благодать Святого Духа коснулась всех нас!»
Она сохранила сокровенные воспоминания в своём сердце. И когда приходилось беседовать с юными слушателями о войне, она рассказывала «больше о фронтовой дружбе, доверии друг к другу, самоотверженной помощи». Она рассказывала, как сохранившийся у неё сухарь помог преодолеть чувство голода, пока разведчики несколько дней прятались от немцев. Делясь этой историей, она раздала юным слушателям маленькие кусочки шоколада, чтобы те попытались понять состояние людей в трудные военные годы. Слушатели, вначале разочарованные тем, что их не будут развлекать рассказами о поражающем воображение количестве убитых врагов, «…вдруг притихли и почти перестали чмокать губами, как бы сами ощутив благодатное чувство объединения. А мы, бывшие фронтовики, не перестаём испытывать его никогда».
Когда ей приходилось рассказывать о войне, она старалась «основное внимание обращать на внутренние, чисто нравственные и духовные стороны… фронтовой жизни – верность долгу, самоотверженность и братскую любовь». Вопреки обычному стилю фронтовых воспоминаний, когда слушателям сообщают о количестве убитых немцев, ей хотелось донести до людей, что «мы и на войне сохраняли в душах чистоту, нежность и доброту».
Однажды, весной 1945 года, она увидела, что «деревья начали покрываться нежной зеленью, а влажная земля – травкой, воздух был насыщен весенним запахом. И всё это вдруг стало ощущаться как почти забытые радости нашей прерванной юности» (примечательно, что Юрий Шевчук, во время войны посещавший Чечню, чтобы поддержать своим творчеством российских солдат, и после этих поездок столкнувшийся с ПТСР, вышел из этого состояния весной – ему так захотелось любви, что он написал песню «Любовь», и с тех пор «они», то есть музыканты группы ДДТ, её всегда поют[81]). Они с подругой впервые за военные годы, нарушив устав, разулись и босиком бегали по лесу, касаясь стволов деревьев, смеясь и падая на мягкую землю. И вдруг она увидела совсем рядом с собой цветок, который показался ей таким прекрасным и беззащитным, что она долго смотрела на него, боясь, что подруга тоже увидит его и захочет сорвать.
С удивлением она подумала, что весна приходила каждый год, и каждый год появлялись цветы. Но прозрение наступило только сейчас. Это прозрение было особенно ярким [на контрасте] от того, что долгие годы войны она была лишена радости чувствовать прекрасное.
В День Победы им дарили столько цветов, что удержать их в руках было невозможно. Но многие годы потом тот лесной подснежник вызывал у неё трогательную нежность и благодарность за подаренное ей «ощущение возврата к нормальной жизни от тягот войны». Она рассказала об этом маленьком лесном чуде своим сослуживцам и увидела по их глазам, что они понимают её, «проникаются таким же чувством светлой, тихой радости».
Вот что вынесла матушка из своей жизни – её слова можно воспринимать как некий завет, как развёртывание слов Виктора Николаева, который о своей службе в Афганистане написал известную книгу «Живый в помощи». В ней были такие слова: «Когда мы вспоминаем о нашем русском православном Боге, возвращаемся к заветам предков, к традиционным нормам морали и нравственности, отходит от сердца злоба и ненависть, сребролюбие и трусость, и в нём водворяется смиренный христианский непобедимый покой воина, против которого никогда не выкуют, сколько бы ни старались, равноценного меча ни безбожный Запад, ни мусульманский Восток»[82].
И эта же мысль читается в словах монахини Адрианы о равновесии. «К равновесию приходят через сдержанность и спокойствие. Умение владеть собой, самоконтроль, ощущение внутренней силы, бесстрашие – это грани качества равновесия.
Спокойствие может быть проявлено при самом страшном напряжении. Спокойно сердце, чувства, мысли, спокойны тело и все его движения… Антиподом спокойствия являются суетливость, беспокойство, нервозность и нервные движения.
Никто не может устоять перед равновесием. Его безмолвная сила может укротить самое сильное тёмное противодействие или эмоциональный „вихрь“.
Поддаваясь эмоциям, человек становится рабом крайностей. Крайности проявляются во всём: в голосе, во взгляде, в движениях, жестах, эмоциях, чувствах.
Все смеются, смеётся и он, все плачут, плачет и он, все бегут в страхе, мчится и он, все злобствуют, злится и он.
Заражаясь эмоцией, человек теряет самоконтроль. Равновесие – это отказ, нежелание быть в крайностях. Равновесие не означает равнодушие. Равнодушие – это безразличие.
Равновесие же – это спокойное, бесстрастное отношение ко всему, касающемуся малого, личного „я“.
Равновесие духа – одно из самых труднодостижимых качеств. Его может утвердить лишь тот, кому ничего ни от кого не нужно, кто способен давать, ничего не требуя взамен»[83].
Глава 2
Преодоление боевой травмы и выход из посттравматического стрессового расстройства: теория, практика, подходы

Психологические техники преодоления травматического опыта: техника реконструкции, техника свидетельства. Сложность вопроса об интеграции травматического опыта в жизнь человека[84]
Современные психологические подходы в области переживания травматического опыта, основанные на реконструкции травмы и интеграции её в жизнь человека, представляются недостаточными. Если нет высшего этажа личности, с которого человек оценивает происшедшее и встраивает его в определённый контекст, то говорить об интеграции травмы в личную жизнь не представляется возможным. Парадокс современной психологии, которая занимается переживанием травматического опыта, состоит в том, что человеку предлагается через реконструкцию травмы каким-то образом осмыслить прошлое, выработать к нему отношение, но при этом не даются позиции, с которых он может это сделать.
Существует точка зрения, что реконструкция травмы, подробный рассказ о ней помогают ослабить симптомы гипервозбудимости[85], отторжения и так далее. Есть так называемая техника наводнения, разработанная для ветеранов в Соединённых Штатах Америки, – она подразумевает реконструкцию боевого опыта и рассказ о нём в мельчайших деталях – и подобная ей техника свидетельства, разработанная для людей, переживших политические преследования и пытки. В частности, подобная техника практиковалась в Чили: человек с психологом в мельчайших подробностях восстанавливал весь свой травмирующий опыт. По одной из гипотез, которая видится справедливой, вторжение травматического опыта в психику может происходить тогда, когда опыт прошлого находится в оперативной памяти человека, но до сих пор не был интегрирован в его жизнь, и потому постоянно человеку напоминается[86]. Таким образом, если человек заглянет правде в глаза и признает, например, что он убил кого-то, может быть, этот опыт, то есть воспоминание об этом событии, действительно перестанет агрессивно вторгаться в его психику, потому что человек это воспоминание впустит в себя. Однако такой реконструкции недостаточно для исцеления от этого травматического опыта.
Русский человек ищет смысл, а многие современные тренинги построены на неправде: человек становится зависимым от специалиста-психолога, как будто Господь не дал человеку механизмов, помогающих ему в саморегуляции. В частности, американская психиатр Джудит Герман, изучающая последствия травматического опыта, в книге «Травма и исцеление»[87] напрямую не говорит о своём отрицательном отношении к религии, но складывается ощущение, что это отношение либо негативное, либо она размышляет о религии только как об увлечении своих пациентов: мол, если человек хочет молиться, пусть молится, если молитва помогает ему отвлечься от проживания травмирующего переживания. С одной стороны, психологи пытаются каким-то образом найти такую точку, находясь на которой можно достичь интеграции травмы в жизнь человека. Но с другой стороны, они отрицают то духовно-культурное богатство, которое человеку даёт христианство и на основании которого человек мог бы травмирующие переживания осмыслить, интегрировать в свою жизнь хотя бы сперва на уровне того, чтобы осознать произошедшее, дать ему оценку и принести в нём покаяние. И тогда Господь уже человека принимает и снимает с его души тяжесть, родившуюся после содеянного.
Парадокс современной психологии можно дополнить тем фактом, что сейчас подвергаются редактуре памятники письменности, которые считались культурологическим наследием, которые являются памятниками мировой литературы. Понятно, что не все они описывают православное мировоззрение, но на своём уровне они всё равно дают хоть какие-то представления о добре и зле, пусть и неполные.
Итак, с одной стороны, психологи говорят об интеграции травмы, но с другой стороны, на основе чего это травматическое переживание будет интегрировано? Здесь возникает опасность того, что эта не замкнувшаяся в сознании человека цепочка будет в итоге замкнута на какой-то ложной идее. Для травмированного человека на основании ложных идей создастся некая концепция, которая, в принципе, даст ему объяснение того, что произошло, и степени его участия в происшедшем, но это будет бредовая идея.
Такой путь был хорошо показан в фильме Ф. Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979). Герой фильма, полковник Курц, сходит с ума, обретя бредовую идею после того, как увидел страшные картины войны. Он видел, как военнослужащие отрубили руки детям. Полковник от увиденного испытал настолько сильную боль, что, по собственному признанию, хотел выдрать себе зубы и плакать, как старуха. Но затем в его мозг вошла как бы «алмазная пуля». Ему пришло на ум, что люди, которые сделали эти зверства, не были извергами, они были любящими отцами и людьми с сердцем, тем не менее они были способны совершить такой поступок. И полковник решил, что если бы у него было определённое количество дивизий с такими же людьми, которые обладали бы моралью, но тем не менее способны были бы убивать на уровне первобытных рефлексов, то он решил бы проблему во Вьетнаме. Для полковника Курца интеграция травматического материала завершилась бредовой конструкцией. И здесь мы видим два пути, о которых говорили в первой главе этой книги. Первый – путь волка, попытка преодолеть травматическое переживание, полученное на войне, путём некоего слияния с ним или путём включения его в некую концепцию сверхчеловека: дескать, тот, кто убивает, находится на более высокой эволюционной ступени развития, и при этом есть некоторые народы, которые должны быть уничтожены и так далее. И второй путь – концепция воина-христианина, который, даже участвуя в боевых действиях, всё равно старается не пропитаться злом, ненавистью; и в этой концепции травматическое переживание побеждается.
Для того чтобы действительно интегрировать травматический опыт в каком-то здоровом контексте, необходимо выйти за рамки психологии, потому что ответы на такие вопросы лежат на стыке философии, религии, этики. Психология иногда пытается сакрализовать себя, выявить внутри себя некую касту «жрецов» – «специалистов», которые решают, что такое добро, что такое зло. Не осуждая огульно всех психологов, надо сказать, что иногда подобный подход кажется похожим на устройство секты. Лидер секты считает себя вправе отменить этику – не говорим сейчас о православии, о религии, а имеем в виду просто человеческую базовую этику – и своим адептам он даёт другую этику. Сейчас мы видим, что происходит процесс отмены общечеловеческой этики. То есть некоторые психологические концепции берут на себя право отменять общечеловеческие нормы, которые человечество выковало в течение своей социальной жизни. Мы знаем, что не все нормы совпадают с вечными принципами, есть некоторые социальные нормы, от которых нужно бежать, но мы знаем также, что есть и некоторые принципы, являющиеся выражением фундаментальных законов, на основании которых развивается мироздание. Если человек идёт против этих принципов, он разрушается.
Писатель Нассим Талеб в своей книге «Анти-хрупкость»[88] указывал, что есть принципы, которые изначально существуют, просто они были сформулированы кем-то, но это не значит, что они этим кем-то выдуманы. Если человек соблюдает эти принципы, он выживает, становится способным развиваться. И то, что называется сейчас терапией, – опять же, не говоря огульно обо всех психологах, – попытка изменить отношение человека к каким-то базовым принципам бытия, оправдать то, чему нет оправдания. Конечно, при таких подходах человек, может быть, в какой-то степени успокоится, но такая форма успокоения является ложной, потому что она вводит его в изменённое состояние сознания. В отношении определённых событий человек успокаивается и начинает считать, например, совершённое убийство несущественным. В американском сериале «Последователи» (2013–2015), в котором лидер секты пропагандировал убийство, было показано, как к нему пришёл ветеран войны во Вьетнаме, на счету которого были убийства даже нескольких гражданских лиц. Лидер секты дал ему понять, дескать, не надо по этому поводу печалиться: тот, кто совершает убийство, находится на более высокой эволюционной ступени. И травматический опыт этого ветерана был включён в ложную, патологическую конструкцию, которая мотивировала его на дальнейшие убийства.
Таким образом, поднимая вопрос о преодолении травматического переживания, нужно ставить вопросы и об этической добросовестности специалистов, которые пытаются работать с травмой, потому что те, кто называет тебя специалистами, могут предлагать человеку техники блокировки воспоминаний, не задумываясь о том, что в дальнейшем будет делать этот человек. Ведь на войне человек не только столкнулся с травматическим опытом, но ещё и прошёл через определённую трансформацию мышления, то есть у него, возможно, сформировалась психология убийцы. То, что он расскажет о своём опыте, реконструирует его, ещё не значит, что человек будет способен исцелиться и вернуться в русло конструктивной жизни.
Даже Джудит Герман, помимо прочего, отмечает, что техники реконструкции и свидетельства могут человека избавить от симптомов гипервозбудимости и вторжения, но они не освобождают его от социальной изоляции. То есть человек, прошедший через определённую трансформацию мышления (наподобие той, через которую прошёл полковник Курц), становится оторванным от каких-то здоровых основ бытия. И сама по себе реконструкция не освобождает человека от этого поражения психики. Поэтому надо ставить вопрос ещё о том, могут ли современные психологи быть арбитрами в деле решения вопросов о травматическом опыте. То есть, пока есть такая тенденция, что психологи воспринимаются как новые жрецы, их слова часто не ставятся под сомнение. Более того – об этом также упоминает Джудит Герман – некоторые специалисты считают показателем отрицания человеком собственного травматического опыта, если человек ставит под сомнение слова психолога.