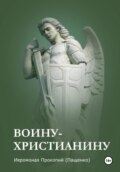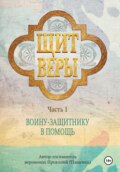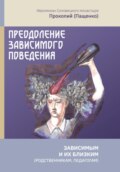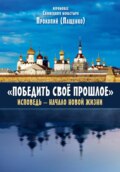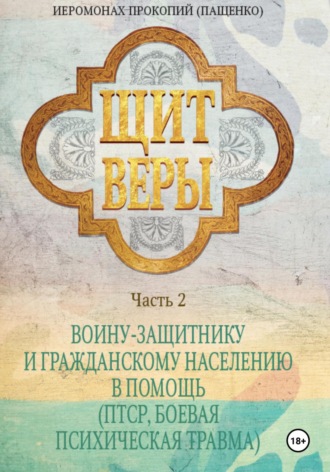
Иеромонах Прокопий (Пащенко)
Щит веры. Часть 2. Воину-защитнику и гражданскому населению в помощь (ПТСР, боевая психическая травма)
Ядро личности и опыт духовной жизни
Вывод, к которому мы приходим, следующий. Интеллектуальная деятельность может помочь человеку только тогда, когда она глубоко связана с ядром его личности. Это происходит, если он стремится постигнуть какую-то важную тему, чтобы сделать жизнь другого лучше. Иными словами, речь идёт о деятельности, глубоко связанной с евангельским мировоззрением. Если же наука механистическая и сопряжена только с процессом запоминания, она точно так же человека роботизирует. Исследовательская работа, которой занимались в лагерях, максимально приближала к возможности сохранения личности, потому что в ней всегда присутствовал элемент неопределённости, необходимости вести разработки, изучать, продвигаться вперёд.
Есть масса фильмов и романов-антиутопий, помимо нередко цитируемого романа Джорджа Оруэлла «1984». Такие современные фильмы, как «Обливион», «Эквилибриум», «Равные», «THX», иллюстрируют важную идею: чтобы сформировать условный рефлекс, необходимо в человеке подавить любую способность эмоционально реагировать на что бы то ни было. Например, обезличить отношения между мужчиной и женщиной, имеющими взаимный интерес. В практике концлагерей отношения между лицами противоположного пола были под запретом и карались расстрелом. Подобное, кстати, происходит и сейчас, только уже с помощью сетевых технологий. У мужчин и женщин настолько истощилась личная харизма, что уже не хватает сил на любовь. Огромное количество людей движется в эгоистическом ключе и в браке сходится по привычке, поэтому в некоторых областях мира до 90 % браков распадается. Многие люди близки к этому состоянию отчуждённости друг от друга.
В фильме «Обливион» (2013) поднимается и тема интеллектуальной деятельности, хотя сюжет его игровой. Память главного героя (в исполнении Тома Круза) была стёрта, чтобы предотвратить утечку важной информации, что привело к деформации его личности, которую мы как раз и обсуждаем. Его миссия – ремонт дронов, убивающих людей, но он пребывает в полной убеждённости, что они (дроны) – злые инопланетяне, мешающие жить. Реальные же хозяева (инопланетный разум) – его самые лучшие друзья. В какой-то момент повстанцы подбрасывают главному герою книгу стихов, которая пробуждает в нём живые струны. Герой Тома Круза, у которого ничего в жизни, кроме дронов и инструкции по их ремонту, не было, внезапно пробуждается от пелены забвения. Цепи выстроенного мира, который держит в темнице его разум, разрываются. Он вспоминает, как делал супруге предложение ещё тогда, когда этот мир не был разрушен, и у него впервые рождается личное решение, которое позволяет ему начать выходить из создавшихся обстоятельств.
Подобных описаний можно было бы привести огромное количество. Например, один исследователь из Германии представил свой доклад о Павле Флоренском[201]. В нём был дан глубокий анализ писем отца Павла, написанных из заключения. В этой же книге я хотел бы просто дать матрицу, глядя на которую, можно было бы понять стратегию интеллектуальной деятельности и другие стратегии и направить их в верное русло.
С точки зрения священника, ещё раз повторю выводы, к которым меня привело изучение травматического опыта людей. Главной задачей человека в экстремальных условиях заключения было вырваться из регламента, который навязывался извне. Долгое нахождение в жёстко стандартизированной обстановке порождало угасание личности. Это подтверждает, к примеру, фильм Оливера Стоуна «Полуночный экспресс» (1978), в котором человек попадает в турецкую тюрьму, где быстро происходит его слом. К жизни героя фильма пробудила фотография, полученная из дома и всколыхнувшая в нём воспоминания.
У человека, который не приобрёл духовного опыта, не выстроил иную вертикаль, который не задумывался над вопросами: «Кто я?», «Для чего живу?», «Куда движется моя жизнь?» – шансов выжить крайне мало. Мы знаем, что некоторые люди в условиях внешнего давления пытаются найти выход через социальное общение. Но если у человека не было культуры общения до травматического опыта, то и в лагере сложно найти плоскости соприкосновения с другими. Бруно Беттельхейм описывал, как заключённые начинали делиться друг с другом информацией о том, чем занимались до лагеря, но в результате быстро исчерпывали все темы. Им не о чем было говорить. Часто и в современном мире вся коммуникация сводится только к вопросам относительно работы. В экстремальных же ситуациях, где необходимо стимулировать своё сознание, такой человек проиграет. В условиях сильного стресса или в заключении мозг лишается тех суетных сторон жизни, которые его раньше питали. Починить стиральную машину, отвезти ребёнка в детский сад, заплатить за газ, купить подарок на день рождения – всё это отпадает. Остаётся только анализ внешней ситуации: замки, запоры, угроза расстрела или фиксация на внутреннем страхе.
Если же на каком-то глубоком уровне у человека укоренена другая реальность, которая не имеет отношения к этой жёсткой действительности, – счастливое детство, глубокое понимание истории, проникновение в культуру Церкви, христианское мировоззрение – она позволяет выжить даже в самых тяжёлых условиях. В качестве примера можно привести три книги уже упомянутых выше путешественников. человек думает только о плохом, то это разрушает организм). Чтобы создать научную теорию выживания, Ален Бомбар пустился в 65-дневное плавание. Когда он оказался в открытом океане, то чуть не сошёл с ума, раздавленный состоянием полного одиночества.
Второй похожий опыт пережил эзотерик, практик йоги Стивен Каллахэн, который испытал такое состояние ужаса, что даже забросил свои занятия йогой. Ему казалось, что из морских глубин к его лодке тянутся могильные руки: «Призраки протягивают из темноты свои мёртвые руки и тащат меня вниз. Я падаю. Мой час пробил». Семьдесят шесть суток он пробыл в океане. «Я всё глубже погружаюсь в пучину беспредельного ужаса… Если бы мне нужно было отыскать в своём воображении самые ужасные видения, чтобы нарисовать картину ада, я выбрал бы то, что пережил в эти дни».
Священник Фёдор Конюхов провёл в Тихом океане сто шестьдесят суток. Его опыт описан в книге «Сила веры». Он грёб на вёслах с Иисусовой молитвой, вспоминая Ноя, который «в своём ковчеге носился по водам», а звук уключины напоминал ему звук церковного кадила. По-научному, можно сказать, что у него включалась вторая сигнальная система, и благодаря такой ассоциативной работе сознания не возникало жёсткой рефлекторной привязки к внешним раздражителям. У Конюхова были тяжёлые периоды, но он достаточно безболезненно их пережил[202].
Ещё можно сказать о том, что если у человека сохранялась достаточно сильная связь с его семьёй, то им было крайне трудно манипулировать, потому что в его сознании постоянно жила мысль о спасении близких, и таким образом он выходил из контролируемого русла, в которое его пытались загнать манипуляторы. Все современные американские поведенческие теории (например, разработанные Скиннером) рассматривают человека как животное с определённым набором стимулов и реакций. Забота же о другом развивает, наполняет сознание стремлением к деятельным переменам, призывает хранить жизнь, служит опорой для шага в будущее. Однако уровень стресса иногда бывал настолько сильным, что некоторые отказывались даже от связей с близкими, так как каждое новое письмо от родных могло вызвать новое страдание. Нужно было иметь огромное мужество, чтобы жить с открытыми глазами. Главным было не уходить в грёзы, а трезво осознавать, что с тобой происходит, даже если это что-то страшное. Как только закроешь глаза, потеряешь шансы выжить.
Хранение благодати. Истинная опора
Каким образом описанная стратегия связана с приобщением к благодати? Когда через Таинства человек обретает связь со Христом, в нём зажигается какой-то огонёк, и любой поступок против совести способен его погасить, а без него биологическое выживание теряет всякий смысл. Размышляя над тем, как не погасить этот огонёк, как помочь ему разгореться, человек начинает формировать определённую стратегию поведения. Критически важным является то, что эти размышления и эта стратегия не навязаны ему извне, а являются плодом личных усилий. В хорошем смысле этого слова мозг человека «24 часа в сутки» находится под воздействием стимулирующих и развивающих его сигналов. Реализация деятельности по сохранению огонька предполагает наличие умения давать оценку увиденному, услышанному, прочувствованному (не в смысле осуждения, а в смысле понимания, что является разрушительным, а что нет). Существенно важным является то, что эти оценки не продиктованы извне[203].
Со временем у человека складывается система убеждений, существующих не в отрыве от реальности, а глубоко связанных с поступками. И хотя система не оторвана от реальности, в то же время она не является продиктованной внешним регламентом. Она помогает вчувствоваться в социальную обстановку, но не определяется этой обстановкой. Таким человеком невозможно управлять. Если вбросить в него ложную идею, он рано или поздно вычленит её из мыслепотока и отсечёт её от себя[204].
Люди, не пережившие подобное внутреннее перерождение, живут поверхностной жизнью, не понимая важности этого внутреннего света. Так, проходя через опыт обретения и потери, человек всё больше понимает важность сохранения этой неугасимой внутренней лампады, образ которой имеет в упомянутой выше книге Б. Ширяева ключевое значение.
Однажды на моих глазах в больнице оптимистично настроенный и физически крепкий человек, смеявшийся над разговорами о духовном, разразился внезапной истерикой перед предстоявшей вовсе несложной операцией. Даже физически развитые мужчины, солдаты «без страха и упрёка», в экстренной ситуации, угрожающей жизни, могут быть полностью деморализованы.
Человек, оказавшись в экстремальных условиях, пытается сохранить жизнь в системе регламента, который навязывает своё: хочешь выжить – делай это! Так постепенно его сознание начинает угасать. Но представьте, что у него есть маленький ребёнок, которого нужно кормить двадцать четыре часа в сутки. Так и внутренней огонёк необходимо постоянно поддерживать, что позволит находиться в иной системе координат, недоступной для манипулятора. Тогда и наука может этому способствовать.
Мы как христиане понимаем, что каждый наш шаг связан с вечностью. В рамках земной жизни мы формируем то состояние, которое заберём с собой в вечную жизнь. Человек, который об этом помнит, приобретает самое главное качество для выживания: опору в будущем. Об этом В. Франкл писал так: «Каждая моя попытка духовно восстановить, „выпрямить“ своих товарищей по несчастью снова и снова убеждала меня, что это возможно сделать, лишь ориентировав человека на какую-то цель в будущем. Деформация характера заключённого в концлагере зависела в конечном итоге от его внутренней установки. Лагерная обстановка влияла на изменения характера лишь у того заключённого, кто опускался духовно и в чисто человеческом плане. А опускался тот, у кого уже не оставалось больше никакой внутренней опоры. В чём могла и должна была заключаться такая опора? Нужно было снова обратить человека к будущему, к какой-то значимой для него цели»[205].
Хирург Пирогов также затрагивал тему земного призвания и призвания в вечности. Он писал: «Стремление привести к одному знаменателю две стихии (стремление исполнить земное назначение и стремление к чему-то чистому, светлому, к тому, что находится за пределами земных наслаждений) – есть цель здешней жизни, наше прямое назначение на земле»[206].
Значит, наша задача – эти две плоскости сопоставить и уравновесить. И то (вечное) не потерять, и это (деятельность) реализовать. Например, учёный, слишком занятый наукой, постепенно теряет связь с детьми, супругой, перестаёт молиться и в результате чувствует утрату. Целостное мировоззрение позволяет человеку выработать свою стратегию поведения, недоступную для манипуляторов.
Если у человека не появляется опоры на нечто большее, то эксперименты с сознанием его только измотают, но так ни к чему и не приведут. Это было хорошо показано на примере общины в Милбруке, которую организовали приверженцы различных эзотерических учений. Психолог и наркоактивист Тимоти Лири, который исследовал ЛСД и пропагандировал психоделики, стал одним из лидеров «психоделической революции» и ЛСД-гуру в разгар движения хиппи. Община правильно поняла, что мы «порабощены» моделями (социальными, рабочими), которые необходимо прорвать.
Учение академика Ухтомского «о любви» как раз и даёт методологическую базу для разрыва подобных конструкций. Через любовь мы получаем способность понять ближнего вне зависимости от шаблонов. Но община в Милбруке пыталась расширить границы человеческого сознания некими искусственными практиками. На каком-то этапе это может вносить в жизнь новую струю и вырывает из внешней унылой обстановки, но в дальнейшем формируются метамодели, которые разрывают связь с реальностью, окончательно запутывают и приводят к регрессии.
Ни интеллектуальная деятельность сама по себе, ни наука не способны дать человеку истинной опоры. Неправильно воспринятая деятельность, а также излишнее погружение в неё могут послужить во вред, привести к потере личных качеств, к уходу в грёзы. Интеллектуальная деятельность может способствовать выживанию даже в условиях запредельного стресса только в том случае, если она глубоко связана с центром человеческой личности, а также если в человеке живы совесть, любовь и вера.
Приложения

Приложение 1
Детскому реабилитологу, желающему помогать раненым воинам (физически и морально)
Ты говоришь, что хочешь каким-то образом помогать воинам, вернувшимся с фронта, но переживаешь, что твоя специализация ориентирована на детей с ограниченными возможностями. Хотя ты изучаешь нейробиологию, но ты не работала со взрослыми.
Если понимать саму идею, то можно найти применение себе: понять, как правильно помочь людям, найти, к какому звену в этой цепочке можно примкнуть. Важно потихоньку выстраивать с человеком новую доминанту. На первых порах будет уместно просто делиться примерами и немного рационализировать опыт. Что их объединяет, какие у них были принципы, как их можно переложить на конкретного военнослужащего. И так помогать ему строить дополнительный этаж личности, на основе которого он сможет перестроить своё восприятие травматического опыта. Человек, у которого проявляются ценности культуры, мировоззрения, веры, сам выходит в посттравматический рост.
Важно объяснить человеку, что, хотя нежелательные поступки и были в его жизни, всегда есть покаяние. Если сложилось так, что его оружие пресекло чью-то жизнь, он может молиться за убитого. Если так сложилось, что зло нужно остановить, значит, его нужно остановить, но человек не должен при этом становиться зверем.
Приведу в пример уже упомянутый в нашей книге автобиографический роман Эрика Ломакса «Возмездие». Во Вторую мировую войну он был в плену: японцы нашли у него радио и зарисовку железной дороги и, думая, что он участник шпионской сети, пытали его. Они не внимали его объяснениям, что радио работает только на приём, а не на передачу данных; во время допросов он сжимался в комок. Как можно понять из его записей, когда уже дома супруга обращалась к нему с бытовыми вопросами, у него включался комплекс переживаний, сформированных во время плена. То упорство, которое выработалось в нём во время допросов, включалось и в тех ситуациях, когда нужно было прислушаться к супруге, к собеседнику.
Он говорил, что ему помогла только одна женщина, причём помогла не в силу своих профессиональных достижений – она сама пережила кризисные дни и работала на линии помощи людям, пережившим плен. Благодаря ей он увидел, что его история не тонет среди прочих. Когда работает профессионал, у человека может возникнуть ощущение, что он просто некая статистическая единица, точка приложения различных технологий, деталь в конвейерном процессе. А тут он впервые встретил человеческое отношение, сопереживание, и ему хотя бы отчасти стало легче.
Он вспоминал японца, который был переводчиком во время допросов, его голос всё время звучал в его голове. Тут он узнаёт, что этот японец жив, и едет его убивать (в те годы система безопасности в аэропортах ещё не приобрела современный вид – были случаи провоза оружия). Но этот японец оказался готовым смиренно принять смерть, потому что осознал, что его участие в той войне было ошибкой. В качестве некоего искупления он решил быть экскурсоводом в тюрьме, где японцы содержали военнопленных и способствовать тому, чтобы этот ужас больше не повторился. Когда Эрик Ломакс хотел его убить, японец был готов встретить смерть, и это смирение тронуло Эрика настолько, что он изменил своё решение. Что интересно: камень, который лежал у него на душе тридцать лет, в одно мгновение свалился. Он подружился с японцем, они стали переписываться. На могиле Эрика Ломакса сделана надпись: «Ненависть не может быть вечной».
Эти примеры хорошо бы показывать и с духовной стороны, которую можно стараться объяснять современным рациональным языком. Это не значит идти протестантским путём, где пытаются догматы вывести из математики. Нужно показать, что евангельский подход действительно работает в жизни. Евангельские принципы подтверждаются конкретными историями. Очень много примеров людей, прошедших войну, которые или преодолели ПТСР, или у них вовсе не было ПТСР.
К вопросу о том, что ты не специалист. Известная психиатр Джудит Герман в своей книге «Травма и исцеление» говорит, что ни месть, ни прощение не освобождают от травмы. Надо сказать, что она заявляет, что пишет книгу с феминистических позиций, а это ставит её в сомнительное положение, потому что как учёный она встаёт на почву идеологии и уже в угоду этой идеологии интерпретирует те или иные факты. Хотя в книге она упоминает о вере и религии, но складывается впечатление, что она, если не с презрением, то нейтрально относится к вере. Она говорит о религии, когда ведёт речь о верующих людях.
Для неё прощение – вариант компенсации. Если человек был травмирован, был объектом насилия со стороны кого-то, то этот человек в акте прощения пытается вывести себя из позиции жертвы в позицию субъектности: он решает простить и в этом проявляет свою свободную власть. В этом Джудит Герман видит компенсацию.
Но мы видим, что реальная жизнь показывает: прощение освобождает человека от чувства вины. Конечно, здесь идёт речь о военнослужащем, который вынужден остановить зло. Упомянём ещё раз книгу «Путь Архистратига» священника Димитрия Василенкова, у которого было около сорока командировок в горячие точки, в том числе на Северный Кавказ. Эта книга написана в соавторстве с протодиаконом Владимиром Василиком. Отец Димитрий говорит: чтобы сохранить своё психическое здоровье, воин должен даже молиться за тех, чья жизнь пресеклась вследствие использования им оружия. У истории нет сослагательного наклонения – мы не можем сказать, что было бы, если бы… Но когда воин совершает убийство (даже в ситуации необходимости), если он не уходит в конструктив, то уходит в регрессию. Человек пытается преодолеть переживание, рождающееся после совершения убийства, тем, что становится более циничным, тем, что снижается порог его восприятия. В книге «Путь Архистратига» говорится, что воин-христианин может преодолеть стресс: да, нужно браться за оружие и убивать, но можно воевать без личной ненависти. Если сложилось так, что твоё оружие пресекло чью-то жизнь, ты можешь молиться за этого человека. Может быть, он действительно был обманут или впал в заблуждение.
Один военнослужащий рассказывал про женщинуснайпера из Архангельска. Когда она ходила в храм, то ставила много свечей. Люди думали: неужели у неё столько близких погибло в годы войны? Оказывается, это не её близкие погибли – это стольких немцев она застрелила. Можно предположить, что у неё не было ПТСР, потому что она сохранила в себе человеческое, не скатилась в зверство. Скажем ещё раз: если так сложилось, что нужно остановить зло, значит, это необходимо сделать, но ты не должен при этом становиться зверем.
Можно рассказывать подобные примеры. Образование, изучение нейробиологии, дефектологии, твои занятия с детьми – всё это даёт понимание физиологии.
Теория доминанты Ухтомского помогает объяснить идею возникновения ПТСР и идею его преодоления[207].
Недавно я общался с офицером элитного подразделения ГРУ. После Чечни их реабилитацией серьёзно занимались. Логика здесь понятна: человека готовили много лет, вложили в него уйму денег (школа ВДВ, спец. курсы), и, если он станет инвалидом, деньги пропали. Значит, надо как-то таких людей вытаскивать. Но эти люди – срочники, контрактники – оказались в жёстком положении. Даже было негласное правило – не брать их на работу. А ведь они служили Родине. Но из-за того, что у них «ехала крыша», они приходили в неадекватное состояние.
На эту тему сложно найти дельную литературу; часто чередуются правильные мысли с чем-то не очень понятным. Один священнослужитель организовал онлайн-встречу, на которую пригласил специалиста, оказывавшего психологическую помощь воинам во время масштабных боевых действий на Северном Кавказе. Нельзя сказать, что его выступление произвело сильное впечатление. Было такое ощущение, что всё строится на дебрифинге, который сейчас пропагандируют: нужно распаковать свою травму, рассказать, от чего тебе было больно, – и всё. Но если просто вскрыть гнойник, воспалённые ткани не вылечатся. Может быть, человек не покончит с собой прямо сейчас. А что случится через пять лет? Это некая беспомощность: дебрифинг не предполагает выстраивание картины мира.
Патологическая доминанта может быть перестроена, если есть более сильная доминанта, очаг возбуждения, например, любовь. Если у человека после травмы восстанавливаются социальные контакты, если его увлекает какое-то дело, появляется культурный пласт, то он может разорвать связи с системой условных рефлексов, с ПТСР. Если развита вторая сигнальная система на основе веры, культуры, молитвы, то человек может сопротивляться.
Сейчас человека делают пожизненно зависимым от специалиста. А вот, например, отец Сергий (Сребрянский), участник русско-японской войны, в своих воспоминаниях не описывал ничего близкого к ПТСР. Причём он не ставил задачу, проведя два года на войне, написать бодрые идеологические опусы, он просто писал свой дневник. Он писал, что солдаты вечером молились, все причащались. Все они были весёлые, и, хотя на той войне были невероятные трудности, между ними было чувство товарищества. Даже когда люди умирали, это не воспринималось как трагедия. Если отцу Сергию удавалось причастить смертельно раненного человека, тот, причащаясь, говорил, что рад умирать, выполнив свой долг.
Вследствие того, что у людей того времени была некая надстройка, которую мы воспринимаем как культуру, веру и прочее, они смогли переосмыслить травматический сигнал, увидеть в нём нечто такое, что делало его менее значимым по сравнению с тем бо́льшим, что у них есть. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас (Рим. 8, 18).
У современного поколения нет этой надстройки, нет морального багажа, который помог бы травматический сигнал переосмыслить. Люди, выросшие на интернете, сидевшие в кафе, вдруг заброшены в адское пекло и – абсолютно к этому не готовы.
Один военнослужащий рассказывал, что он даже не умеет стрелять: оказывается, что они стреляли из пистолета раз в месяц. Они должны были изучать рукопашный бой, и если называть вещи своими именами, то можно сказать, должны были стать профессиональными убийцами. Но у многих людей в армии было всё по-другому: красили, мыли, драили, кто-то их ещё при этом избивал… И невозможно было ничего сказать, позиция начальства была такова: если у тебя в части беспорядки, значит, ты плохой командир, не сумел справиться. Сейчас эти люди брошены в горячие точки. Попадая в госпиталь, они отворачиваются к стене, не разговаривают…
В вышеупомянутом выступлении специалиста (на онлайн-встрече) удивило, что он воспринимает процесс реабилитации исключительно как профессиональную помощь. Хотя человек, у которого проявляются ценности культуры, мировоззрения, веры, сам выходит в посттравматический рост. А здесь человек становится пожизненным пациентом. Он просто проговаривает свои травмы или что-то подобное.
Академик Ухтомский показывает, что такой подход ничего не решает. Человек просто воспроизводит старую травматическую доминанту, но каждое воспроизведение углубляет её в нейронных центрах. Её можно перестроить, только внеся новые смыслы. Вспомним, как Виктору Франклу один человек рассказывал, что он скорбит по умершей жене. Франкл сказал ему: «Представьте, если бы вы умерли первым», на что человек поблагодарил доктора – он представил, как бы страдала его жена. Но здесь человек это понял, потому что у Виктора Франкла был травматический опыт.
Но вот другой случай, когда студентка дала подобный совет взрослому мужчине. Она только что закончила обучение и под контролем педагогов принимала своего первого пациента – мужчину, потерявшего жену. Она обрадовалась – она знает ответ, она читала Виктора Франкла. Но мужчина вознегодовал: что она себе позволяет? Был скандал. Эта студентка не прошла школу Виктора Франкла и, может быть, даже не имела морального права давать пациенту такой совет.
Виктор Франкл перестроил доминанту того человека, внеся в неё новый смысл. Но внесение смысла теперь как будто под запретом, теперь главенствует концепция, согласно которой нельзя давать никаких советов и рекомендаций, потому что терапевт только выявляет вопросы. А ответы должны быть у пациента внутри. Но ответы внутри есть тогда, когда человек живёт в здоровой, культурной среде. В детстве у него было образование, любовь, дружба, спорт – всё здоровое и хорошее, что можно предположить. А потом обрушилась война, всё это обесценилось, человек стал циничным. Да, здесь логично вспомнить, что для него было ценно раньше.
Вспомним ещё раз книгу Ишмаэля Биха «Завтра я иду убивать. Воспоминания мальчика-солдата». У него был положительный опыт довоенной жизни. И хотя в книге его исцеление приписывается реабилитационному центру (а там был принцип «Ты ни в чём не виноват»), но из повествования понятно, что дело не в реабилитации, а в том, что был воскрешён довоенный опыт: он вспоминал, как писал музыку, вспомнил родителей, которые его очень любили.
А если человек жил в деревне, пил, а потом попал на войну? У него и не было никаких ценностей. Как говорил игумен Анатолий (Берестов), есть люди, у которых произошло обесценивание, а есть те, у кого ценностей изначально нет: они выросли в такой среде, где ценности даже не упоминались. У такого человека есть только обида на власти, на генералов, желание покончить собой. Какой смысл говорить ему, чтобы он заглянул в своё сердце? Его сердце говорит: «Убей всех остальных».
То, что должно быть возрастанием человека, превращается в некую технологию, на которую откликаются люди. К тому же по специфике дела трудно проверить, вызывают ли слова специалистов значимый резонанс в жизни людей.
Лариса Пыжьянова, специалист МЧС, при падении самолёта приезжает на место, разговаривает с людьми, работает с родственниками погибших, помогает им пережить трагедию. И она говорит, что травма может быть воспроизведена, когда человек сталкивается с похожими обстоятельствами. Поэтому специалисты её уровня стараются повторно не встречаться с родственниками погибших, чтобы через эту встречу люди не вспомнили снова те обстоятельства. Но если нет последующей беседы, значит, обратная связь затруднена. Трудно выяснить, остался ли разговор в памяти, сыграл ли он значимую роль в жизни.
Женщине-специалисту был задан вопрос об арт-терапии. Она ответила следующее: есть техники вывода человека из боевой психической травмы, а арт-терапия – это не техника, человек может как-то выразить через неё свою травму, но это другое. Здесь виден некий технологический подход. Если воспринимать арт-терапию только как технику, то, конечно, она не поможет. Когда мама обнимает ребёнка, – это что? Сигнал матери ребёнку – «не бойся, я с тобой» – или тактильная техника, когда через прикосновения мать возбуждает определённые рецепторы у ребёнка?
Один философ приводил пример. На горке катается ребёнок. Глазами простого человека мы видим ребёнка, мы видим, как он радуется. Но сейчас в моде постмодернистский взгляд, технологическое мышление. Люди с таким «технарским» мышлением, считающие себя современной элитой, знающие, как строить правильную реальность, несколько психопатизированы. Для них не существует человеческих эмоций. Когда такой человек смотрит на эту картину, он видит не ребёнка – он видит, как кусок мяса весом 35 кг едет с горки под таким-то углом с такой-то скоростью. Здесь нет человеческого тепла, такой человек может оценивать всё лишь через технические параметры.
Одного известного художника, чьи открытки очень ценились в СССР (на них изображены счастливые зверята, конфеты, новогодние подарки), в детстве угнали в концлагерь, над ним издевались. Казалось бы, он должен был травмироваться. Но после войны он стал заниматься творчеством. И для него творчество было не техникой, а возможностью делать мир добрее. Это не эгоистическое самовыражение. Сейчас мода: все самовыражаются, «Я» на первом месте. Но подлинное творчество – это не самовыражение, это некое сообщение художника зрителям. А сейчас плевать на зрителя, главное «Я», главное показать миру, какой я «гений», и неважно, кто что обо мне думает.
Мы упоминали уже документальный фильм «Призраки», в котором показано, как события развивались до СВО: добровольцы из Луганской области защищали свои территории, свой язык, традиции, мир. Ситуация тяжёлая, потому что добровольцы постоянно воюют, хотя по правилам бойца нужно выводить из военных действий после истечения определённого времени, чтобы он мог «перезагрузиться». Но там людей заменить некому, потому что война даже не объявлена. На время съёмок они уже пять лет были на линии соприкосновения безвылазно. А сейчас, когда пишутся эти строки, соответственно, все восемь. В фильме видно, насколько у добровольцев высокие моральные и этические принципы. Один из них, командир с позывным Негр, говорит, что раньше не понимал, зачем их вытягивают на концерты, где ребята и девушки из Луганской области читают стихи, поют песни. Ведь всегда есть неотложные дела: копать траншеи, делать укрытия. А потом понял: чтобы не зафиксироваться в войне.