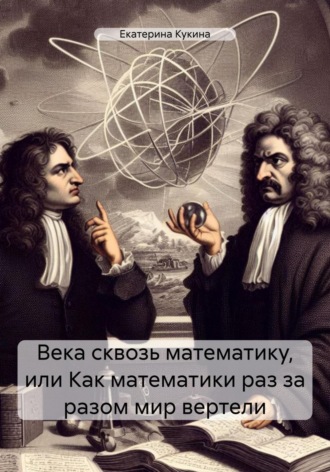
Екатерина Кукина
Века сквозь математику, или Как математики раз за разом мир вертели
11.1
Предпосылки
математического «взрыва» XVII века.
Историки очень любят выделять предпосылки разных исторических явлений, чтобы понять, "как же мы/они дошли до жизни такой"? Так вот, как и у любого процесса в истории, у математического взрыва тоже были свои предпосылки, которые делятся на три большие группы.
И первые предпосылки – внутриматематические. Главные достижения средневековой математики, как мы видели, в какой-то алгебре/арифметике (в отличие от античной математики, когда развивалась в основном геометрия). Решалось много задач прикладного характера (из торговли, астрономии, архитектуры). Во многом, задачи были особенно сложны тем, что отсутствовал четкий механизм математических обозначений. Все пересказывалось словами, без формул! Вот попробуйте сами перечитать главу 10.1 про кубические уравнения – только представьте, что она без формул, а все пересказано словами. По возможности я стараюсь избегать в этой книге изобилия формул и прочих математических значков, стараясь все рассказать нормальным человеческим языком24 – но в некоторые моменты у меня просто не получается! И с формулами повествование выглядит намного понятнее даже человеку далекому от математики!
Так вот, в конце XVI века появляются математические обозначения!
А кто молодец? Виет молодец! Франсуа Виет в своих математических работах второй половины 16 века придумывает математические обозначения. Они еще не совсем такие, как современные – но почти, и они несомненно гигантский шаг вперед, и гигантское облегчение жизни всех математиков.
Итак, в течении долгого-долгого Средневековья, математика накапливает много разрозненных фактов. Однако же, она настолько трудна (и эти трудности в основном технические) – что синергия не наступает, из отдельных фактов не сплетается полотно математической науки. А с обозначениями Виета – да! Теперь все готово к созданию новых математических наук: теории чисел, аналитической геометрии (науки, которая и состоит в том, чтобы геометрические картинки перевести на "алгебраический" язык), математического анализа (в котором и так-то черт ногу сломит, а без обозначений вообще продвинуться никуда было нельзя) и так далее.

Рисунок 11.3: Франсуа Виет, 1540–1603 гг.
Вторая часть предпосылок – естественнонаучные.
XVII век называют не только веком "математического взрыва", но и "эпохой научных революций", имея в виду огромный прорыв в естествознании, особенно в физике и астрономии, причем прорыв этот начался даже раньше математического, во второй половине предыдущего, шестнадцатого, века.
Например, к концу XVI века относится формулировка Кеплером его законов астрономии.
Вообще, Кеплер был в чем-то похож на Кардано. Верил в свои супер-силы, верил во многое сверхъестественное или антинаучное. Или придумывал безумные теории (и был стопроцентно в них убежден!).

Рисунок 11.4: Кубок Кеплера.
Например, в те времена хотя и не были вычислены орбиты планет, но было вычислено, во сколько раз одна планета дальше от Солнца, чем другая. И вот, Кеплер, зная, что существует ровно 5 платоновых тел и ровно 6 планет25, анализируя числа, заметил интересное. Что некоторые числа относятся друг к другу примерно как в некотором порядке рассмотренные платоновы тела. И придумал, что Солнечная система устроена так. Берем сферу описываем около нее октаэдр. Вокруг этого октаэдра (а каждое платоново тело одновременно и вписано в сферу и описано вокруг сферы) описываем сферу. Вокруг второй сферы описываем икосаэдр. Вокруг него снова сферу. Потом додекаэдр, потом тетраэдр, потом куб. Пять платоновых тел, 6 сфер. Самые интересные многогранники внутри, самые простые снаружи. Так вот, если всю эту конструкцию через общий центр разрезать плоскостью – то радиусы полученных кругов относятся примерно (с большой неточностью, но примерно) так, как дают наблюдения за планетами. Т.е. можно предположить, что Солнечная система устроена как-то так. Очень математически. Такая конструкция называется "Кубок Кеплера" (см.рис.11.4). Кубок Кеплера в итоге оказался неправильной идеей (хоть и красивой).
Поэтому лучше вернемся к законам Кеплера. Эти законы можно сформулировать человеческими словами, но точнее будет сделать это на языке чисел, на языке математики.
/*Три закона Кеплера, если кто забыл, таковы:
Каждая планета Солнечной системы движется по эллипсу, водном из фокусов которого находится Солнце.
Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца. За равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, заметает равные площади.
Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся друг к другу как кубы больших полуосей орбит планет. */
/*Кеплер свои законы не доказал, только сформулировал. А доказал их позже Ньютон, выводя их как следствие из открытого им Закона Всемирного Тяготения. */
Древним грекам и в голову не могло бы прийти, что величественная планета движется не по идеальной фигуре (по окружности), а по какому-то жалкому эллипсу (эллипс, кстати, в переводе с греческого вообще обозначает "недостаток"). Но Кеплер показал, что его законы подтверждаются эмпирически. И эмпирически лучше подходят, чем более красивые идеально круглые орбиты.
Именно с Кеплера стало повсеместно понятно, что сформулированные физические законы не должны удовлетворять какой-то абстрактной красоте или идеальности – а должны подтверждаться эмпирически.

/*
Ой, а еще, а еще про Кеплера есть забавный факт. Одна из последних его научных математических работ называется "Геометрия винных бочек", где он исследует идеальную форму, собственно, винных бочек. И ищет объем вот таких вот странных бочко-образных конструкций (в зависимости от радиусов и высоты). Напоминаю, что в те времена интегрировать-то еще не умели. И потому работа была, конечно, блестящая. Это сейчас бы мы просто с помощью интеграла быстренько как упражнение для первокурсников посчитали объем тела вращения. А тогда все было ой как непросто! Нескучные у Кеплера были идеи! И не настолько дурацкие, как в абзаце про кубок Кеплера.
*/
Но еще лучше для иллюстрации "естественнонаучной предпосылки" подходят работы Галилео Галилея. Галилей и Кеплер, кстати, были современники, примерно ровесники, много общались на научные темы.
Первая из знаменитых задач Галилея: какую траекторию опишет тело, брошенное под углом к горизонту. Именно он обосновал, что это будет парабола (а дальше переоткрыл факт о том, что максимальная дальность стрельбы достигается под углом  к горизонтали, исходя из параметров параболы и строго математически). Именно Галилей первым обнаружил, что парабола – не просто математическая кривая (как сечение конуса ее уже изучали древние греки и позже арабские математики), но что парабола постоянно встречается в природе! Значение этого открытия Галилея то же, что и у Кеплера: природа говорит на языке математики!
к горизонтали, исходя из параметров параболы и строго математически). Именно Галилей первым обнаружил, что парабола – не просто математическая кривая (как сечение конуса ее уже изучали древние греки и позже арабские математики), но что парабола постоянно встречается в природе! Значение этого открытия Галилея то же, что и у Кеплера: природа говорит на языке математики!
Галилей описал и рассчитал движение маятника (позже Гюйгенс с помощью этой теории придумал маятниковые часы). Галилей изучал свободное падение тел. И в частности доказал, что тела разного веса и разной плотности в одной среде падают с одной и той же скоростью. То есть скорость падения не зависит от веса тела (как считалось до этого). /*По этому поводу даже есть известный анекдот, что для этого он с пизанской башни сбрасывал пушечные ядра.*/

А в математике известен парадокс Галилея: натуральных чисел столько же, сколько полных квадратов, хотя большинство натуральных чисел полными квадратами не является
Короче говоря. К концу XVI века был очень высок престиж естественных наук и важности научных исследований. Да. А Галилей и Кеплер (и другие тоже) убедили весь мир в том, что "Природа говорит на языке математики". И уже потому математику изучать надобно.
Третья группа предпосылок, как ни странно, религиозные.
Математика XVII века отличается от математики более ранних эпох тем, что в это время в математике начали появляться не просто теоремы, а целые теории. Аналитическая геометрия, анализ бесконечно малых, теория вероятностей, математическая логика. Почему-то развитие математики до сих пор этого не подразумевало. Никакие практические задачи не требовали от математиков большего, чем создание единичных теорем или методов. Но тут что-то произошло. Что же?
Пьер Шоню [41], Альфред Уайтхед [54], Бертран Рассел [53], да и большинство других философов и историков науки, которые задумывались над этим вопросом, связывают развитие математических теорий в XVII века с кризисом религии, в котором на тот момент пребывала Европа. Математики XVII века все – люди глубоко верующие. Но в связи с расколом церкви они утратили точку опоры, и попытались обратиться к такой области знания, которая их не подведет. Которая содержит настолько четкие критерии истинности, что неверной или зыбкой быть не может. Математика если не спасает мир от падения в тартарары, то по крайней мере, дает устойчивую опору в то время, когда он туда-таки катится. Математики-создатели великих теорий пытались не просто ответить на какой-либо частный практический или умозрительный вопрос (как обычно бывало раньше), но пытались в своих работах объяснить вообще, как устроен мир. Именно поэтому среди них так много философов.
Размышляя о математике, мы очень скоро приходим к мысли, что математика – мир идеальный. Мир идей, а не вещей. Математика оперирует понятиями, недоступными эмпирическому восприятию. Нельзя потрогать бесконечную идеально прямую линию. Нельзя понюхать число 2. Есть две руки, две ноги, двойка, написанная на листе бумаги. Но числа 2 – нет. Бесконечно малые? Что это вообще такое, где это встречается в природе? Нигде. Не зря, пытаясь рассуждать о бесконечно малых, древние греки не получали математический анализ, получали лишь парадоксы и "апории". Никаких бесконечно-малых в эмпирической реальности не бывает! А в математике – бывает. Но ведь Бог, о котором рассуждает религия, точно также не присутствует в эмпирическом мире. И вместе с тем, глубоко верующий человек может увидеть бога в делах добрых и справедливых, и дьявола в бедах и горестях. (Точно также как математик может увидеть число 2 за двумя носками, двумя перчатками или целующейся на берегу парочкой.) Без такой платоновской веры в первичность идеи над материей не работает ни математика, ни религия.
В 1517 году в немецком городке Витенберге монах Мартин Лютер прибил к дверям замковой церкви свой знаменитый список из 95 тезисов.28 И началась Великая Реформация, расколовшая христианскую церковь на католическую и протестантскую (лютеранскую). На протяжении всего XVI века популярность учения Лютера растет. Вскоре, учение распространяется в половине Европы. Германские государства, Швейцария, Англия, Голландия, некоторые регионы Франции, Швеция – позже это приводит к жесточайшим религиозным войнам. К 1570 году примерно половина населения Европы стали протестантами.
Только через 30 лет после начала Реформации, католическая церковь разрабатывает систему мер, пресекающую отток верующих от католицизма к протестантизму. По современным меркам, сказали бы, что католическая церковь разработала маркетинговую стратегию. Нас в ней больше всего интересует пункт про образование. Церковь призвала монахов заняться образованием и просвещением. Мы уже обсуждали в главе 9, что именно монахи29 были самой образованной частью населения. Да и большинство сохранившихся книг, как античных так и новых текстов, хранилось именно в монастырях. Но ранее монахи не слишком-то рвались делиться своими знаниями. Иногда проводили научные изыскания. Редко преподавали в университетах. Но большую часть времени – проводили взаперти в монастырях и молитвах. Но к началу XVII столетия появляется новый тип человека религиозного: монах, характерный своими активными действиями. Попытками воздействовать на культуру и общество. Тут можно вспомнить, например, духовника кардинала Ришелье, монаха-капуцина отца Жозефа, вошедшего в историю под прозвищем "Серый кардинал" (что впоследствии стало нарицательным понятием), который очень активно участвовал в политических делах Франции, оставаясь монахом.
А нас сейчас интересует не менее знаковый человек в истории (а для математики так и более), и тоже монах – Марен Мерсенн. Образ затворника-монаха, проводящего все свои дни в молитвах и за изучением Библии, не подходит Мерсенну совсем! Монах Мерсенн (действительно, почти не покидающий стены своего монастыря Пале Рояль в Париже) становится одним из самых известных людей своего времени! Позже историки назовут его "генеральным секретарем ученой Европы". Мерсенн сам занимался науками, но высот не достиг, однако же он организовал общение всех ученых. Как сказали бы сейчас, он организовал научный  семинар.
семинар.
Рисунок 11.5: Марен Мерсенн (1588-1648).
Во-первых, если кто-то из ученых приезжал в Париж – он приходил к Мерсенну. Послушать научные доклады других ученых, и обязательно доложить о своих! Во-вторых, если ученые хотели обсудить какой-либо вопрос с кем-то, занимающимся исследованиями в той же области, можно было написать письмо Мерсенну, и он находил адресата, и пересылал письмо куда надо. В-третьих, если какой-то уважающий себя ученый делал открытие, он посылал подробное описание открытия (как сейчас бы сказали: "оформлял научную статью") Мерсенну. Мерсенн эту статью размножал и рассылал всем ученым, которые занимались изысканиями в той же области. Научный журнал, когда еще журналов не было )))
Именно из научного семинара (первого в истории науки!), проходящего в скромной келье отца Мерсенна, где ученые всей Европы докладывали свои новейшие результаты, постепенно появляется первая в Европе Академия Наук – Парижская Академия наук (после смерти Мерсенна, король превращает ее в государственное учреждение, берет на государственный контроль и баланс).
Один человек покрыл вот такой "научной социальной сетью" всю Европу! Создал то, без чего современная научная работа не представляется возможной: научное общение. Невероятно.
Кроме того, что католическая церковь настойчиво попросила своих служителей просвещать народ, она организованно и целеустремленно открыла школы. Этим занимался Орден Иезуитов. В Иезуитских школах учили не только и не столько слову божьему, как всем наукам. И чтению/литературе, и стихосложению, и математике, и физике, алхимии, биологии/медицине. В общем, всем наукам. И мало того, что в школах образование было бесплатным (хотя как и все институты церкви, такие школы существовали на добровольные пожертвования прихожан), монахи специально искали среди неблагородных людей детишек, способных к обучению. Именно так попал в школу, а потом и в Университет (в Сорбонну!) Марен Мерсенн, простой крестьянский сын. И именно в такой иезуитской школе у Мерсенна появляется его лучший друг на всю жизнь – математик и философ Рене Декарт.
Лекция 12
.
Рене Декарт
Рене Декарт – один из величайших математиков всех времен. Один из тех, кто создавал из античной математики уже то, что мы (математики) понимаем под словом "математика" сейчас. Вместе с тем, он блестящий философ. И эти две его ипостаси разделить нельзя. Это две стороны одной монеты. Как математика Декарта перевернула полностью представление людей о математике, так и философия Декарта до сих пор остается актуальной.
Родился Декарт в 1596 году на юге Франции в богатой и уважаемой семье. Мать его умерла родами, а сам Декарт выжил чудом. С детства и на всю жизнь он был болезненным (как и многие гении того времени), что не мешало ему, впрочем, и превосходно владеть шпагой, и воевать, и вообще.
Декарта отдали учиться в Иезуитский колледж30, где он познакомился с Мареном Мерсенном, который станет его лучшим другом на всю оставшуюся жизнь. Декарт – блестящий ученик, ему даются все науки, и никто не сомневается, что Декарт посвятит свою жизнь науке. Кроме… самого Декарта. Сам же Декарт пишет (в своих "Рассуждениях о методе"), что был так хорош в науках, и так блестяще в них разобрался – что только больше запутался, и в конце концов достиг лишь одного: понял, что ничего не понял. Риторика (по мнению Декарта) не может быть наукой, ибо в риторике может быть более хорош тот, кто никогда ее не учил. Богословием заниматься не обязательно: путь к Богу открыт одинаково как сведующим, так и невеждам. В философии вопросов больше, чем ответов. И столько мнений, сколько людей. А с настоящей наукой подобного быть не может, ибо должны быть критерии истинности, и не могут быть одновременно истинны два противоположных мнения.

Рисунок 12.1: Рене Декарт. 1596-1650
Настоящая наука (по Декарту) должна быть, во-первых, полезной в жизни (в широком, а не в вульгарном смысле этого слова). При этом, точной и неопровержимой в выводах. Да, математика, почти такова. Но с ней тоже все не до конца хорошо. Математику Декарт считает "мелковатой". Считает, что математика решает конкретные задачи, т.е. полезна именно что в вульгарном смысле. Наука "ремесленника", а не "художника и творца". И да, это интересно, но нет того размаха и ширины, как в настоящих, правильных науках, которые познают мир.
Таким образом, юный Декарт считает, что надо не заниматься науками, а познавать мир созерцательно. Жить в мире, изучать его, наблюдать за миром, как он сам же пишет "собрать разнообразный опыт".
Итак, окончив иезуитский колледж в 1612 году, Декарт не продолжает свое обучение, а просто живет в Париже обычной светской жизнью молодых знатных людей того времени. Он поддерживает знакомство с Мерсенном, посещает его семинар, но в рамках той самой "обычной светской жизни" образованный элиты общества.
В 1614 году Мерсенн уезжает из Парижа. И Декарт, заскучав, покидает Париж тоже. Уединяется в парижском пригороде, практически ни с кем не общается – и занимается математикой! В основном, в этот период Декарт решал разные задачи, связанные с азартными играми (то есть, с точки зрения математики правильно говорить: задачи из теории вероятностей).
Желание Декарта наблюдать за миром в 1617 году приводит к тому, что Декарт поступает на службу в голландскую армию. Первое время, образ его жизни в армии мало отличается от того, к чему он привык. Но через два года ему удается "собрать разнообразного опыта" выше крыши: начинается Тридцатилетняя война.

Рисунок 12.2: П.Снайерс. Белогорская битва
(эпизод Тридцатилетней войны)
Тридцатилетняя война – одна из самых жестоких и смертоносных войн в истории Европы. Первая война, затронувшая все европейские страны (в том числе, и Россию, кстати). Поэтому в каком-то смысле, непонятно, почему не ее назвали "Первой мировой".
Во многих литературных произведениях того времени и много позже (аж до Второй мировой) Тридцатилетняя война показана как эталон жестокой войны. Преимущественно военные действия проходили на территории современной Германии. По оценкам на юге Германии после войны в живых осталась треть населения (не только от прямых военных действий, но и в связи со связанными с войной голодом, эпидемиями и т.д.).31
Итак, начинается Тридцатилетняя война, и Декарт идет на фронт, в Венгрию, в Чехию. Участвует в очень тяжелом пражском сражении. Очень быстро Декарту перестает казаться, что для обретения мудрости нужно набраться еще эмпирического опыта. То ли опыта уже достаточно, то ли опытным путем установлено, что опыт – не есть путь к мудрости.
Во время своей не очень продолжительной военной карьеры Декарт понимает, что истину надо искать не вне, а внутри себя самого. И формулирует "Четыре принципа рационального мышления", которые становятся для него самого не только правилами мышления, но правилами всей жизни.
Считать истинным только то, что с очевидностью является таковым. Стремиться к незамутненной ясности.
Разделять каждую проблему на столько частей, на сколько возможно и необходимо для ее решения.
Располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с простейших. (Даже если исторически это не так)
Делать повсюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающе, чтобы понимать, что ничего не упущено.
/*Однажды, когда я на лекции рассказывала эти правила мышления Декарта, студенты заметили, что они очень похожи на правила хорошего программиста.
Сам понимай, что ты написал!
Пиши подпрограммы! Если что-то можно выделить в подпрограмму – это нужно выделить в подпрограмму.
Сначала напиши рабочий код, потом полируй, улучшай и оптимизируй.
Комментируй код!
Ну, может, и не один-в-один, но студенты будущих лет тоже были согласны с подобным свежим прочтением32. */

Основной принцип тут для Декарта, пожалуй, первый. Нужно стремиться к полной ясности, понятности. Декарт под эти принципы подводит не только свою математику и философию, но и жизнь в целом. Например, в одном из своих писем он отвечает Королеве Швеции, Христине (с которой вел длительную переписку), что он думает о любви.
Так вот, в понимании Декарта любовь тоже есть ясная – духовная, и неясная – чисто чувственная. И та, и другая основаны на влечении. Но в первом случае, влечение это сопряжено со стремлением познать того, кого ты любишь (то есть, с некой интеллектуальной активностью и стремлением к ясности). А во втором же случае, когда любовь неясная и чувственная, объект любви как личность попросту исчезает из поля зрения.
Следующие 8 лет (после участия в Тридцатилетней войне) Декарт проводит во Франции. Чередует буйную светскую жизнь и уединения. Декарт далеко не затворник, а человек очень общительный. Но как только "поперла мысля" – ему надо уединиться и думать, думать! Во время таких уединений он обрывал все связи (для полной ясности, чтобы никто не мог помешать), брал с собой только одного преданного слугу, и о том, где он находится, знал только лишь один Марен Мерсенн.

Рисунок 12.3: Анри-Поль Мотт. Кардинал Ришельё на осаде Ля-Рошели.
Но такие уединения не так уж часты. А в перерывах – салоны, тусовки, семинар Мерсенна, и даже одна военная кампания. В 1628 году (Декарту 31 год) Декарт принимал участие в осаде главной гугенотской крепости Ла Рошель. (Известный советский фильм про трех мушкетеров заканчивается пикником, который мушкетеры устраивают во время осады). Так вот, этот поход был "высоконаучным", применялись новейшие осадные машины. Руководил этим предприятием (с научноинженерной точки зрения) знаменитый замечательный математик Дезарг (математик, архитектор, механик и изобретатель), но также требовались и другие ученые, в числе которых был и Декарт.
В 33 года Декарт снова покидает Францию на много-много лет, переезжает в Голландию. Причина? Главный принцип (принцип ясности) выработан уже довольно давно. Но при этом никакой новой математики и новой философии он так и не построил! Разменивается на мелкие задачки. Поэтому нужно гораздо более длительное уединение. В Голландии, где люди не такие общительные и темпераментные, как во Франции, а скорее прагматичные и деловые, можно жить так, чтобы на тебя не обращали никакого внимания. Практически, в уединении.
Через несколько лет (в 1637) Декарт выпускает свою первую великую книгу «Рассуждения о методе», которая выходит с тремя приложениями «Диоптрика» (о зрении и физических принципах работы глаза); «Метеоры» (физика атмосферных явлений) и «Геометрия». Позже выходят «Начала философии» (по-современному такая книга должна бы называться «Основы физики»). Именно в этих книгах Декарт строит и новую философию, и новую математику.
Шведская королева Христина, которая славится своим стремлением к наукам, зовет Декарта в Швецию. Помогать открывать академию наук и впоследствии ее возглавить. Декарт принимает приглашение, ожидая, что в Швеции заниматься наукой будет не хуже, чем в Голландии. Однако же, проживет он в Швеции не так долго – но проект устава Шведской академии наук успеет создать. Конечно, королева Христина на месте президента академии видит только Декарта. Но он сам своей рукой вносит в Устав первый пункт: "Иностранец не может быть президентом". Так он чувствует, и только так можно достичь полной ясности, поступить иначе он считает бесчестным.


