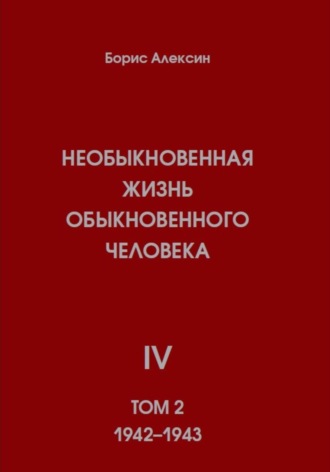
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
Борис помнил, как его учили бороться с этим заболеванием, которое в простонародье тогда называлось летучим ревматизмом, а в медицине – полиартритом. Он дал задание аптеке медсанбата приготовить растирание с метилсалицилатом, настойкой водяного перца и другими компонентами, а также порошки, содержащие пирамидон и анальгин, и поручил ординарцу ежедневно по вечерам растирать колени и плечи полковника, а адъютанту – следить за тем, чтобы Володин аккуратно принимал порошки. Через неделю комдив почувствовал себя так хорошо, что на одном из штабных совещаний прямо сказал:
– Вот сколько докторов меня ни лечили, всё толку не было, а начсандив Алёшкин в неделю вылечил!
Нужно сказать, что мучительные боли в суставах очень часто провоцировали плохое настроение комдива. Избавившись от них, он стал относиться ко всем работникам штаба, в том числе и к комиссару дивизии, более терпимо. Это, конечно, тоже сыграло свою роль в становлении авторитета Бориса в штабе. С тех пор многие стали обращаться к нему с различными жалобами, чтобы получить врачебный совет, и почти всегда это приносило пользу.
Быстро управившись с делами в ППМ 42-го полка, где, кстати сказать, они шли вполне удовлетворительно, что подтверждалось хотя бы тем, что при осмотре за последнюю неделю не было найдено ни одного бойца с педикулёзом, Борис отправился в штаб дивизии. Когда он приехал туда, то застал там суматоху, всегда предшествующую переезду. Комиссар дивизии был в политотделе армии, и Борис направился прямо к комдиву. Он изложил своё мнение о передислокации медсанбата.
Володин воскликнул:
– Ну вот, а я только что это самое собирался тебе предложить продумать. Дивизия наша по приказанию штаба армии должна подвинуться вправо и занять теперь узкий участок фронта, не более пятнадцати километров. Это позволит создать глубокое эшелонирование обороны. Мы немного сдвинем 41-й и 42-й полки, а 50-й стрелковый полк поставим во второй эшелон, подвинемся ближе к Ладожскому озеру, что-нибудь в район селения Путилово, поэтому и штаб дивизии передислоцируем. Ну, а при таком новом расположении дивизии медсанбат очутится на самом левом фланге, и добираться до него будет неудобно. Да и место, где он расположен, наверно, немцами обнаружено, что-то часто над этой поляной стала «рама» появляться. Так что очень хорошо, что наше мнение совпало. Подыскивайте место нового расположения медсанбата.
– А я уже!
– Что уже?
– Я уже нашёл место.
– И где же?
– А рядом с хлебозаводом.
– Так ведь его только что обстреляли! Вы что же, хотите, чтобы и медсанбат подвергся той же участи?
– Да нет, товарищ командир дивизии! Именно потому, что хлебозавод только что обстреляли, я и хочу медсанбат туда передвинуть. Теперь немцы по этому квадрату, наверно, с месяц стрелять не будут.
– А что же, это, пожалуй, верно! Ну-ка, посоветуемся с начальником штаба.
Комдив снял трубку телефона и сказал в неё:
– Ко мне «Третьего», побыстрее.
Через пару минут в землянке комдива появился начальник штаба, полковник Юрченко. Он поздоровался с Борисом и сел на одну из свободных табуреток.
– Иван Павлович (так звали Юрченко), в связи с переменами в расположении дивизии надо передислоцировать и медсанбат. Как думаете, где его лучше поставить? – обратился к нему комдив.
Тот с минуту смотрел на разложенную на столе карту-пятикилометровку, затем решительно показал на кружок, которым была очерчена лесоболотистая местность и около которого было написано «хлебозавод».
– Вот сюда, – коротко сказал он.
Комдив взглянул на Алёшкина и спросил:
– А почему сюда?
– Дороги уже готовы, да и безопаснее там.
– Почему безопаснее?
– Как почему? У немцев ведь такие же карты, там болото. С их точки зрения, медицинское учреждение в подобную местность ставить нельзя, да и «обрабатывали» это место только сегодня.
– Так, а как же хлебозавод?
– А он пускай тоже рядом стоит, не передерутся. А к болотам наши медики привычные, приспособятся.
– Ну, что же, если вы заранее не сговорились, то просто удивительно, как ваши мнения совпадают! Хорошо, будь по-вашему, пишите приказ. А вы, товарищ Алёшкин, завтра же его отвезёте командиру медсанбата и проследите за передислокацией. Постарайтесь управиться дня в три.
– Слушаюсь, товарищ комдив. Только я ведь должен об этом начсанарму доложить. Разрешите, я завтра в санотдел съезжу?
– Да, поезжайте. Вот ещё что. Я прикажу сапёрам для вас и вашего писаря на новом месте расположения штаба дивизии землянку вырыть. Будете в штабе жить.
Комдив, видимо, ожидал встретить возражения от Алёшкина, но тот промолчал. В последнее время в медсанбате стало как-то неуютно. Вслед за Перовым выехал в Москву и Подгурский, а новый комиссар, хороший знакомый Фёдоровского, хотя и выполнял все положенные обязанности достаточно добросовестно и аккуратно, но как-то механически, по-канцелярски, и поэтому сблизиться с оставшимися старыми командирами подразделения батальона не сумел, а большую часть времени проводил с новым комбатом. Батальонное «радио» сообщало, что, уединившись, они занимались не только беседами, но и употреблением горячительных напитков.
Фёдоровский, считая себя глубоко и несправедливо обиженным назначением в медсанбат и тем более подчинением молодому и низшему по званию врачу – начсандиву, к своим обязанностям относился совершенно формально. Как вскоре выяснилось, в лечебном деле военврач второго ранга Фёдоровский понимал очень мало, а, следовательно, руководить деятельностью врачей не мог. Он это почувствовал после первого же посещения госпитального отделения, когда Зинаида Николаевна с присущей ей методичностью начала докладывать о состоянии каждого раненого. Он с трудом закончил обход госпитальной палаты и, не сделав ни одного замечания, не задав ни одного вопроса, мрачно посапывая, покинул отделение. В таком же невесёлом настроении за ним проследовал и комиссар.
Все были неприятно поражены. Дело в том, что Перов, совершавший обходы всех отделений, вёл себя совсем по-другому. Он, как мы знаем, по профессии был венеролог-дерматолог и, конечно, в терапии и хирургии разбирался весьма поверхностно. Но, во-первых, он был очень общительным и весёлым человеком, всегда умел найти подход к раненому или медработнику; а во-вторых, он был опытным администратором, и даже малейшие неполадки в уходе за больными (не достаточно чистое бельё, плохо подметённый пол, не вынесенные вовремя бинты и тому подобное) вызывали с его стороны довольно резкие замечания, часто с последующими взысканиями. Его обхода всегда побаивались, и к ним основательно готовились. А Фёдоровский пришёл, посопел, помолчал и ушёл. К его приходу тоже готовились не без робости, и всё впустую. Комиссар Подгурский, ежедневно, а иногда и по два раза в день, бывал в госпитальной палате, в помещении выздоравливающих, и не только строго спрашивал с медсестёр и санитаров, обслуживавших раненых, но со всеми ранеными и медработниками успевал душевно побеседовать, выяснить всё, что волновало человека, и по возможности помочь ему. Участие и забота комиссара о личных нуждах каждого, кто с ним встречался, оставило о нём надолго самую хорошую память. Новый комиссар ограничивался краткими политбеседами, раздачей газет и чтением сводок Совинформбюро. Такой обаятельной и простой добротой и участием, как Николай Иванович, он не обладал.
Хорошие взаимоотношения у Алёшкина с новым командованием медсанбата не сложились. Заниматься любимой хирургией Борису тоже не удавалось. После путешествий по полкам ему почти всегда приходилось ехать в штаб дивизии, чтобы доложить об увиденном, проделанном, а иногда и просить помощи соответствующих начальников. Возвращался он в медсанбат поздно вечером настолько уставшим, что, поев, едва успевал добраться до постели и тут же засыпал, а на следующий день всё начиналось сначала. Да и раненных поступало так мало, что хирурги батальона справлялись с их обработкой без труда.
Хотя и привык Борис к своим друзьям – Зинаиде Николаевне, Льву Давыдовичу, Дуркову, Картавцеву, Прохорову, Скуратову, операционному персоналу, с которыми хоть недолго можно было поговорить, посоветоваться, а иногда и поплакаться, он понимал, что всё-таки в настоящем положении начсандиву лучше находиться в штабе дивизии. Именно поэтому он молчаливо согласился с распоряжением комдива о переселении в штаб дивизии.
Приехав в батальон, Алёшкин первым делом сказал об этом своему помощнику Вензе и приказал ему, связавшись с начштаба дивизии, выяснить, когда им можно будет переселяться в расположение штаба, а сам отправился к командиру медсанбата.
Надо сказать, что Вензе предстоящее переселение пришлось не по душе. Он успел обжиться в батальоне, заиметь друзей и даже подружку – фельдшера из эваковзвода. Но приказ есть приказ, и, тяжело вздохнув, Венза начал упаковывать канцелярию, а затем вещи свои и начсандива, чтобы подготовить всё для переезда.
Тем временем, передав Фёдоровскому приказ комдива о передислокации, Алёшкин предложил завтра же вместе с ним проехать на новое место медсанбата, чтобы провести рекогносцировку и наметить расстановку основных объектов. Фёдоровский встретил этот приказ молчаливо, хмуро и только заметил, что рекогносцировку, как и план расстановки палаток, он сумеет сделать и сам. Борис согласился, но всё же сказал:
– Видите ли, товарищ Фёдоровский, я еду с докладом в санотдел армии, новое местоположение медсанбата будет мне почти по дороге, вот я и хочу на него посмотреть. Так что поедемте всё-таки вместе.
На следующее утро «санитарка» командира медсанбата и полуторка начсандива стояли километрах в десяти северо-восточнее рабочего посёлка № 12 в густом смешанном лесу, на разъезде довольно хорошей лежнёвки, ведущей к хлебозаводу, а сами они, в сопровождении двух вооружённых санитаров, углубились в сторону от дороги и, проваливаясь в рыхлом снегу, из-под которого выступала вода, с трудом шли на север. Фёдоровский во время пути возмущался:
– И какому дураку пришло на ум помещать здесь медсанбат? В штабе дивизии ничего не понимают, глядят в свои карты и не видят ничего. Вот их бы здесь полазить заставить! И зачем нам переезжать? Устроен батальон хорошо, место сухое, бараки обустроены, дороги хорошие, чего ещё нужно? Ну, будем немного дальше от стрелковых частей, подумаешь! Какое это имеет значение?
Борис благоразумно молчал. Да, откровенно, ему не до разговоров было. Во-первых, тяжёлая дорога утомила и его, а во-вторых, он с тревогой думал: «Весь этот лесной участок, судя по карте, не очень-то и большой. Если таким и окажется, значит, придётся искать другой…» А где, он пока ещё не представлял. Учитывая новое расположение дивизии, это место было самым удобным.
Передвигались они очень медленно. Фёдоровский уже начинал требовать возвращения назад, чтобы доложить комдиву о непригодности выбранного штабом участка, как вдруг лес немного поредел, деревья стали выше и мощнее, среди берёз и осин появилось несколько елей. А ещё шагов через пятьдесят они оказались на небольшом возвышении, где под снегом уже не было воды и между большими деревьями виднелись поляны.
Присев на сваленное ветром дерево, Алёшкин закурил. Сел рядом с ним и комбат. Борис приказал следовавшим с ними бойцам (одним из них был старшина Бодров) обойти всю эту возвышенность, чтобы определить её границы и прикинуть, сможет ли она вместить медсанбат.
Фёдоровский, между тем, хотя и видел, что это место по своему характеру вполне пригодно для размещения батальона, очень не желал уходить из посёлка № 12, и поэтому сразу же начал с возражений:
– Вы подумайте только, товарищ Алёшкин, сколько времени мы шли, – он взглянул на свои часы, – почти полтора часа от лежнёвки, на которой стоят наши машины! Расстояние никак не меньше двух километров. Значит, на такое расстояние нам надо будет строить самим дорогу. Это же отнимет не меньше двух недель, а комдив приказывает развернуться на новом месте через три дня! Нет, лучше всего остаться на старом месте и не спеша подыскать что-нибудь более подходящее.
Алёшкин промолчал. Он знал, что построить лежнёвку на то расстояние, которое они прошли, силами медсанбата невозможно и за две недели, а на помощь сапёров дивизии рассчитывать не приходилось, они были заняты передислокацией штаба дивизии и оборудованием новых командных пунктов для полков и месторасположения спецчастей. «Неужели на самом деле мой выбор неудачен? Но почему «мой»? Ведь это же место предложил и начальник штаба дивизии», – размышлял Борис.
Но вот вернулись санитары, обходившие участок по периметру. По их словам, эта песчаная возвышенность тянулась около километра, имела разную ширину (от 100 до 500 шагов) и была окружена глубокими болотами. Стоило с неё спуститься в окружавшую чащобу, состоявшую из мелкого осинника, как под снегом начинала хлюпать вода, а ноги уходили в расползающийся торф.
– Хотя, – заметил Бодров, – в одном месте, почти на самой середине противоположного края этого бугра я заметил тропку. То ли звери какие ходят (хотя откуда сейчас здесь звери), то ли люди раньше протоптали. Я по ней не пошёл, а вообще-то сходить не мешало бы.
Борис развернул имевшуюся у него карту-километровку, нашёл приблизительно своё местоположение и вдруг заметил, что на карте, немного севернее этого места, отмечена узкая просёлочная дорога в сторону шоссе, связывающего железнодорожные станции Войбокало и Назия. Он ничего об этом не сказал Фёдоровскому, поднялся с места и, позвав с собой Бодрова, приказал:
– А ну, пойдём, исследуем эту тропку. Мы скоро вернёмся, подождите нас.
Через возвышенность идти было легко – снег неглубокий, местами стаял совсем, и в проталинах проглядывал мох, а под ним ощущалась плотная земля. Бодров хорошо запомнил местность, и через четверть часа они с начсандивом находились уже на противоположном конце возвышенности, где действительно виднелась старая, почти заросшая, видимо, наезженная ещё в прошлые годы, лесная дорога. От неё в сторону отходила охотничья тропа.
Как тропа, так и дорога находились на относительно сухом месте и, хотя под ногами чавкала вода, ноги не проваливались. Снова сверившись с картой, Борис решительно повернул направо, и примерно через полкилометра дорога вышла на шоссе. Таким образом, с этой стороны можно было и въехать на возвышенность, и выехать с неё почти без всякого труда, а, следовательно, никакой дороги строить не требовалось. Достаточно было положить пару небольших мосточков взамен старых, сгнивших, а это уже труда не составляло.
Выйдя на шоссе, Алёшкин решил дождаться машин здесь. Он отправил Бодрова за Фёдоровским, а второго санитара – за машинами, которые должны были проехать по лежнёвке до хлебозавода, выехать на шоссе и вернуться к ним.
Несмотря на то, что вопрос с дорогами новой территории медсанбата решился удачно, Фёдоровский всё же был против передислокации санбата и сказал начсандиву, что он напишет по этому поводу рапорт командиру дивизии. Борис ответил, что запретить подавать рапорт он не может, но со своей стороны будет настаивать на передислокации сюда. После этого Фёдоровский перестал разговаривать с начсандивом, и почти час, который прошёл в ожидании транспорта, они провели в полном молчании, а с приходом машин разъехались в разные стороны.
Глава пятая
Комбат поехал назад к фронту, чтобы затем, свернув на рокадную дорогу, выехать к медсанбату (то есть к посёлку № 12), а начсандив отправился в санотдел армии.
Зайдя к Брюлину и Берлингу и побеседовав с ними, Борис узнал, что Скляров, нынешний начсанарм, переводится в соседнюю, новую, 52-ю армию, и что они тоже, вероятно, оба поедут с ним. А в 8-ю армию назначен новый начсанарм – военврач первого ранга Чаповский, с ним прибудут новый армейский хирург и терапевт. Это известие опечалило Алёшкина: со Скляровым и его ближайшими помощниками у него установились хорошие товарищеские отношения, а как-то они сложатся с новым начальством?
Он доложил Склярову о предполагаемом перемещении медсанбата, которое было одобрено. Поделился Борис и своими впечатлениями о новом командире медсанбата и комиссаре, посетовал на их оторванность от врачебного коллектива батальона и высказал свои претензии к Николаю Васильевичу за отзыв Перова. Тот усмехнулся:
– Брось, Борис Яковлевич! Виктор Иванович уже показал себя на новом месте работы. Всего месяц, как он начальником госпиталя стал, а госпиталя не узнать! Я думаю, что и ты долго в начсандивах не продержишься, вообще-то это не твоё дело…
За разговорами и обедом в военторговской столовой время прошло незаметно. Обратная дорога обошлась без приключений, и в новое расположение штаба дивизии Алёшкин добрался часам к шести вечера. Ни командира, ни комиссара в штабе не было, поэтому Борис доложил о найденном им месте для медсанбата начальнику штаба, полковнику Юрченко. Тот одобрил и попросил обозначить его на карте. Когда Алёшкин показал кончиком карандаша выбранное место, то Юрченко воскликнул:
– Борис Яковлевич, да ведь тут же сплошное болото, вы утопите медсанбат!
– Да, мы вначале тоже так думали, а оказалось, что карты наши не совсем точны.
Борис показал шоссе, затем отходящую от него веточку просёлочной дороги и уже от неё слегка окружил ту возвышенность, на которой предполагалось размещение батальона. На карте в этом месте действительно обозначалось сплошное болото.
Посмотрев повнимательнее на карту, Юрченко сказал:
– А дорогу вам строить всё-таки придётся. Вероятно, не длинную, но придётся. Вот посмотрите.
Он провёл карандашом по просёлочной дороге с километр к югу от места её выхода на шоссе и показал Алёшкину, что немного ниже обозначенного им расположения медсанбата просёлочная дорога вновь появлялась и почти вплотную подходила к шоссе. Юрченко перечеркнул карандашом тоненький перешеек, отделявший просёлок от шоссе, и сказал:
– Вот здесь и построите второй выезд. Вернее, это будет въезд, по нему будут съезжать с шоссе машины с ранеными из полков, а по той части выезжать от вас в тыл.
Выяснив у начштаба, что землянка для него уже готова, и что она находится почти рядом с землянкой комиссара, Борис осмотрел своё новое жилище. Хотя вокруг землянки выкопали канаву для спуска талых вод, под дощатым полом её уже хлюпало. Вообще-то, эта землянка, представлявшая собой комнату два на три метра, с небольшим оконцем и крышей из двух или трёх накатов, со стенами, сделанными из толстых досок, с двумя деревянными топчанами, небольшим столиком, врытым в землю, и с хорошо пригнанной дверью, ни в какое сравнение не могла идти с теми примитивными сооружениями для жилья, какие делались в медсанбате в первые месяцы войны.
Осмотрев своё жильё, Алёшкин снова зашёл к Юрченко и доложил ему, что сейчас едет в медсанбат, чтобы поторопить командира с переездом, соберёт свои вещи и утром с Вензой приедет сюда. Начальник штаба усмехнулся:
– Ну, я думаю, что Фёдоровского торопить не придётся.
Борис изумлённо поднял брови, но так и не спросил, в чём дело.
Узнал он всё часом позже, когда прибыл в санбат и застал Вензу, сидевшего на узлах с постелями, одеждой и связкой книг и бумаг. Тот, увидев своего начальника, вскочил:
– Вот хорошо, что вы приехали! Давайте грузиться и поедем скорее.
– Да ты что, Венза? Куда мы на ночь поедем? Иди-ка на кухню, принеси мне поесть. Поужинаем, поспим, а завтра утром и поедем.
– Эх, товарищ начсандив, лучше бы сегодня!
– Да что такое случилось?
– А вы что, ничего не заметили?
Алёшкин, въехав на территорию батальона, действительно заметил некоторое оживление около палаток и бараков: ходили и что-то носили санитары, сёстры и выздоравливающие. Но он как-то не придал этому значения.
За ужином Венза рассказал Борису, что случилось за день. О том, что «рама» несколько раз появлялась над расположением медсанбата, мы уже писали. Так как на немецких картах здесь, кроме болот, ничего не обозначалось, то разведчики, летавшие на «раме», особого внимания на эту поляну не обращали, и, вероятно, сфотографировали её на всякий случай. Рассмотрев снимки в штабе, они обнаружили, что на поляне стоит какая-то часть, ну и решили её бомбить. В этот день из эскадрильи самолётов, направлявшихся в очередной рейс для бомбёжки Войбокало и Жихарева, которые почти каждый день пролетали над рабочим посёлком № 12, и наблюдать за полётами которых уже привыкли все медсанбатовцы, вдруг отделилось звено из трёх бомбардировщиков и, с рёвом и воем пикируя на поляну, сбросили свой груз. Правда, большая часть бомб упала в болота и леса, окружавшие батальон, но четыре бомбы упали на его территории. Одна из них попала в самодельный тир и разрушила его до основания, другая попала в палатку выздоравливающих, а остальные на поляну между бараками.
Второго захода бомбардировщики сделать не успели, из-за леса вынеслось звено «ястребков», в воздухе завязался бой, и «юнкерсы» поспешили ретироваться на запад.
Никто в медсанбате не сомневался, что на следующий день бомбёжка повторится, и поэтому сразу же, не дожидаясь возвращения командира медсанбата, комроты Сковорода и начштаба Скуратов отдали приказание, одобренное комиссаром батальона о быстрейшей подготовке к передислокации. Когда же вернулся Фёдоровский и узнал о происшедшем налёте, он не только подтвердил распоряжение своих помощников, но потребовал максимального ускорения работ по свёртыванию палаток и погрузке имущества на машины. Кроме того, он немедленно отправил Бодрова с группой санитаров и выздоравливающих для срочного исправления дороги к новому расположению медсанбата и подготовки мест для основных подразделений батальона. Эти места они наметили с Алёшкиным ещё перед уходом последнего на поиски новой дороги.
Узнав всё это, Борис понял, почему Юрченко, усмехаясь, заявил, что командир медсанбата противиться передислокации не будет.
На следующий день стояла пасмурная нелётная погода, накрапывал небольшой дождь, и это помогло медсанбату свернуться и переехать на новое место без потерь. В первый налёт было ранено три санитара, пятеро выздоравливающих и одна врач, – к счастью, все не особенно тяжело.
1 мая 1942 года медсанбат встречал на новом месте. На фронте было сравнительно тихо, раненых поступало немного, и в сортировочной палатке проходило торжественное собрание. На нём присутствовали комиссар дивизии Марченко, начальник политотдела Лурье и начсандив Алёшкин. Собрание прошло очень оживлённо. Марченко сделал доклад, в котором подвёл итоги зимне-весеннего наступления Красной армии у Тихвина и под Москвой, развеявшего миф о непобедимости фашистов. А когда он зачитал сводку о количестве освобождённых населённых пунктов, об огромных трофеях, взятых нашими войсками и, наконец, сообщил об освобождении Ростова-на-Дону, все встали, встретив эти слова бурными аплодисментами и криками «ура». Такими же криками и аплодисментами все встретили и конец речи, когда Марченко провозгласил здравицу Верховному главнокомандующему товарищу Сталину. Комиссар дивизии закончил свою речь словами: «Смерть немецким оккупантам!».
Затем был торжественный обед, повара медсанбата постарались. Все получили «наркомовские» сто грамм водки, а так как большинство женщин отказывались, то мужчинам досталось гораздо больше ста.
За столами, сооружёнными в палатке из досок, вывезенных с прежнего места дислокации, было шумно и оживлённо, и даже командир батальона Фёдоровский как-то прояснился.
Ещё большее оживление внесло появление почтальона, принесшего многим из сидевших за столом письма. В числе счастливчиков, получивших весточку из дома, оказался и Борис Алёшкин – сразу три письма из Александровки! Два из них путешествовали уже более трёх месяцев. Борис узнал, что его Катя исполняет чуть ли не три должности сразу, устает, конечно, и скучает по нему. В последнем письме, написанном в начале апреля и дошедшем удивительно быстро, Катя писала, что она не только посадила огородик около дома, но и посеяла кукурузу на участке, отведённом ей заводом, растит поросёнка. Писала также, что, благодаря помощи Дуси Пряниной, она и дети сыты и живут относительно неплохо, хотя в станице уже стало трудно со многими товарами. Дело в том, объясняла она, что в городах ввели карточки, а в сельской местности карточек пока нет. Говорят, что скоро заведут карточки для рабочих завода, а пока приходится выкручиваться так. Далее она просила, чтобы Борис берёг себя, чтобы не беспокоился о них и, главное, держался подальше от «всяких юбок».
В конце письма была небольшая приписка от старшей дочки Эллы, которая сообщала, что зимой они посылали подарки на фронт. Девочка просила папу «поскорее разбить фашистов и возвращаться домой».
2 мая снова пришла почта, Борис получил письмо и на этот раз, от Таи. Оно запомнилось Борису, ведь это было её первое и последнее письмо. Приводим его содержание:
«18 апреля 1942 г.
У меня есть сын! Мой сын. Я родила его 2 апреля 1942 года. Ты не можешь представить себе моего счастья. Я назвала его Юрием. Он родился крепким, хорошим ребёнком, весил почти четыре килограмма и ростом 50 см. Роды протекали трудно, но сейчас всё это позади, и я повторяю ещё раз – я безмерно счастлива. Расскажу тебе всё по порядку.
С самого начала войны у меня были неполадки с моими обычными женскими делами. Я это относила на счёт волнений и переживаний, вызванных резкими изменениями условий моей жизни и тем, что все мы испытывали при виде окружавших нас страданий огромного количества людей, при виде многих и многих смертей… При сверхчеловеческой нагрузке, которую мы испытывали. Но вот во время нашего пребывания в Авволове, когда обстановка стала более спокойной, мои недомогания не только не оставили меня, а даже усилились. Я старалась, чтобы их никто не заметил, в том числе и ты. Кажется, это мне удавалось, но всё же я решилась посоветоваться с доктором Белавиной. Она, как ты знаешь, в прошлом акушер-гинеколог. После того, как она меня осмотрела и установила диагноз – беременность, я поняла причину моей болезни. Клавдия Васильевна сказала (осмотрела она меня в конце сентября) что, по её мнению, беременности около четырёх месяцев, но точно она сказать не смогла. Я решила скрыть от тебя это, ведь, судя по определению Белавиной, я уже была беременна, когда сошлась с тобой.
Ты помнишь, что через несколько дней после этого мы переехали и стали обосновываться на новом месте, около Ленинграда. Я не соглашалась встречаться с тобой именно из-за своего состояния и очень обрадовалась, когда пришёл приказ о реорганизации и сокращении медсанбата. Но когда Скуратов показал мне список подлежащих откомандированию из батальона, меня там не было, а мне нужно было уехать. Пойми меня правильно, Боря, я не могла с тобой больше жить.
Мне пришлось рассказать начсандиву Исаченко всё. Я просила сохранить мой рассказ в тайне. Не знаю, выполнил ли он мою просьбу, но в список меня тут же включил.
Как же я испугалась, когда ты собрался идти к нему, чтобы протестовать о моём откомандировании! К счастью, ты послушался меня. В Ленинграде в госпитале уже через месяц моё положение стало настолько очевидным, что моя непосредственная начальница, да и начальник госпиталя, понимая, как трудно мне будет после родов в Ленинграде, постарались при первом же удобном случае отправить меня на Большую землю.
В Москве я ещё около двух месяце проработала в одном из госпиталей, была демобилизована и уехала к родителям. Ты ведь знаешь, что мой отец – путевой обходчик и живёт с моими сестрами и мамой недалеко от Краснодара, там я и поселилась.
Рожала я в акушерской клинике нашего Кубанского мединститута, затем приехала домой. Моему Юре уже около месяца, а когда ты получишь это письмо, меня уже здесь не будет. Где я буду, не знаю. Работу себе, конечно, найду и ребёнка своего прокормлю. Ты понимаешь, что он записан на фамилию моего мужа, но я никаких сведений о муже не имею. Тебя я тоже тревожить не буду. Те минуты, часы и короткие дни, которые я провела с тобой, явились для меня настолько светлыми, что я не хочу их ничем омрачать. А это, безусловно, случится, если мы встретимся вновь. Не знаю, увидишь ли ты когда-нибудь моего сына. Не тревожься обо мне и не считай меня легкомысленной женщиной. Понимаешь, милый, наша мимолётная связь, дарованная нам судьбой, была необходима. Встретив тебя, узнав тебя ближе, чем это было возможно во время нашей совместной учёбы в институте, я почувствовала, что только ты можешь мне быть опорой и поддержкой в том трудном положении, в котором я очутилась. Ведь мне было очень страшно! И от свиста бомб ещё там, под Москвой, и от близких разрывов снарядов и мин на Карельском, и от ужасного вида изуродованных и окровавленных людей, которые окружали меня и которым я должна была оказывать помощь.
И вот, глядя на твоё огромное самообладание, на твоё мужество, на твои сильные и ловкие руки, которые выполняли сложные манипуляции с таким проворством, как будто бы делали это уже сотни раз, я чувствовала себя смелее и работоспособнее, старалась подражать тебе, походить на тебя. И это мне дало возможность справляться с той совершенно новой и страшной работой, которую мне, как и многим другим, пришлось исполнять. Твой пример заражал не только меня. Много раз Крумм, Дурков, да и Картавцев говорили, что только благодаря тебе, твоему присутствию, глядя на тебя, как ты успешно справляешься с работой, они могли выполнять своё дело. Сангородский, Прокофьева и даже Бегинсон говорили, как хорошо, что рядом с нами работает Борис Яковлевич, всегда есть с кем посоветоваться и воспользоваться его большим опытом.
Я-то знала, какой у тебя «опыт»! Я знала, что многие сложные операции, которые ты делал, которые ты брал на себя, когда от них отказывались другие, были для тебя первыми в жизни, и то, как ты с ними справлялся, вызывало моё восхищение.
Ты мне был нужен! И я взяла тебя! А была ли я нужна тебе? По-моему, тоже нужна! Оторванный внезапно от семьи, ты в собственной жизни был беспомощен, как ребёнок, и ухаживая за тобой, заботясь о тебе и даже отдаваясь тебе, я считала, что оказываю тебе нужную поддержку и помощь.
Но всё это позади. Всё в прошлом! Хоть и очень кратким было это прошлое, я о нём буду помнить всю жизнь. Однако прошлое пусть так и останется прошлым, не будем его тревожить. Пусть это останется светлым сном.
Ты, конечно, сам понимаешь, что мой сын – это не твой сын, ты можешь рассчитать это по времени родов, но всё равно, воспоминание о наших встречах для меня дорого. Я не хочу никак мешать твоей семейной жизни, поэтому я с тобой не увижусь никогда, не ищи меня. Прощай! Тая».







