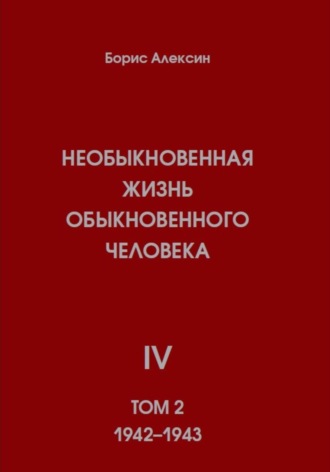
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
Глава восьмая
В середине ноября, с разрешения, с большим трудом полученного в штабе армии, Прохоров на двух машинах совершил поездку по вновь начавшей функционировать Дороге жизни в Ленинград. Привёз новый запас фанеры и довольно большой набор инструментов – столярных, плотницких и кузнечных, в том числе и вторую продольную пилу. С этих пор в медсанбате открылась и своя лесопилка. Правда, это была техника прошлого века, но теперь вопрос о брусьях, необходимых для скрепления щитов, о брусках для рам, стропил, досок и полов решился. Во всяком случае, теперь медсанбат ни от кого не зависел.
Правда, не хватало гвоздей. Но в лесах, окружавших батальон, валялось много обрывков высоковольтного кабеля. Во время ноябрьских боёв 1941 года линия электропередачи от Волховской ГЭС к Чудову была разрушена, разорвана, частично вывезена отступавшими немецкими частями. Куски кабеля длиной три-пять метров и ими, и нашими сапёрами были брошены. Вот эти-то куски кабеля и послужили сырьём для гвоздей. Придумал использовать их всё тот же Павлов. Кабель состоял из восьми медных проволок, сплетённых в один трос, каждая проволока имела толщину около трёх миллиметров. Порубленная на кусочки соответствующей длины, она превращалась в гвозди, довольно прочно державшие фанеру.
При помощи переносного горна и кузнечных инструментов, привезённых Прохоровым, собственный кузнец медсанбата, подобранный из выздоравливающих бойцов, смог приготовить достаточное количество скоб и стягивающих болтов. Правда, нарезку болтов и гаек пришлось делать в дивизионной оружейной мастерской, куда командировали на несколько дней двух бойцов, понимавших в слесарном деле. Одним словом, запас строительных материалов к декабрю 1942 года в батальоне создался довольно большой.
К этому же времени и далее, пользуясь затишьем на фронте и небольшим, точнее, просто мизерным потоком раненых, Алёшкин полностью переключил на строительство разборных домов для замены палаток и полуземлянок всех свободных санитаров и почти всю команду выздоравливающих. Иногда он и сам принимал практическое участие в изготовлении щитов и сборке. Конечно, чертежи для всех домов они делали вместе с Павловым.
Таким образом, в середине декабря 1942 года в распоряжении 24-го медсанбата имелись готовые щитовые фанерные дома для размещения малой операционной, большой операционной, противошоковой и трёх госпитальных палат. Кроме того, были построены фанерные дома для жилья врачей, сестёр и штаба. И, наконец, заключительным актом этого строительства явилась постройка санпропускника, который сразу же был установлен.
На территории, выделенной для строительства и находившейся на поляне метрах в двухстах от основной территории батальона, от зари до зари кипела работа, в поставленной палатке ППМ работали столяры на двух самодельных верстаках, шла заготовка гвоздей и скоб. Работы проводились при электрическом свете до глубокой ночи. В каждом доме решили делать настоящий пол, который собирали из шести-восьми трёхметровых досок, укреплённых на специальных лагах.
Когда изготавливалось необходимое количество щитов для стен и пола, тут же, на строительной площадке, дом собирался, стягивался болтами, к нему подгонялись стропила и крыша, вырезанная или собранная из частей списанных палаток. Затем все щиты тщательно пронумеровывались, дом разбирался и упаковывался в связки, позволявшие быстро погрузить его на машину и также быстро установить на новом месте.
Посоветовавшись с Сангородским, Прокофьевой, Бегинсоном и Фёдоровым, Алёшкин решил до новой передислокации всех домов не ставить. Пока удалось утеплить палатки, навалив к их стенам высокие завалинки из дёрна и снега, укрепив кольями и брёвнами. Кроме уже описанного нами щитового дома для госпитальной палаты, комбат распорядился поставить только одну малую операционную и санпропускник. Последний – для того, чтобы проверить все придуманные ими с Павловым усовершенствования на практике. Санпропускник собирался на том месте, где он должен был стоять постоянно.
Надо сказать, что до сих пор раненые, поступавшие в санбат, практически до обработки не обмывались, и лишь некоторым, очень загрязнённым, в предоперационной санитары под руководством перевязочной медсестры протирали мокрыми полотенцами или обмывали части тела водой из тазика. В большинстве случаев не мылись раненые и после хирургических вмешательств. Если они оставались в санбате, их переодевали в чистое бельё и переносили в госпитальную палатку, где уже потом сёстры, дружинницы и парикмахер организовывали необходимый минимальный туалет. Эго было хлопотно, неудобно и загрязняло госпитальную палатку. Ну, а подлежащим эвакуации вообще никакой санитарной обработки в батальоне не проводили.
Имевшаяся душевая установка, которая когда-то, в начале войны, обслуживала всю дивизию, давно вышла из строя. Личный состав батальона мылся в примитивных баньках, в землянках или даже просто в палатках ППМ. Надобность в санпропускнике была огромная, причём в таком, чтобы он мог принять сравнительно большое количество людей одновременно. Кроме того, он должен был собираться и разбираться с такой же быстротой, как и палатки.
Алёшкин и Павлов долго трудились над чертежами, наконец, и это дело было закончено. Уже имея опыт, быстро сделали щиты для стенок и полов. Некоторое затруднение вызвало изготовление крыши, ведь тут брезентом обойтись было нельзя, её тоже пришлось делать из щитов.
Трудно и долго рассказывать, как был устроен пропускник, поэтому дадим его эскиз и план.

Для нагрева воды в санпропускнике использовалась банно-дезинфекционная установка Красовского. Причём основание её сложили из кирпича, вмонтировав в него калорифер из двух водопроводных батарей. Вода из них, нагреваясь, поднималась по трубам вверх, в бак (бочку из-под бензина), из которого она по трубам поступала в душевые установки. Вторая бочка, укреплённая также на специальной площадке под крышей пропускника, служила вместилищем холодной воды. Вода в неё, как и в калорифер, подавалась ручным насосом из колодца, выкопанного рядом. В болотистой местности Ленинградской области получение воды из грунтовых колодцев труда не составляло.
Санпропускник установили на берегу небольшого ручья, рядом с этим ручьём выкопали и колодец. Дебет воды был велик. Для самой душевой установки использовались остатки АД, ранее бывшей на вооружении медсанбата и вышедшей из строя к началу 1942 года. Сложнее пришлось с трубами, но на станции Жихарево в одном из пакгаузов обнаружили запас водопроводных труб. Прохоров через своих друзей, армейских снабженцев, узнал об этом, и трубы удалось получить. В мыльной установили двенадцать сосков, таким образом, в ней могли мыться одновременно столько же, а при необходимости и в два раза больше людей. Единственное неудобство заключалось в том, что температура воды во всех сосках была одинакова, её регулировал санитар-банщик специальным вентилем.
Работа по конструкции и сборке санпропускника заняла порядочно времени, но к 20 декабря он был готов. В этот день состоялась торжественная помывка всего личного состава медсанбата. Работой санпропускника остались все очень довольны, строители и организатор этого дела Алёшкин принимали поздравления. Но ещё большую радость испытал комбат, когда работу санпропускника одобрили прибывшие начсанарм Скляров и армейский хирург.
Прежде чем рассказывать об этом посещении медсанбата начальством, остановимся немного на тех событиях, которые тогда происходили на фронтах Великой Отечественной войны. В то время, как войска Ленинградского и Волховского фронтов после безуспешных попыток прорвать блокадное кольцо около Ленинграда перешли к обороне, фашисты сумели перебросить часть своих войск на юг и, не считаясь ни с какими потерями, стремились овладеть Сталинградом и продолжить наступление на Кавказ, имея целью проникнуть в Закавказье.
Как мы знаем, к 25 октября 1942 года фашисты достигли окраины города Орджоникидзе. Истощив свои наступательные возможности, а также встретив стойкое сопротивление частей Красной армии, они вынуждены были остановиться на Черноморском побережье, в районе Геленджика. Нашествие фашистов прекратило своё движение восточнее Брянска, Орла и в Сталинграде. Не удалась задуманная Гитлером и генералами фашистского вермахта операция по новому окружению Москвы и изоляции её от снабжения по Волге.
Ещё продолжались бои в Сталинграде, где каждый дом, каждый подвал, даже развалины превратились в героическую крепость, около которой бесславно гибли сотни фашистских солдат, но руководители гитлеровской Германии уже поняли, что их войскам нужна передышка, пополнение людьми и вооружением.
14 октября 1942 года Гитлер отдаёт приказ о переходе на всех фронтах к обороне, чтобы накопить сил зимой, а с весны начать новое наступление.
Эта передышка была необходима и полезна и Красной армии. Хотя Геббельс и его подручные раструбили по всему миру, что, собственно, Красной армии уже нет, и фашистские войска полностью овладели инициативой, что война Советским Союзом уже проиграна и сопротивление отдельных фанатиков бесполезно, на самом-то деле всё обстояло не так.
В советском тылу готовилось мощное контрнаступление. Об этом стали говорить после обнародования приказа наркома обороны, главнокомандующего И. В. Сталина 7 ноября 1942 года, посвящённого 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В приказе, в частности, были такие слова: «Враг уже изведал на своей шкуре способность Красной Армии к сопротивлению. Он ещё узнает силу сокрушительных ударов Красной Армии. Недалёк тот день, когда будет и на нашей улице праздник!»
Бойцы и командиры Красной армии, весь советский народ уже вскоре после ноябрьских праздников убедились в справедливости и обоснованности этих утверждений. 19 ноября 1942 года началось мощное контрнаступление советских войск под Сталинградом. Оно проводилось силами трёх фронтов: Юго-Западного, Сталинградского и Донского. Тщательно продуманное, хорошо спланированное и достаточно обеспеченное материальными ресурсами, 23 ноября оно завершилось, несмотря на отчаянное сопротивление фашистов, блестящей победой – полным окружением огромной трёхсоттысячной армии Паулюса. Сразу же после этого части Красной армии продолжили своё движение на запад, уничтожая и громя фашистские войска, пытавшиеся деблокировать окружённую группировку. К середине декабря 1942 года линия внешнего фронта Красной армии проходила на расстоянии 200–250 километров от взятых в кольцо фашистов.
Как-то в начале декабря, когда в медсанбат снова приехал начальник политотдела Лурье, он в беседе с Алёшкиным обмолвился, что вслед за победой под Сталинградом начнутся активные действия и на других фронтах.
– Возможно, – говорил он, – следует ждать активных боевых действий и на нашем фронте. К этому надо готовиться.
* * *
Борис встретил приезд начсанарма Н. В. Склярова и армейского хирурга Брюлина, вернувшегося на своё место, взамен отозванного в распоряжение сануправления фронта Ю. О. Зака, как проверку готовности медсанбата к новым боевым операциям большого масштаба.
Тщательно обследовав расположение батальона, его подъездные пути, состояние палаток, ознакомившись со сборно-щитовым домом, в котором уже была размещена часть раненых, лечившихся в госпитальном взводе, осмотрев щитовую, малую операционную и упакованные, готовые к погрузке на машины, остальные щитовые строения, а также ознакомившись и практически проверив качество нового санпропускника, Николай Васильевич Скляров за ужином выразил своё одобрение всему, что было сделано Алёшкиным на должности командира медсанбата, и, между прочим, сказал:
– Ну, товарищ Брюлин, за 24-й медсанбат мы можем быть спокойны. Я полагаю, что, если мы на товарища Алёшкина ещё поднажмём, так он будет в состоянии разместить в своих щитовых домах до восьмисот человек раненых. Следовательно, в первую очередь нам надо будет эвакуировать их из 54-го медсанбата и из медроты 55-й бригады, у них ёмкость значительно меньше. Так-то вот, – продолжал начсанарм, заметив попытку Алёшкина что-то возразить, – и не возражайте! Распакуйте свои фанерные дома и побыстрее разверните их. Начало боевых операций не за горами, и к этому надо как следует подготовиться. Если они будут развиваться успешно, то мы вас всё равно с места трогать не будем, пока вы не разгрузитесь от раненых полностью. Ваше место впереди займут госпитали первой линии. Мы свою госпитальную базу делим на две части – одна остаётся на месте и будет принимать раненых, поступающих из медсанбата, в том числе некоторое количество и от вас, а вторая с началом операции свернётся и по мере успешного продвижения армии вперёд пойдёт за наступающими частями.
– А когда начнётся наступление? – не выдержал замполит Фёдоров, присутствующий на ужине.
– Ну, этого я сказать не могу, сам ещё не знаю… Очевидно, скоро! Мы, во всяком случае, должны быть готовы хоть и на завтра.
Поздно вечером Скляров и Брюлин уехали из медсанбата. На прощание начсанарм пожал Алёшкину руку и сказал:
– Так я на тебя надеюсь, не подведи! Успешное обеспечение операции важно и для тебя!
* * *
Что на фронте идут приготовления к новой и, по-видимому, большой битве, Борис знал и из других источников. Его плотники, заготавливавшие лес для фанерных домов, всё чаще натыкались на ближайших к санбату участках леса на новые, совсем не известные ранее, войсковые части. Один раз видели даже «Катюши».
Говорил о поступающем пополнении в дивизию и комдив Ушинский, последнее время часто ездивший на совещания в штаб армии, а также Лурье, да и начхоз Прохоров замечал значительное число тыловых подразделений, появлявшихся на армейских складах.
Предполагалось, что это признаки очередного пополнения 8-й армии. Об истинном положении дел, если кто из вышестоящих начальников и знал, то пока держал это в секрете.
Задание, полученное от начсанарма, и отрывочные сведения из других источников заставили Алёшкина думать, что в скором времени стоит ждать больших серьёзных боёв за Ленинград, и медсанбат должен оказаться во всеоружии.
Повторения неудач, как во время августовской попытки прорвать блокаду, ни начсандиву, ни командиру медсанбата никто не простит, какие бы объективные причины ни оправдывали их. Видимо, начсанарм допускал мысль, что причины могут быть. Если вывоз раненых из медсанбата опять не удастся наладить достаточно быстро и хорошо, на этот случай в батальоне нужно было обеспечить возможность содержания до восьмисот раненых (при штатной положенности – 80 человек).
После отъезда Склярова Алёшкин немедленно приступил к действию. Он справедливо рассуждал: «Раз речь идёт о восьмистах раненых, то их может быть тысяча, и больше, а ведь сейчас не август, а декабрь – под кустиками раненых не положишь!» Так он и говорил на совещании командиров подразделений батальона в этот же день.
Никто из присутствующих даже не задумался над вопросом, как справится личный состав медсанбата с обработкой, а затем и обслуживанием такого большого количества раненых. Санбатовцы уже так хорошо знали работоспособность врачей, медсестёр, дружинниц и санитаров, что об этом не размышляли. Все говорили только о помещениях, необходимых для размещения будущих раненых.
После подсчёта выяснилось, что использование всего годного палаточного фонда и всех сделанных сборно-щитовых домов позволит с некоторой натяжкой, то есть с определённой перегрузкой, разместить человек 750. А Алёшкин прямо сказал, что нужно готовить помещения на тысячу, и с учётом нахождения раненых на неопределённое время, может быть, даже до месяца.
После споров и обсуждения различных предложений, решили мобилизовать всех плотников, санитаров и выздоравливающих и в течение 10–15 дней в районе расположения эвакоотделения построить два бревенчатых барака-полуземлянки с общими нарами, каждый вместимостью 150 человек. В них предполагалось размещать всех легкораненых, подлежащих первоочередной эвакуации, конечно, после соответствующей хирургической обработки. Там же производить им и необходимые перевязки.
Со следующего же дня все свободные от нарядов санитары и группы выздоравливающих направлялись на заготовку необходимых лесоматериалов. Рубку леса пришлось вести почти за три километра от батальона. К счастью, на этом участке леса никаких воинских частей пока не стояло.
Кроме того, решили извлечь из-под снега весь материал – брусья, брёвна, доски и кровельное железо, оставшееся от разрушенных бараков в рабочем посёлке Александровка, где когда-то стоял медсанбат, и была фашистская бомбёжка. Прохоров сумел выпросить у артиллеристов двух лошадей. На санях они могли доставлять довольно много груза.
В общем, к новому, 1943 году намеченные бараки были сооружены, обиты изнутри утеплениями от списанных палаток, в них установили железные печки. В новые помещения доставили соломенные тюфяки и подушки (солому откуда-то из-под Жихарева привёз Прохоров, причём не обошлось без стычки с какой-то тыловой частью, окончившейся в пользу медсанбата). Постели закрыли простынями и одеялами.
По требованию Зинаиды Николаевны Прокофьевой от сплошных нар отказались, а сделали нары на восемь человек: четверо внизу и четверо на втором ярусе, с проходом между ними около полуметра. Это сократило ёмкость бараков до ста мест в каждом, но зато врачам и сёстрам стало удобнее обслуживать раненых.
Пока всё это стояло в девственной чистоте и неприкосновенности. Ко всем палаткам, домикам и баракам прикрепили специальных фельдшеров, сестёр, дружинниц и санитаров. Каждый врач госпитального взвода отвечал за определённую группу помещений. Было намечено после сокращения потока раненых усилить врачебный персонал госпитального взвода за счёт операционно-перевязочного.
К 10 января 1943 года в медсанбате находилось около тридцати раненых в госпитальных палатках и 25 человек выздоравливающих. Суточное поступление составляло три-пять человек, эвакуация из батальона происходила своевременно.
* * *
Под Новый год в 65-ю стрелковую дивизию приехала группа артистов Ленинградских театров. По приказанию замполита дивизии их разместили на постоянное жительство в медсанбат. Прожили они около недели и за это время объехали с концертами все части дивизии, дали концерт и в штабе.
В последний день своего пребывания артистическая бригада решила устроить концерт для личного состава батальона и находящихся на излечении раненых, он всем очень понравился. Затем артистов пригласили на ужин. Там опять некоторые из них пели, причём совсем новые, не известные медсанбатовцам песни. Один певец под аккомпанемент баяна исполнил очень понравившуюся всем песню «Споёмте, друзья», а другая пела «Землянку».
Вместе с этой бригадой по частям дивизии ездил и московский лектор, имевший звание старшего батальонного комиссара. Это был пожилой, но совершенно штатский человек, в армию призванный совсем недавно, а в действующих фронтовых частях очутившийся впервые. Обычные фронтовые будни в виде периодических артиллерийских обстрелов, свиста снарядов и их разрывов на расстоянии полукилометра с непривычки казались ему очень страшными. Жил он в штабе дивизии в землянке начполитотдела, где все эти звуки были хорошо слышны, потому что и на самом деле всё это происходило очень недалеко.
Лектор, как и бригада артистов, находился в расположении дивизии последний день и на этот раз ночевал в медсанбате. Концертная бригада, их было человек пятнадцать, жила в одной из звакопалаток, лектора решили поместить в бревенчатый старый пустовавший домик, бывшее жильё командира батальона.
Он, как потом говорил, впервые полноценно заснул, так как спал на настоящей постели с простынями и одеялом. Санитар, которому было поручено обслуживать гостя, подложил дров в железную печку и решил прикорнуть около неё, чтобы в течение ночи поддерживать тепло.
Все медсанбатовские строения (палатки, домики и бараки) для сохранения внутри более или менее нормальной температуры в зимнее время требовали непрекращающейся топки: на улице стоял мороз более 25 °С. Для этого обычно выделялся один санитар на две-три палатки, который в течение ночи следил за тем, чтобы печи не погасли. В жилых палатках и домиках для этого назначали дежурных из проживающих, домики врачей и командиров подразделений обслуживали специально выделенные санитары. Днём отоплением занимался работающий персонал. Пустовавшие палатки и другие помещения протапливались один-два раза в сутки, в зависимости от наружной температуры. В пустом старом домике комбата, бывшем в резерве, также давно не топили. Решив поселить туда на сутки московского лектора, Алёшкин приказал выделить специального человека и как следует протопить печку, это и было сделано. К приезду гостя на ночлег железная печь была раскалена почти докрасна, и в домике стояла жара.
Улёгшись в постель и увидев, что санитар укладывается на полу около печки, старший батальонный комиссар спросил:
– А вы что, тут спать собираетесь? Разве у вас своей постели нет?
– Как нет, есть! Я живу в бараке, но ведь за печкой-то смотреть надо! А то к утру, когда она остынет, вы замёрзнете.
– Да что вы, товарищ красноармеец, где тут замёрзнуть? Жара, как в бане, а вы вон ещё дров полную печку наложили! Ступайте себе в свой барак. До утра я не замерзну, а утром придёте, если печка погаснет, разожжёте её. Ночью я, может быть, сам встану и дров подкину, если мне холодно будет.
Санитар ещё некоторое время колебался: старшина уж больно строго наказывал следить за печкой. Но, когда услышал повторное требование этого чудного командира в очках:
– Идите, товарищ красноармеец! – пошёл в свой барак, предварительно вновь набив полную печь берёзовыми дровами.
Почти сразу после ухода санитара лектор уснул. В медсанбате было по-мирному тихо, артиллерийская канонада редко доносилась откуда-то издалека, как слабый гром. Слышалось потрескивание от мороза деревьев, окружавших домик, а также весёлое гудение огня в раскалённой печурке, находившейся от ног спящего менее чем в метре.
Прошло около получаса, было жарко. Спящий непроизвольно сбросил с себя тёплое ватное одеяло, и край его попал на раскалённую стенку печки. Оно затлело, а через несколько минут вспыхнуло пламенем. Едкий дым, нестерпимый жар и яркий огонь разбудили лектора. Сначала он не мог понять, что происходит, но, когда заметил, что одеяло на полу превратилось в костёр, а языки пламени уже лижут стенки домика, он с криком «пожар!», закутавшись в простыню, босиком выскочил наружу.
Начавшийся пожар по дыму, выбивавшемуся из окна и отблескам пламени, исходившим изнутри помещения и хорошо заметным в темноте ночи, уже обнаружил и дежурный по батальону. Он поднял по тревоге санитаров, живших в бараке, на бегу стукнул в окошко командира медсанбата и, крикнув «пожар», бросился к горевшему домику.
Дежурным был старшина Бодров. Он подбежал как раз в тот момент, когда из домика выскочил перепуганный гость. Старший батальонный комиссар, прыгая босыми ногами по снегу, смог только протянуть руку к домику и испуганно крикнуть:
– Там! Там!..
Бодров, взглянув на пострадавшего, сразу понял, что «там» остались все его вещи. Не раздумывая, он бросился в горящий домик. К этому времени пламя уже охватило все стены. Схватив в охапку вещи гостя, лежавшие около кровати и по какой-то счастливой случайности, не охваченные огнём, Бодров успел прихватить снаряжение с наганом и полевую сумку и, задыхаясь, получив несколько ожогов лица и рук, выскочить на улицу.
К этому времени около пылавшего домика собралось почти всё население медсанбата. Был уже тут и Алёшкин. Вместе с Прохоровым они руководили деятельностью санитаров, дружинниц и остальных, пытавшихся забросать снегом горевшее строение. Снег бросали лопатами, вёдрами, тазами и просто руками.
Минут через двадцать пожар был ликвидирован. Обгоревший остов домика сохранился, но всё, что находилось внутри – постель, стол, табуретка, часть разложенных на столе бумаг и оставшиеся под кроватью новенькие хромовые сапоги гостя, сгорело.
Пострадавшего сразу же увели в госпитальную палату, уложили в постель, обтёрли озябшие ноги спиртом и укрыли тёплыми меховыми одеялами. Туда же Бодров принёс всё спасённое им имущество.
Первое, что сделал лектор, – схватил гимнастёрку и засунул руку в её левый нагрудный карман. Его партийный билет был на месте и не повреждён! Он с чувством пожал Бодрову руку и сказал:
– Товарищ старшина, я вам обязан больше, чем жизнью, вы спасли мою партийную честь! Ведь выскакивая из горящего домика, я, прежде всего, должен был подумать о спасении своего партийного документа, тем более что гимнастёрка-то лежала рядом со мной!
Бодров, между тем, решил сразу же начать расследование дела. Он понимал, что за это происшествие могут строго спросить и с него, как с дежурного, и с командира батальона.
– Как случился пожар? Почему дежурный санитар оставил без присмотра печку? – спросил он гостя.
Тот ответил:
– Во всём виноват я сам, я его отправил спать.
– Почему же он мне ничего не доложил? – снова спросил Бодров.
Конечно, на этот вопрос лектор ответить не мог. В наказание за своё легкомыслие, а вернее, неосведомлённость в обращении с железными печурками, пришлось старшему батальонному комиссару возвращаться в Москву не в щёгольских сапожках, а в залатанных валенках (новых на складе медсанбата не оказалось).
Алёшкину, Фёдорову, Прохорову и дежурному старшине Бодрову пришлось спустя три дня пережить несколько неприятных часов, пока следователь Особого отдела дивизии расследовал это происшествие. Очень помогло письменное заявление уехавшего московского гостя, которое он написал по просьбе Бориса и в котором более подробно изложил события. Помогли и свидетельские показания врача и медсестры госпитальной палаты, присутствовавших при разговоре Бодрова с пострадавшим.
В результате расследования, которое впоследствии было утверждено командиром дивизии, комбату предложили улучшить организацию мер пожарной безопасности: завести багры, топоры, лопаты, которые следовало хранить в определённом месте. Кроме того, нужно было получить в обменном дивизионном пункте несколько огнетушителей и разместить их на всей территории батальона. Раньше этот инвентарь и огнетушители имелись только в расположении автовзвода и склада горючего. Пока шофёры с огнетушителями прибежали к месту происшествия, пожар был уже ликвидирован.
Командиру медсанбата предлагалось наказать своею властью санитара за то, что он, хотя и по приказу старшего командира, оставил пост и не доложил о об этом своему непосредственному начальнику, старшине Бодрову. Санитар получил три наряда вне очереди.
В начале января 1943 года в батальоне произошло ещё одно не совсем обычное происшествие. Дело в том, что уже несколько недель специальные командиры из штаба армии обследовали все тыловые армейские и дивизионные учреждения для поиска годных к строевой службе и осевших на складах, в различных мастерских, обменных пунктах и лечебных учреждениях, чтобы направить их в окончательно поредевшие строевые подразделения. В медсанбате таких людей находилось не так уж мало, и они для его работы, особенно в напряжённый период, были совершенно необходимы, поэтому и Алёшкин, и командиры подразделений ждали прибытия армейского представителя с большой тревогой. До сих пор такая чистка тылов проводилась работниками штаба дивизии, с которыми командование батальона всегда находило общий язык. Теперь за это взялся штаб армии. Кроме того, говорили, что полковник, назначенный по группе соединений, в числе которых была и 65-я стрелковая дивизия, отличался особой принципиальностью и придирчивостью. Он уже успел основательно пошерстить тылы других дивизий, склады и обменный пункт 65-й дивизии.
Борис по-прежнему нёс дежурства в операционно-перевязочном блоке наравне с остальными хирургами и, хотя раненых поступало очень мало, всё же в дежурство обычно выпадали одна, а то и две, операции. Как правило, дежурил он вечерами. Так было и в этот день.
Часов около шести вечера он закончил оперировать красноармейца, получившего тяжёлое ранение в правую голень с размозжением костей и мягких тканей и имевшего, кроме того, обморожение части стопы, что потребовало ампутации конечности на уровне средней трети голени. Боец получил ранение при возвращении из разведки, подорвавшись на противопехотной мине, он более двенадцати часов пролежал на нейтральной полосе в снегу. Это был молоденький парень, откуда-то из-под Костромы, который, не осознавая тяжести своего положения, слабым голосом с упором на «о» просил:
– Доктор, ты уж мне ногу-то оставь, а? Оставь ногу-то.
И Алёшкину было очень не просто объявить этому парню свой окончательный приговор:
– Нет, дорогой, часть ноги придётся всё-таки убрать, и надо это делать поскорее – чем дольше будем ждать, тем больше отрезать придётся.
Говорил он и ещё много разных успокаивающих слов, а в душе переживал за этого молодого тракториста, понимая, что другого выхода нет. В конце концов, и он, и помогавшая ему Катя Шуйская уговорили раненого.
И вот операция была завершена. Она прошла хорошо, теперь Борис не сомневался, что паренёк будет жить и, может быть, проживёт много лет, но в то же время было горько, что всё-таки из-под его рук вышел калека…
Как всегда, после таких операций Алёшкин закурил и вышел из палатки на морозный воздух. Приподняв голову, он увидел бежавшего по дорожке начальника штаба, лейтенанта Скуратова, дежурившего в этот день по батальону. Тот, на ходу, запыхавшись, докладывал:
– Товарищ комбат, там прибыл этот полковник, армейский, который по чистке-то. Узнав, что я начальник штаба, он велел срочно представить списки личного состава и направился в ваш домик.
Борис поморщился:
– Эх, чёрт, этого ещё недоставало! Теперь с ним всю ночь торговаться придётся. Хоть бы суметь сохранить необходимые кадры! Считают нас тыловиками, а того не понимают, что без здоровых и сильных санитаров вся наша работа насмарку пойдёт!
Алёшкин вернулся в операционную, снял с себя халат, шапочку, надел шинель, шапку и ремень.
– Катя, проследи, чтобы раненого в госпитальную положили, да предупреди о нём Зинаиду Николаевну. Ко мне опять начальство пожаловало! – крикнул он Шуйской, помогавшей перевязочной сестре, которая накладывала повязку и шину на культю.
Довольно спокойно направился он к своему домику. Работал Борис в большой операционной, малая была временно законсервирована (экономили топливо), и поэтому идти ему было метров двести. На пути рос довольно густой сосняк, закрывавший обзор, и Алёшкин увидел свой домик лишь тогда, когда находился от него в двадцати шагах. То, что предстало перед глазами, привело его в ужас.







