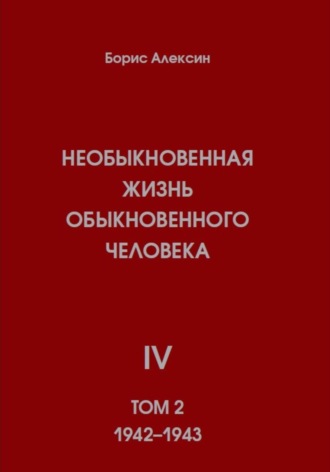
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 4. Том 2
Одним словом, теперь, после этих боёв Алёшкин почувствовал себя на твёрдых ногах. Он понял, что экзамен, поставленный перед ним жизнью, он и как командир батальона – организатор медслужбы, и как ведущий хирург, сам активно оперирующий, выдержал.
«Вот только как оценят мою работу в санотделе армии? Оттуда пока никаких вестей не было, даже армейский хирург ни разу не приезжал. Хотя, впрочем, это и положительный признак, – продолжал свои мысленные рассуждения Алёшкин, – ведь он едет в первую очередь туда, где с обработкой раненых неблагополучно, а у нас, наверно, результаты неплохие. Ни со стороны эвакопункта, ни со стороны госпитальной базы армии никаких претензий не было. И Евгения Васильевна (патологоанатом) два раза приезжала, вскрывала умерших и ни одного акта о неправильных действиях хирургов не составила, значит, всё неплохо!»
Борис с наслаждением потянулся, закурил новую папиросу, и мысли его приняли другое направление.
Ещё до начала наступления стало известно, что под Сталинградом окружена огромная группировка немецких войск, что Красная армия, успешно развивая наступление, всё дальше отодвигает фронт от блокированных под Сталинградом фашистов. Попытки сильной немецкой танковой группировки прорваться к армии Паулюса оказались безуспешными и, вследствие этого, боясь оказаться отрезанными, фашистские генералы с первых чисел января 1943 года начали отвод войск с Северного Кавказа. Преследовавшие их войска Красной армии уже освободили Нальчик, Моздок и продолжают продвигаться к Краснодару.
Конечно, Борис подумал и о своей семье: «Где-то они сейчас? Куда они эвакуировались? Вернулись ли в Александровку или переселились ещё куда-нибудь?»
Перед началом боёв и он, и, по его просьбе, начштаба Скуратов пытались навести справки о его семье, но пока никаких сведений получить не удалось. В течение октября, ноября и декабря 1942 года Борис послал Кате, наверно, около десятка писем. Ни на одно из них он ответа не получил. Дошли ли до неё эти письма? Он этого не знал. Во время боёв по прорыву блокады ему было не до переписки, но теперь, когда наступало затишье, он собирался снова написать Кате и через Майский военкомат попробовать запросить информацию о семье. «Поручу это Скуратову, – подумал Алёшкин, – а сам завтра же напишу письмо». Так, с думой о своей семье он, наконец, и заснул.
На следующий день Алёшкину никуда ехать не пришлось. Совершенно неожиданно часов в девять утра в медсанбат приехал на своей видавшей виды «эмке» начсанарм, военврач первого ранга Скляров Н. В. в сопровождении армейского хирурга Брюлина.
Борис, встретив прибывшее начальство, провёл его по всем учреждениям батальона, в котором в это время находилось более четырёхсот раненых, почти половина помещений пустовала.
Оставшиеся раненые лежали в хороших, чистых и удобных фанерных разборных домиках. Естественно, в первую очередь освобождались палатки, в которых было и холоднее, и менее уютно.
После тщательного осмотра помещений, пищеблока и санпропускника начсанарм и сопровождавший его Алёшкин вернулись в домик комбата. За это время Брюлин, Бегинсон и Прокофьева обошли всех раненых, причём Брюлин тщательно ознакомился с ведением операционного журнала и историями болезней госпитализированных раненых.
Когда они втроём пришли в домик комбата, Брюлин не удержался и заявил:
– Ну, Николай Васильевич, если бы так было организовано лечение, и так велась документация в любом из наших армейских госпиталей, я уж не говорю, медсанбатов, то мы с вами могли бы спать спокойно.
Тот усмехнулся:
– Вот потому-то мы и спим беспокойно, что не умеем организовать всю работу как нужно.
– Да ведь они сами, сами всё организуют! За время боёв я к ним ни разу не наведывался.
– За это их и награждают, – снова улыбнулся Скляров, указывая на блестевшие эмалью новенькие ордена Красной Звезды, красовавшиеся на гимнастёрках Прокофьевой, Бегинсона и только что вошедшего Сангородского, который явился с посланным за ним Игнатьичем.
Между тем начсанарм, вернувшись после обхода батальона, приказал собрать весь свободный от дежурства личный состав. Борис попросил Льва Давыдовича срочно подготовить к собранию одну из своих палаток, а Игнатьича отправил к Фёдорову с просьбой организовать явку людей, когда все соберутся, доложить.
Медсанбатовцы привыкли по команде собираться быстро, а так как уже несколько дней ходили слухи, что медсанбат скоро должен будет переезжать на новое место, зная, с какими трудностями связан переезд, люди понимали, что следует собраться как можно быстрее. Поэтому не прошло и четверти часа, как капитан Фёдоров доложил, что весь свободный от работы народ находится в сортировке.
На собрании Николай Васильевич Скляров коротко рассказал о проведённой боевой операции, доложил о том, что командование фронта и сануправление остались довольны действиями медслужбы 8-й армии, что среди лучших медицинских учреждений был назван 24-й медсанбат. От имени санотдела армии он объявил благодарность всему личному составу батальона и сообщил, что командир медсанбата по представлению штаба армии командованием Волховского фронта награждён досрочным присвоением очередного воинского звания. С этими словами он вынул из планшетки копию приказа по фронту. В этом документе значилось, что военврачу третьего ранга Борису Яковлевичу Алёшкину за отличную организацию службы во вверенном ему медучреждении – 24-м медсанбате досрочно присваивается звание военврача второго ранга.
Сообщение начсанарма встретили аплодисментами, а ближайшие друзья крепко пожали руку комбата. И лишь один человек, встретившись с Борисом глазами, поздравил его горячим взглядом – Катя Шуйская.
Кстати, скажем об их взаимоотношениях ещё несколько слов. До начала боёв эти двое продолжали встречаться. Для Бориса их встречи были всегда неожиданными, и поэтому, может быть, особенно приятными, но они продолжали оставаться тайными и как бы случайными. Он не знал, кто, кроме известных лиц, подозревал об их близости, но, во всяком случае, разговоров об этом в санбате не велось. Конечно, во время боевых действий они оба были так загружены работой, что в моменты отдыха думали только о том, как бы добраться до постели и заснуть. У Алёшкина, кроме хирургической работы, было много и административной, а Катя подменяла своих наиболее слабых подруг и часто дежурила подряд по полторы, а то и по две смены.
Во время собрания начсандив, прибывший в батальон, сообщил, что он тоже награждён присвоением внеочередного звания военврача второго ранга. После собрания Алёшкин пригласил начсанарма, Брюлина, Пронина и Фёдорова на обед в свой домик. К этому времени он поручил Игнатьичу договориться с Прохоровым и поварами об устройстве праздничного обеда. За столом Николай Васильевич сказал:
– Товарищ Пронин, через несколько дней ваша дивизия отводится в армейский резерв. На передовой её заменит новое, только что прибывшее соединение. Командир дивизии Ушинский желает предоставить бойцам и командирам, старослужащим, участвовавшим в боях, за это время возможность отдохнуть в спокойных условиях. Для этого он просил меня выделить один из армейских госпиталей, чтобы превратить его на 10–12 дней в дом отдыха. Я хотел было это сделать, но осмотрев 24-й медсанбат, своё мнение изменил. В вашем батальоне сейчас имеется столько свободного места, а помещения так хорошо оборудованы, что дом отдыха можно организовать здесь гораздо легче, чем в любом из наших госпиталей. Да и территориально это будет намного удобнее. Дивизия расположится где-то в районе станции Назия, а оттуда до медсанбата значительно ближе, чем до любого госпиталя. Постельным бельём и продуктами мы немного поможем. Ну как, Борис Яковлевич, согласны? – обернулся он к Алёшкину.
– А раненые? – спросил тот.
– Ну, раненых, которых можно эвакуировать, мы, конечно, заберём, а нетранспортабельных придётся доводить до конца. Кстати, товарищ Брюлин, сколько у них таких?
– По-моему, человек около пятидесяти, не больше будет.
– Ну, вот и замечательно! Значит так, Борис Яковлевич, в течение трёх дней мы «очистим» медсанбат, ещё два дня на подготовку… Наверно, как раз к тому времени произойдёт смена частей на фронте. Так что, товарищ Пронин, доложите комдиву, что через пять дней он может отправлять в медсанбат первую партию отдыхающих. А вам, товарищ капитан, – сказал Скляров, обращаясь к Фёдорову, – надо связаться с политотделами дивизии и армии и обеспечить хорошую культурную программу отдыхающим. Да, товарищ Алёшкин, на вас ляжет ещё и вторая задача. Новое соединение занимает место 65-й дивизии временно, развёртывать свой медсанбат оно не будет, да он у них ещё полностью и не укомплектован, поэтому раненые из этого соединения будут поступать к вам, придётся их обрабатывать. По-видимому, их будет мало, операционный блок справится без труда. Одной палатки под госпитальную вам хватит. Эвакуировать мы будем бесперебойно. Вот и всё! Ну, товарищ Брюлин, нам пора, мы хотели ещё в 51-й медсанбат заехать, а уже темнеть начинает… Спасибо за угощение! Да прицепляйте скорее вторые шпалы, – пошутил Николай Васильевич, пожимая на прощание руки Бориса и Пронина.
Проводив начсанарма и обсудив с Прониным, Фёдоровым и остальными своими помощниками план быстрейшего приспособления батальона для выполнения новой задачи, Борис, наконец, остался один. Было уже совсем темно. Игнатьич унёс посуду на кухню и, как это часто бывало, там и задержался. Лишь Джек лежал у ног сидевшего за столом Алёшкина и, положив голову на лапы, преданно смотрел на своего хозяина.
Вдруг он поднял голову, навострил уши и повернул морду в сторону комнатки Игнатьича. Борис ещё ничего не слышал, а его верный страж уже учуял, что к домику подходит хорошо знакомый ему человек. Лишь приоткрылась дверь с улицы в комнату Игнатьича, как Джек поднялся и ласково замахал хвостом. Вошла Катя. Она быстрыми, почти неслышными шагами приблизилась к Борису, крепко обняла его шею и, горячо поцеловав, прошептала:
– Поздравляю тебя, мой любимый! Я к тебе, не прогонишь?
Тот обнял маленькую женщину… Джек из скромности ушёл в отделение Игнатьича и улёгся на свою подстилку у двери. Теперь в домик не смог бы зайти ни один посторонний человек. Не будем и мы мешать этим двум людям. Сейчас они счастливы, хотя и не совсем законно…
* * *
Начиная со следующего дня, все медсанбатовцы принялись готовиться к выполнению новой, пока ещё очень необычной для них задачи. Врачи определяли, сколько раненых можно эвакуировать в тыловые госпитали – да, именно в тыловые, ведь медсанбат, по существу, выполнял функции полевого госпиталя, и находившимся в нём раненым в большинстве своём в армейских госпиталях делать было нечего. Их следовало эвакуировать для серьёзного долечивания.
Как всегда, не обошлось без конфликтов: многие раненые ни за что не хотели уезжать за пределы армии, надеясь по выздоровлении вернуться в свою часть. Вот и приходилось и комроты Сковороде, и комбату Алёшкину без конца улаживать эти конфликты, и довольно часто уступать раненым, переводя их в таком случае в команду выздоравливающих.
Начхоз Прохоров, побывав в штабе армии, договорился с начальником тыла дивизии о получении с армейских складов значительной партии белья и обмундирования, чтобы выдать его отдыхающим сразу после санобработки. Сумели они раздобыть и несколько сот комплектов нового постельного белья. Конечно, одновременно пополнили и продовольственные запасы батальона. Замполит Фёдоров, при помощи начальника политотдела дивизии Лурье, добился на время пребывания отдыхающих прикомандирования к медсанбату кинопередвижки и отделений полевой почты.
Санитары, дружинницы и медсёстры целыми днями благоустраивали территорию, расчищая от снега аккуратные дорожки между палатками и домиками, приводили в порядок помещения, отведённые под столовую и клуб, украсили его гирляндами из еловых веток.
К каждой палатке, предназначенной для отдыхающих, как и к фанерному дому, прикрепили специальную бригаду из медсестры, дружинницы и двух санитаров. Они занялись внутренним убранством помещений, развешивая марлевые занавески, покрашенные красным стрептоцидом или метиленовой синькой, и устраивая самодельные абажуры у лампочек. На стенах укрепили портреты Сталина и лозунги. Кроме того, санитары заготавливали необходимое топливо.
Скуратов и старшина Бодров с группой бойцов из команды выздоравливающих улучшали маскировку помещений, заменяя высохшие ветки более свежими и раскрашивая мелом части домиков и палаток, которые нельзя было спрятать под ветками.
Между тем сортировка, операционно-перевязочный взвод и часть госпитального продолжали оказывать необходимую помощь раненым, прибывавшим с передовой. К счастью, их поступало очень немного.
Прошло пять дней, и в медсанбат приехал комдив, замполит и начсандив. Эта авторитетная комиссия осмотрела все приготовления, одобрила их и вынесла заключение, что с 1 марта 1943 года медсанбат может начать приём отдыхающих. Вместе с Алёшкиным они подсчитали, что одномоментно батальон сможет принять около четырёхсот человек, создав отдыхающим вполне благоприятные условия. Как предполагал комдив Ушинский, на отдых и пополнение дивизии будет дано не более одного месяца. Чтобы охватить весь состав старослужащих, нужно провести не менее 9–10 смен, поэтому, видимо, смену придётся ограничить четырьмя сутками. Впоследствии приказом и был установлен такой срок. До 1 марта оставался один день.
Вечером 28 февраля 1943 года Борис и его ближайшие помощники долго сидели и рассуждали о предстоящей работе. Всех беспокоило, как организовать хороший отдых бойцам и командирам, для многих неожиданный, в совершенно непривычных условиях, в самый разгар войны.
До сих пор персоналу батальона приходилось иметь дело с ранеными, иногда очень тяжёлыми. Они, целиком поглощённые теми страданиями, которые причиняло само ранение, а многие – ожиданием того, каковы будут его последствия, почти не обращали внимания на окружающую обстановку. Во врачах, медсёстрах и санитарах они видели людей, способных облегчить их боль, поэтому беспрекословно им подчинялись, а некоторые просто и не были в состоянии активно реагировать. Их лечили – оперировали, перевязывали, делали необходимые инъекции и затем эвакуировали в следующее лечебное учреждение. Всё было просто и понятно, так же понятно и просто всё было и для медперсонала. Санбатовцы знали, что обязаны приложить всё своё умение и знания, чтобы оказать помощь каждому раненому, ласковым словом утешить, а иногда и спасти ему жизнь. Как только этот раненый получал возможность эвакуироваться или возвратиться в часть, медперсонал с ним спокойно расставался. На смену этим раненым приходили новые, иногда ещё более тяжёлые.
А тут было совсем иное дело: здоровые люди прибывали в медсанбат, чтобы отдохнуть. Конечно, им могут потребоваться, кроме хороших постелей, чистого белья и вкусной еды, различного рода развлечения, положенные на отдыхе.
После многих разговоров и обсуждений решили, что каждый из командиров подразделений возьмёт на себя определённый участок работы и строго его будет контролировать. Сангородский отвечал за организацию санобработки, Прокофьева – за порядок и чистоту в помещениях, Прохоров – за питание, замполит Фёдоров – за организацию самодеятельных концертов, хотя бы по одному на каждую смену. Естественно, что общее руководство работой всех звеньев лежало на Алёшкине.
Скуратову поручили обеспечение надежной охраны батальона, задействовав для этого санитаров и выздоравливающих.
1 марта с восьми часов в батальон начали приезжать машины с отдыхающими. Всего прибыло двенадцать машин ЗИС-5 в течение 4–5 часов, и потому каждой новой партии ожидать своей очереди на помывку почти не пришлось.
Сразу же после санобработки, мытья и стрижки отдыхающих направляли в столовую, откуда после вкусного обеда (повара постарались), с добавками и без ограничений, группы по 30–40 человек сопровождали в домик или палатку ДПМ, где у каждого была своя койка. Койками служили обыкновенные носилки или топчаны с тюфяком и подушкой, набитыми сеном. Но всё это было застлано чистыми, большей частью новыми простынями, с такими же белоснежными наволочками и тёплым суконным одеялом, – то есть всем тем, чего многие бойцы и командиры, не бывавшие в госпиталях, не видели чуть ли не с начала войны.
Конечно, после сытного обеда, да в такой постельной роскоши каждому захотелось спать, тем более что в помещениях было уютно и тепло от печек. То, что многие проспали ужин и кино, которое крутили в столовой, превращённой на это время в клуб, никого не удивило. Но когда многие из отдыхающих не явились на следующий день к завтраку, медсёстры встревожились, вслед за ними забеспокоились и врачи. К Алёшкину начали бегать то один, то другой с вопросом, не заболели ли все их отдыхающие.
Заволновался и сам комбат. Он направился в так называемую офицерскую палатку, где разместили командиров взводов, рот, батальонов и политруков. Там, увидев старшего лейтенанта, сидевшего за столом и что-то старательно писавшего, Алёшкин стал его расспрашивать и получил совершенно неожиданный ответ:
– Товарищ военврач второго ранга, сразу видно, что вы в шкуре бойца на передовой не были! Знаете, о чём не только красноармейцы, но и командиры говорили, когда увидели ваши постели? «Ох и отосплюсь же я, братцы! За все полтора года». Да, и на самом деле, ведь многие с начала войны спали на ходу, прямо на снегу, в сырых окопах, а иногда и в болотах, в грязных землянках, по неделям не только не раздеваясь, а даже и не разуваясь. А тут, после вашей замечательной бани и роскошного обеда они на этих постелях, наверно, целые сутки спать будут. И не будите вы их, сон сейчас – самый лучший отдых. Я и сам бы спал, да вот, обещал начподиву (начальник политотдела дивизии – Прим. ред.) статейку для газеты написать о первом дне отдыха. Закончу и опять завалюсь. А насчёт еды не беспокойтесь: они, как отоспятся, своё съедят, и даже с избытком!
Алёшкин невольно вспомнил невесёлую жизнь в сырой землянке, когда дивизия дралась под Невской Дубровкой, когда сквозь щели в накате на их нары беспрерывно капала грязная вода, а на полу землянки никогда не просыхали большие лужи, и молча согласился со словами своего собеседника. После этого он сам перестал волноваться и успокоил врачей и сестёр. Вызвав начхоза Прохорова, он приказал ему держать на кухне в любое время суток горячую пищу и чай.
Более пяти недель работал в медсанбате дивизионный дом отдыха. Все бойцы и командиры, побывавшие в нём, нахваливали прекрасное чуткое обслуживание, они оставили много устных и письменных благодарностей медперсоналу батальона. В дивизионной газете «На боевом посту» было опубликовано несколько статей про дом отдыха, в которых тоже были хорошие отзывы о нём и его организаторах – командире медсанбата Алёшкине и замполите Фёдорове.
Конечно, всё это время батальон выполнял и свою основную функцию – приём и хирургическую обработку раненых, правда не из своей дивизии. В среднем в день поступало 12–15 человек. Большинство обработанных немедленно эвакуировалось, так что нагрузка на батальон была незначительна. В операционном блоке Бегинсон и Картавцев со своими бригадами вполне справлялись, и лишь изредка к ним присоединялся комбат.
За эти пять недель, пока старослужащие дивизии поочерёдно отдыхали, в неё поступало пополнение, в большинстве своём – недавно призванная молодёжь, и потому командный состав, остававшийся в частях, ежедневно подолгу проводил с ними занятия.
Получил пополнение и медсанбат, главным образом за счёт девушек и женщин – сандружинниц. С работой медиков они были почти не знакомы, и врачам батальона тоже пришлось проводить с ними регулярные занятия, начиная с самых азов. Одновременно часть прежних дружинниц, за время работы в санбате уже довольно хорошо освоивших навыки и знания среднего медицинского работника, приказом по дивизии перевели из санитарок в медсёстры.
* * *
В середине апреля 1943 года в дивизии весь личный состав получил погоны, а интендантский, инженерный и медицинский персонал – новые воинские звания.
Врачи – Прокофьева, Сангородский, Бегинсон, начсандив Пронин и Алёшкин – стали майорами медицинской службы. Их погоны – с двумя просветами и с одной большой звёздочкой посредине, в верхнем крае погона крепилась медицинская эмблема. Такая же эмблема прикреплялась и на петлицы гимнастёрки и шинели. Форма петлиц была тоже изменена. Погоны всем выдавались полевые, то есть тёмно-зелёного цвета, просветы – красного цвета.
Сковорода и Картавцев стали капитанами медслужбы, их погоны имели один просвет и четыре маленькие звёздочки. Остальные врачи получили звание старших лейтенантов медицинской службы. Такое же звание получили и старшие сёстры: Наумова – старшая операционная сестра, Кожевникова – старшая сестра сортировочного взвода и старшая сестра госпитального взвода. Остальные операционные сёстры стали лейтенантами и получили погоны с одним просветом и двумя звёздочками.
Палатные сёстры госпитального взвода, эвакоотделения и перевязочные из операционного взвода получили звание старшин, старших сержантов и просто сержантов медицинской службы по представлению своих командиров. Их погоны имели поперечные нашивки красного цвета, разной ширины и разного количества. Только у старшин погоны имели одну поперечную нашивку шириной два сантиметра и от неё продольную, до конца погона, шириной полтора сантиметра.
Стали капитанами и получили соответствующие погоны замполит Фёдоров, начальник штаба Скуратов, начальник снабжения Прохоров, начальник медснабжения Чернов и другие. Рядовой состав – санитары, дружинницы, шоферы, повара, писари и другие – получали погоны без каких-либо знаков.
Надо отметить, что у строевого и политического состава звёздочки на погонах были золотистыми, а у медицинского персонала и интендантов – серебристые. Всем говорили, что эти погоны – только для бойцов и офицеров (как с тех пор стали называть всех командиров), находящихся в действующей армии. Для солдат и офицеров, служивших в тылу и носивших так называемую парадную форму, погоны были золотыми – для строевого и политсостава, а для медиков и других вспомогательных родов войск – серебряными.
Новая форма, так же, как и новые звания, с которыми теперь приходилось обращаться друг к другу, первое время вызывали немало ошибок, недоразумений и подшучиваний, но ко всему этому довольно скоро привыкли.
Как только стало известно, что фашисты оставили Северный Кавказ, и появилась возможность выяснить судьбу семьи, Борис снова начал бомбардировать письмами Александровку. По его просьбе продолжал регулярно запрашивать о семье Алёшкина и начальник штаба Скуратов.
Не получая ответа от Майского райвоенкома, Скуратов предположил, что они могли эвакуироваться куда-то в Сибирь или Среднюю Азию. Поскольку деньги по аттестату штаб продолжал переводить Майскому райвоенкому, то он решил выяснить этот вопрос. На последний запрос в конце мая пришёл ответ, что Екатерине Петровне Алёшкиной по аттестату выплачена вся задолженность и в дальнейшем она будет получать деньги регулярно. В письме было указано, что в настоящий момент семья Алёшкина находится в Александровке. Этот ответ утвердил Скуратова в мысли о том, что она куда-то эвакуировалась, а затем вернулась в Майский район Кабардино-Балкарской АССР.
Спустя несколько дней пришло письмо и от самой Кати. Она писала, что они живут неплохо, хотя за время нахождения немцев на Северном Кавказе им досталось порядочно. Получение сравнительно большой суммы, сложившейся из задолженности по аттестату, позволило ей подкормить детей, теперь стало легче. Писала она, что работает на Крахмальном заводе, что все здоровы. В этом письме была небольшая записка от Элы и даже пара каракулек от Нины. К удивлению Алёшкина, жена ничего не сообщила о том, где они были во время эвакуации.
Несколько дней Борис ходил героем по батальону и перед всеми своими друзьями хвастался этим письмом. То, что семья его уцелела, вернулась из эвакуации на своё постоянное место жительства, все считали большим счастьем, ведь до сих пор очень многие из окружения Бориса не знали о судьбе родных. У Сангородского семья осталась в Одессе, никаких сведений о ней пока получить не удалось, в Одессе ещё были фашисты. Семья Сковороды жила где-то около Орла, он тоже ничего о ней не знал. Семья Игнатьича осталась в селении Батецком Ленинградской области, которая пока находилось в руках немцев.
Между прочим, Борис и его приятели предполагали и другую возможность: немцы всё-таки не сумели добраться до Александровки, и, захватив Прохладное, Нальчик и Майское, о чём в своё время сообщалось в сводках Совинформбюро, дальше на восток продвинуться не смогли. Борис не мог представить, что его семья, хотя и недолго, но жила на оккупированной немцами территории, Катя об этом не писала.
Если мы вспомним, в то время к бойцам Красной армии, попавшим в плен и уцелевшим, по инициативе Берии и его окружения все относились с подозрением и предубеждением. Точно такое же отношение было и к тем, кто проживал на оккупированной территории и остался в живых. Письма жены и немного неясные сведения из военкомата заставили Бориса думать, что, к счастью, его семья избежала этой участи, а, следовательно, перед советской властью они вполне чисты. Напомним, что сведения о пребывании в оккупации семьи военнослужащего неблагоприятно отражалось на отношении высшего начальства и к нему самому. Только после смерти Сталина, ареста и разоблачения Берии ситуация поменялась. Тогда же это, конечно, вызывало тревогу, поэтому Алёшкин не стал уточнять, были всё-таки немцы в Александровке или нет.
Между тем встречи Бориса и Кати Шуйской продолжались, и он чувствовал в них всё большую необходимость. После получения письма от жены Борис тем не менее сказал Шуйской о том, что им, видимо, надо расстаться. Она ничего не ответила.
Через несколько дней, как всегда неожиданно появившись в его домике, она заявила:
– А знаете, Борис Яковлевич (несмотря на близость, Катя очень часто называла его по имени-отчеству), я рада, что ваша семья – твоя семья, твоя жена – нашлись! Это хорошо, что и она, и дети уцелели, по-видимому, им теперь ничего не угрожает. Но до конца войны ты ведь к ним не вернёшься, а значит, будешь моим. Ну, а когда эта война кончится, никто не знает. Ты ведь меня сейчас хочешь, я тебе нравлюсь, а что будет потом – кто его знает. Доживём ли мы до этого? Поцелуй меня.
На этом назревавший было между ними конфликт и окончился.
Неприглядно в этой истории выглядит наш герой, но ведь мы стараемся описывать всё так, как оно было на самом деле. Борис, хотя на какое-то время и задумался о разрыве с Шуйской, под влиянием её ласк быстро сдался. Их отношения остались прежними.
***
Одновременно с введением новой формы 65-я стрелковая дивизия закончила свой отдых, получение пополнения, а, следовательно, и учёбу, и снова была направлена на передовую. На этот раз ей достался участок обороны от посёлка Гайталово, что за «круглой» рощей, вблизи посёлка Синявино. При этом медсанбат оказался на значительном удалении от передовой – по прямой около шестнадцати километров. Начсандив и комбат понимали, что в самом ближайшем будущем батальону придётся передислоцироваться и, посоветовавшись, стали к этому готовиться.
Первым делом свернули все дополнительные помещения – палатки и домики, которые развёртывались на время наступательных боёв и на время работы дома отдыха. Всё аккуратно сложили и упаковали. Постепенно начали сворачивать и остальные службы батальона.
К началу мая санбат был готов к передислокации, она началась в середине мая, но совсем не в том направлении, куда предполагали начсандив и комбат. Они рассчитывали переезжать в район станции Назия, приблизительно на то место, где находились в период августовских-сентябрьских боёв 1942 года, даже уже вдвоём провели рекогносцировку и выбрали для батальона подходящий участок.
А произошло следующее. 65-я стрелковая дивизия, пробыв на передовой около десяти дней, совершенно неожиданно была вновь отведена в тыл и размещена в районе посёлка Путилово, в окрестных лесах и перелесках. Её снова стали укомплектовывать до полной штатной положенности и снабжать новой боевой техникой. Большая часть бойцов вместо винтовок получила автоматическое оружие, увеличилось число пулемётов и миномётов. Артиллерию с конной тяги перевели на автомобильную. В дивизии проводились самые интенсивные и регулярные занятия во всех подразделениях, в том числе, конечно, и в медсанбате. Он к тому времени переехал почти на самый берег Ладожского озера, в небольшой лесок, в трёх-четырёх километрах северо-восточнее Путилова.
Так как значительного поступления раненых не ожидалось, да его фактически и не было, то санбат развернул лишь малую операционную, одну госпитальную палатку, одну эвакуационную и необходимые хозяйственные помещения.
Дорога к новому расположению батальона от основной магистрали проходила по сухому, довольно высокому месту и, кроме трёх небольших мостиков через ручьи и канавы, другого строительства не требовала. На новом месте не стали возводить никаких жилых помещений, потому что почти для всего медицинского состава батальона, включая начальствующий состав, имелись перевозные разборные домики. Шофёров и санитаров, ранее живших в больших полуземлянках, разместили в палатках ДПМ.
Все понимали, что пребывание батальона на этом месте – дело временное, а так как дивизия тогда была занята учёбой, то в самом ближайшем будущем следовало ожидать очередное боевое задание. Санбату придётся переезжать на новое место и там развернуться по-настоящему.
Однако, прошли май, июнь, наступил июль 1943 года, а дивизия и медсанбат так и продолжали теоретические занятия и полевую подготовку. Пока о начале боевых действий ничего не было слышно.
После прорыва блокады Ленинграда в январе, ликвидации окружённой Сталинградской фашистской группировки и быстрого отступления немцев с Северного Кавказа, с Кубани, а затем и с большей части Донбасса, наступило затишье. Красная армия освободила Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, и к 1 апреля наши войска вышли на рубеж восточнее Спас-Деменска и Духовщины, отогнав фашистов от Москвы на расстояние до трёхсот километров.
После проведения таких огромных по масштабам операций войска Красной армии вынуждены были остановиться, чтобы закрепиться на освобождённой территории. В то же время фашисты, стремясь использовать летнее время для нового наступления, мобилизовав все свои резервы, в чём им помогло отсутствие второго фронта, стали готовиться к битве на Курской дуге, в расчёте окружить советские войска на Курском выступе, отрезать его у основания и выйти вновь на оперативный простор, чтобы прорваться к Москве.







