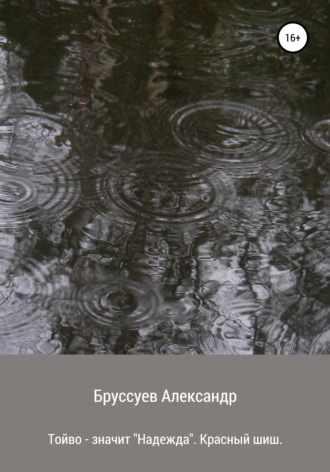
Александр Михайлович Бруссуев
Тойво – значит надежда. Красный шиш
Туомас развернулся на негнущихся ногах и ушел помогать прочим бойцам. Он не понимал, что же такого неприятного было в его словах для командира? Или он сам чего-то не догоняет? Вероятно, в нем причина, уж начальники не могут ошибаться, тем более, начальники-коммунисты, тем более, начальники-веня-ротут («русские крысы» – принятое среди фиников пренебрежительное название русских).
Так, может быть, разведка что-нибудь принесла: информацию, например, о том, что повстанцы начали спешно отступать, или нет их вообще в Кокосалми? Так не было этой самой разведки. Трофимов о ней не распорядился, Рябов посчитал, что несерьезно отправлять людей, раз все их передвижения по снегу читаются, как по книге. Зачем понапрасну по сугробам ползать, коль толку от этого никакого? Вообще-то логично: разведчик должен быть скрытен, иначе это уже чепуха получается. Пожалуй, без белых маскхалатов и широких лыж не обойтись. Какие маскхалаты, какие лыжи? Разворачиваться в атаку!
Командир приказал, бойцы сделали. Два часа разворачивались. Все по военной науке. Правда, там, в этой военной науке, весь упор на внезапность: «ошеломить противника», «подавить противника», «использовать рельеф», «выбить противника» и тому подобное.
Устали разворачиваться в боевое наступление все, даже лошади. Пушки Маклина громоздкие, для маневра, конечно, приспособленные, но для маневра в снегу – не очень. Трофимов, сука, орал так, что, вероятно, в Кремле все троцкие вместе взятые слышали.
А мятежники – молчок. Ни одного выстрела, ни одного звука вообще. Будто и нет их вовсе в обуянной бунтом Кокосалме.
Наконец, развернулись, бросились в атаку. Лишь одна тропа вела в деревню. Да и та уходила вдоль берега. По озеру – ни путей исхоженных, ни дорог изъезженных. Помчались красноармейцы, ошеломляя, подавляя, выбивая противника, используя рельеф.
Через каждые пятнадцать метров приходилось останавливаться, садиться на снег и ловить ртом сбитое к чертям собачьим дыхание. Пар от шинелей валит – мороз нипочем, вода во фляжках замерзла – пригоршнями снег в рот. И никто не стреляет.
– В атаку! – снова кричит комиссар. – За дело наше правое!
И опять побежали со скоростью полста метров в час. Всего-то километр до другого берега. А там – и вовсе победа.
Чем дальше уходили в озеро, тем меньше делалось снегу. Зато появилась вода. И это в мороз минус двадцать с лишним! Командир оглянулся на Раухалахти: стрельнуть его, что ли? Так тот, вся морда в мыле, тащит вместе с другими бойцами пушку.
– Готовить орудие к залпу! – закричал Трофимов.
Ну, стрельнули по разу. Ну, стрельнули по второму, поменяв прицел. Снаряды упали куда-то, вероятно, даже не долетев до берега, и не взорвались. Четыре залпа – результат ноль. Погода, вероятно, нелетная.
А враги молчат, ни ответа от них, ни привета, ни деликатного покашливания. Затаились, вражины.
Совсем недавно финские егеря привозили в деревню седобородого старика с целью пропаганды. Сказали, вот вам и Вяйнемейнен, а в правительстве Илмарийнен советы дает, планы строит. «Калевала» – это наш эпос, «Калевала» – это наше наследие. Не посрамим!
И хотя многие карелы знали, что старик этот – торгаш из Тунгуды, но идея понравилась. Предки, национальное движение, свобода и все такое. Зажиточные селяне и деревенщины увидели перспективы – с Советами таковых не было, там все общее. Еще памятны были пьяные Комитеты Бедноты из украинских и белорусских ссыльных, реквизиции, ничем не отличающиеся от грабежей, и прочие безобразия. Но, с другой стороны, никто не забыл бесчинства финских войск на карельской земле, пренебрежительное отношение, выстроенное государством Финляндия к ливвикам, людикам, вепсам и прочим инкери.
Тунгудский старец ратовал за объединение с Суоми, удивляясь, отчего именно эта идея, хоть и симпатичная, так осторожно воспринимается местным населением, которое не очень зажиточное. Того не понимал, артист, что доля быть младшим братом – на побегушках, лишенным голоса и волеизъявления – у России, несколько отличается от доли быть «казакку» (батраком, в переводе) у Финляндии. Каждый выбирал свою судьбу для себя сам.
А некоторые ничего не выбирали, потому что земля карельская была испокон веку, и все предки на ней жили. Пришли веня-ротут, будем с ними жить, образовались лахтарит – ну, значит, с ними. Сказали финики: «стрелять в русских» – лучше уж не стрелять. Приказали русские: «стрелять в финнов» – тоже лучше уж не стрелять. В итоге: и те, и другие в карелов – пуф-пуф. Для одних местные жители – пособники врага, для других – предатели национальной идеи.
И с той, и с другой стороны уничтожение. Кончилось время викингов, викингами теперь германцев – норвегов, шведов и датчан – величают. Викинга Добрышу Никитича, захватившему сотоварищи старинную столицу Швеции – Удеваллу, никто не помнит (об этом в моей книге «Не от мира сего 3»). Помнят Добрыню Никитича из Рязани, типа воеводы. А Добрышу из Пряжи – нет. Невыгодно вспоминать. Викингов под лед Чудского озера спускали во времена Ледового побоища, викингов крестили «огнем и мечом» в Новгороде (об этом в моей книге «Не от мира сего 4»), викингов на Рождественской гари жгли десятками. Ну, так то война была, длившееся не одно столетие. Ливонской называлась.
А теперь – что? Что делать жителям Кокосалми? А ничего, наверно. Все уже сделано за них. Егеря оборудовали прекрасные огневые точки, способные кинжальным огнем подавить любое приближение неприятеля со стороны озера. Также выставили дозор на деревьях, готовый предупредить о маневре русских в обход озера. Пока те кружным путем проходили бы, как раз хватит времени для смещения секторов обстрелов. Не кинжальный уже огонь получался, но тоже вполне эффективный.
Сделав все приготовления, егеря сделали ручкой: пора дальше лыжи вострить, восстание организовывать. Четыре человека – два пулеметных расчета, созданных из добровольцев майора Талвелла, остались. Еще двое – из местных жителей деревни – залезли на сосны. Прочие труженики деревни Кокосалми продолжали заниматься своими рутинными делами по хозяйству.
Красные, отдышавшись в очередной раз после перехода по изобиловавшему сугробами льду озера с подветренной стороны, вновь пошли в атаку. На этот раз они добрались до середины, где снега было всего лишь по щиколотку – все остальное выдуло. Они перекурили минут двадцать, комиссар Рябов поздравил бойцов с успешным форсированием самого сложного участка пути, потом сделалось холодно. Разгоряченные и вспотевшие красноармейцы начали отчаянно мерзнуть. Мороз не спадал, кажется еще усиливался.
Трофимов распорядился артиллерийским расчетам готовиться к стрельбе упреждающей. Ну, а прочим сказал: «наше дело правое, дело левое будет разбито». «Ура» просипели бойцы и пошли снова атаковать, путаясь в полах обледеневших шинелей.
Они прошли полста метров, когда в следах обнаружилась вода. Чем дальше они шли, тем глубже выступала вода. За четыреста метров до берега первый боец провалился по пояс. Те, кто пытался его обойти, тоже угодили в исходившую паром воду. Продвигаться дальше сделалось решительно невозможно.
– Приготовиться к стрельбе стоя! – просипел Рябов.
Словно услышав его команду, с берега хлопнул одиночный винтовочный выстрел. Комиссар дернулся всем телом, будто собираясь взлететь, закатил глаза и осел в воду, медленно погрузившись с головой.
– Огонь! – скомандовал себе шепотом каждый красноармеец. Да вот только стрелять из винтовки Мосина образца 1905 года на морозе, да после того, как ее в воду окунали, непросто. И если удавалось справиться с окоченелыми пальцами, чтобы взвести затвор и нажать на курок, то пружина бойка намертво смерзалась, и никакого выстрела не получалось. Про пулеметы, которые приволокли сюда и говорить нечего. Замерзла в стволах вода к едрене фене.
Ну, а лахтарит стрельнули. Финский ручной пулемет системы Лахти-Салоранта, несмотря на свою ненадежность и капризность, мог при надлежащем уходе работать и на морозе. Емкость магазина в двадцать патронов не позволяла поливать из него, как из лейки. Стало быть, и дуло не перегревалось и не развальцовывалось часто, то есть, постреливай себе и кофе попивай. Заклинит затвор, маслицем его фур-фур, пальчиками туда-сюда, снова стреляй. На войне, конечно, такое не катит, но здесь какая война?
Развернувшиеся в цепь красноармейцы, коченеющие в воде, были прекрасной мишенью. И падали они, как мишени на стрельбище. Жутко, даже самим финнам жутко. Поэтому, скосив десяток русских, пулеметчики стрелять перестали. Помахали друг другу руками, договариваясь, и сместили акцент стрельбы.
Красногвардейцы ринулись отступать. Хотелось, конечно, побыстрее, да получалось все также. Финны стрелять прекратили, опять начали выжидать, и скоро стало понятно, чего.
Двигаться обратно легче по тем следам, которые до этого проложили, но возле оставленных пушек пришлось свой маршрут изменить: опять застрочили пулеметы, опять начли хлопать меткие винтовочные выстрелы. Не пускал враг обратно на берег тем же путем. Заставлял идти к пологому – без деревьев – бережку, в стороне от тропы.
– Нельзя туда идти! – закричал, как мог, Раухалахти.
На него тупо уставились бойцы, помороженные и, в общем-то, уже безразличные ко всему. А Трофимов, все это время пытавшийся вернуть к жизни свои пушки, попытался поднять примерзший к ладони револьвер. На его черном от мороза лице двумя крупными льдинками замерзли скатившиеся из глаз слезы. Вероятно, хотел стрельнуть проклятого чухонца, но не мог.
– Там болото, – объяснил Туомас. – Оно не замерзает. Провалимся.
Однако к нему мало кто прислушался. Командир шепотом отдавал приказания: «снять замок с одного орудия», «двигаться под прикрытием другой пушки к берегу», «организовывать отступление», «собирать из оставленного орудия обоз, лошадей готовить для перемещения в тыл раненных и помороженных».
И они пошли. А Раухалахти остался, махнув рукой. Вместе с ним осталось несколько человек, тоже махнувши на все и всех руками. По ним и начали бить все финские винтовки и пулеметы.
Туомас сказал своим товарищам, что надо выждать пару часов, а когда наступит темнота, отступать по своим следам. Укрыться от стрельбы врагов за лафетом мертвой пушки, закопаться в снег, как можно глубже, свернуться калачиком и попытаться не замерзнуть.
– Под снегом всегда тепло, там можно отогреться, потому что тепло никуда не уходит. Только нельзя спать, – говорил он бойцам.
Проследив, чтобы все зарылись в снег, как тетерева, он, пересчитав количество ушедших под снег товарищей, окопался в сугробе и сам.
Действительно, в сделанной берлоге он начал отогреваться, отчего сразу же потянуло в сон. Но спать было нельзя, поэтому он начал вспоминать по именам всех своих родных, оставленных в Гельсингфорсе, боевых друзей по Териокскому отряду Красной Гвардии, соратников по Карельской трудовой коммуне. Когда же эти люди начали подходить и здороваться с ним за руку, Туомас сделал над собой усилие и открыл глаза и ничего не увидел. Он пошевелился и вылез из-под снега. Вокруг уже сделалось темно, на небе пробились первые звезды.
Надо было торопиться, пока луна не взошла и не осветила все, как днем. Раухалахти принялся ворошить сугробы, пробуждая от спячки товарищей-красноармейцев.
Из своих убежищ вылезли не все, несколько человек, вероятно сильно помороженные и очень сильно мокрые, насмерть окоченели.
Они пошли к берегу и довольно быстро оказались на нем, однако двигаться дальше на сушу не представлялось возможным без риска сделаться дезертирами. Ушедшие с командиром товарищи копошились в болотине. Орудие провалилось в болотную жижу по самые станины, и теперь оставшиеся в живых бойцы тщетно пытались его вытянуть. Бросать пушку было нельзя, потому что снять с нее замок тоже не представлялось возможным. Или вытаскивать орудие, или все равно всех потом, как саботажников, расстреляют по решению военного трибунала. Хоть караул кричи.
Раухалахти сотоварищи принялись вырубать жерди, чтобы вызволить из болотного плена красноармейцев и лошадей, а уж потом, устроив систему воротов и блоков, тащить чертову пушку.
Взошла луна, сделав мир видимым и страшным. Командир Трофимов вмерз в болото, из которого теперь торчала только его голова и одна поднятая рука. Кто-то из мертвых бойцов лежал головой вниз, оставив наружу лишь заиндевелую в шинели спину. Кто-то, начиная вязнуть, откидывал назад голову, да так и остался в неимоверной муке смотреть на безразличные небеса.
Три часа они вытаскивали пушку, а потом, погрузив на лафет и пущенные за ним дровни не способных уже идти товарищей, пошли в сторону железнодорожной станции, где за укрепленными брустверами днем и ночью несла караул военизированная охрана.
В живых из диверсионного батальона осталось всего десять человек. Всем им потом отрезали помороженные руки-ноги, всех их распустили по домам, не прислушавшись к докладам о специфике ведения боевых действий в зимних условиях бездорожья, непромерзающих болот, озер и хорошо ориентирующихся в таких условиях лахтарит. Все это зимние забавы, все это не может быть, потому что не может быть никогда.
Никогда бы не узнал об этом наступлении на Кокосалми и Антикайнен, если бы ему не рассказал один из курсантов, занимающийся в лыжной секции, Матти. Он случайно встретил в госпитале своего старого товарища Раухалахти, когда приходил навещать совершенно другого человека.
Услышанное настолько потрясло Матти, что он не мог не посоветоваться с Тойво, как командиром.
– Почему об этом никто не говорит? – спросил он. – Ведь это правда, хоть и горькая.
– Эта правда не нужна никому, – ответил Антикайнен. – Но тебе нужна, и мне – тоже нужна. И нашим товарищам без нее не обойтись. А вообще, у каждого своя правда.
– И у них? – кивнул куда-то за спину Матти.
– И у них, – вздохнул Тойво. – Культурная революция.
«Lie is the universal lubricant of the culture. A love of Truth and commitment to it were seldom rewarded and were often punished» (Dean Koontz – Breathless -).
«Ложь – это универсальная смазка для культуры. Любовь к Истине и долг перед ней редко вознаграждаются и часто наказуемы» (Дин Кунтц – Бездыханный -).
3. Восстание.
То, что «битва» при Кокосалми оказалась без всякого внимания, не являлось чем-то старательно замалчиваемым по политическим соображениям. Хотел раненный Туомас рассказывать о ней – да говори, кто тебе мешает! Хотели другие бойцы, оставшиеся живыми, поделиться своими страхами – пожалуйста.
Их, конечно, слушали. Да только кто будет прислушиваться? То, что случилось – это ужасно, это страшно, это даже как-то неправдоподобно. Упоминали о Кокосалми командиры и политработники? Говорили об этом побоище, этой бойне вожди? Нет? Газеты хоть строчку о гибели красноармейцев Трофимова написали? Стало быть, и нам нечего.
Зато у всех на слуху было другое событие. Не было ни одной посудомойки, ни одного дворника, которые бы не возмущались действиями белогвардейских палачей в карельском селе Ругозеро. Каждая газета, каждая «Правда», каждый «Труд» и каждый «Гудок» гневно клеймили финскую буржуазию в целом и «царского прихвостня Маннергейма» в частности. Впрочем, было, конечно, за что.
Пограничные части Красной Армии в Карелии были отчего-то малочисленны. Угроза от враждебно настроенной Финляндии происходила явная, но пограничники на это внимания не обращали. Ходили парами вдоль границы и стреляли во все, что подозрительно шевелится.
С другой стороны ходили тоже немногочисленные финские пограничники, тоже парами – финны вообще только парами ходят, особенность у них такая – и тоже стреляли во все, что подозрительно шевелится.
Что может подозрительно шевелиться на границе Советская Россия – Финляндия? Зверь, плохо разбирающийся в политической обстановке. Люди все вероятные маршруты передвижения малочисленных дозоров и время их выхода в дозоры давно изучили. «Где дозор?» «В дозоре».
Поэтому разномастные перебежчики старались на глаза пограничникам не попадаться. А если попадались, то залегали ни живые, ни мертвые. Может, не убьют? Может, и не убьют. Они только по шевелящимся целям стреляли.
Не было возможности у Советского Союза организовать пограничную службу: люди, что под ружьем, воюют, а вожди норовят друг у друга отжать тот или иной род войск. Оно и понятно, будет у Троцкого военный флот – кто ж его тогда тронет! Кто ж ему тогда перечить будет! Разве что Сталин, у которого в разработке артиллерийско-ракетные перспективы. Но уж никак не седоусый Каменев, похожий на моржа, пытающийся разобраться с этой самой пограничной службой.
Вот и ходили шпионы в Европы. Вот и ломились карельские коробейники, как и пятьдесят лет назад, на рынки в Кайяни и Пухос.
А тут еще праздник, четвертая годовщина Революции, политбеседы и торжество. Под такой шумок и пришли белофинны к селу Ругозеру. Погранцов они тоже не обошли стороной, когда те в парадной форме готовились к праздничным мероприятиям.
Это были не абы кто, не фанаты национальной сплоченности и братских чувств. Это был рейдовый отряд, так называемых у нас «шишей»4. Они уже месяц, как совершали забеги на советскую территорию, с начала октября 1921 года. Захватывали деревни, занимаясь агитацией и разведкой местности, а потом уходили прочь. Шиши вооружали из своих «медвежьих ям» сочувствующих и организовывали их в отряды местной самообороны.
В середине октября 1921 года в Тунгудской волости даже был создан «Временный Карельский комитет» (Karjalan väliaikainen hallitus). В его состав вошли: политический руководитель Василий Левонен – урожденный Василий Сидоров, торговец с огромной бородой лопатой, откликающийся на псевдоним «Укки Вяйнемейнен», а также парочка военных руководителей – Ялмари Таккинен и Осипп Борисайнен. Первый из них подписывал воззвания к народам под псевдонимом «Илмарийнен». Второй обходился кличкой «Самодержец».
Забегая вперед, можно отметить, что позднее Вяйнемейнена за ненадобностью погонят из национального движения, сделается он на закате лет рабочим на лесопилке возле хутора Кесусмаа. И никто и никогда больше от него не услышит никаких лозунгов и воззваний. Политика – неблагодарное дело. Прочие двое, как и положено ставленникам государства, начнут другие карьеры на другом поприще но с обязательным «душком провокационности».
Комитет же первым делом объявил мобилизацию мужчин в возрасте от 17 до 40 лет, в проведении мобилизации принимали посильное участие финские офицеры и финские солдаты. Как обычно, любая мобилизация проходила под угрозой оружия: желанием играться в войнушку карелы горели не очень.
Захватом Ругозера начались боевые действия очередной «племенной войны» на Северо-Западе Советской России. В канун праздника, 6 ноября 1921 года, в восточную Карелию вторгся отряд численностью в две с половиной тысячи человек, разбившийся на несколько маневровых групп.
По устоявшемуся обычаю канун праздника зачастую больше насыщен и деловит, нежели сам праздник. Что 7 ноября? Утром в праздничной форме выйти на демонстрацию, выслушать с трибуны поздравительные слова, пройтись в колонне сто-двести метров, крикнуть «ура» и идти похмеляться. А вот накануне…
Посидеть с товарищами в актовом зале, послушать выступления, самому выступить. Когда начинаешь говорить о том, чего удалось достичь, как много работы проделано, поневоле начинаешь себя уважать: ни фига себе, оказывается я такой «дартаньян»! И рядом одни мушкетеры! То, что в порядке вещей выдавать желаемое за действительность уже никого не колышет. Настроение поднимается до неба. Вокруг одни товарищи. Надо срочно выпить.
А тут господа финны явились собственными буржуазными персонами. Вот ведь, какая незадача! Лахтарит окружили ругозерский клуб, где торжественно заседала так называемая «беднота» и один из них, лейтенант Тойво Тенхунен, даже не подымаясь на установленную по торжественному случаю трибуну, сказал:
– Баста, карапузики, кончилися танцы. Карелы, финны встать. Прочие – сидеть.
Считалось, что мятежники и диверсанты первым делом карали коммунистов, комсомольцев и активистов. Но как-то так не получалось. Остался сидеть секретарь партийной ячейки Сердюк, бывший комбедовец Бабыдов и кое-кто еще из некоренных карелов.
Белофинны тем временем по требованию командира прикладами согнали в угол всех поднявшихся на ноги.
– Ничего, товарищи, – сказал Эскелен, спивающийся артельщик. – Сейчас пограничники придут и нас отобьют.
Действительно, скоро пришли под конвоем бойцы с ближайшей погранзаставы – все празднично одетые, некоторые с синяками на тщательно выбритых лицах. Из них тоже выбрали финнов и карелов.
Заставу сняли в казарме с комнаты, прозванной «Ленинской». Они там тоже заседали по поводу торжества. Финские диверсанты без единого выстрела вырезали боевой дозор, воспользовавшись их приподнятым настроением, которое, как известно, способствует ложному ощущению неуязвимости.
Только командир погранотряда Фомченко неожиданно оказал настоящее сопротивление. Сначала оторопев и позволив себя разоружить, как и прочие пограничники, на выходе во двор устроил безобразную драку с использованием рук, ног, головы и подручных средств, как то – топора и лома.
Метким ударом кулака свернул челюсть конвоиру из Кронштадских матросов, потом ногой по голове отправил в глубокий нокаут капрала Эйно Хейнрикса, увернулся от приклада винтовки другого караульного и прыгнул в сторону хозпостроек. Никто в него не стрельнул, потому что установка была не такая. За Фомченко бросилось, как загонщики, сразу несколько человек. Один даже прыгнул и обеими ногами ударил удирающего пограничника в спину.
И тот, и другой упали, но, перекатившись через плечо, оба резво вскочили: финн – с топором в голове, русский – расставшись с топором, который мгновение назад выдернул из колоды для колки дров.
Фомченко поскакал дальше, подпрыгивая, как заяц, а финны слегка растерялись: не каждый день они наблюдали, как их коллега дрыгает ногами в конвульсии с колуном во лбу, раскинув при этом мозгами по сторонам. Но дисциплина сыграла свою роль, и загонщики продолжили погоню.
Напрасно, на самом деле, потому что пограничник походя перехватил у стены сарая обычный лом и метнул его с разворота назад, как биту при игре в «городки». Ближайший преследователь все-таки умудрился перепрыгнуть летящую железяку, вот последующий этого сделать уже не успел: лом срезал его, как городошную фигуру, переломав при этом обе ноги.
Потеря двух «шишей» оказала деморализующее воздействие на стремительность погони: Фомченко сиганул в спускающийся за сараем овраг и был таков. Темнота сокрыла русского командира от врагов.
Финны, для порядка побив пленных пограничников, поспешно выдвинулись с ними к Ругозеру. Здесь они должны были уничтожить административные органы и сторонников советской власти, а потом, соединившись с другой группой, разрушить коммуникации и Мурманскую железную дорогу, устроить засады и атаковать подразделения советских войск.
Лейтенант Тенхунен досадливо поморщился, когда узнал о бегстве красного командира и потерях в своем отряде. Но делать нечего, следовало придерживаться первоначального плана. В кромешной темноте ноябрьской ночи пробираться лесом к железной дороге было бессмысленно. Он отдал соответствующие распоряжения, наказав с рассветом выдвигаться в рейд.
Пленных коммунистов, активистов и пограничников выстроили возле стены клуба, в котором еще не так давно проходили праздничные мероприятия. Опять, как и в прошлую «племенную войну», это было сделано с учетом национального вопроса. Русских, украинцев, белорусов и несколько затесавшихся уйгуров оставили сидеть в запертом клубе. Перед прочими же выставили расстрельную команду.
Тотчас же заголосили женщины, заплакали дети, которые собрались здесь же в тревоге за своих близких.
– Ничего, товарищи, – сказал совершенно протрезвевший артельщик Эскелен. – Простите нас жены и матери, простите нас дети малые. Простите, что мы принесли вам это горе. Вам придется это пережить. А вам предстоит с этим жить всю вашу оставшуюся никчемную жизнь.
Последние слова были адресованы вроде бы невозмутимым финским интервентам. Конечно, каким бы болваном ни был человек, как бы ни были у него промыты пропагандой мозги, но на спусковой крючок он нажимает сам, посылая смерть беззащитному и безоружному противнику. В самом деле, ну не японцы и китайцы же здесь собрались! Соседи по одной земле, как же они смогут потом жить на этой самой земле? Даже убивший Авеля Каин вынужден был уйти прочь с родины, куда же денутся расстрельщики? Как им нужно будет потом искупать свои грехи? Кто простит их? Какие…
Грянул залп, вздрогнули, разом замолчав, дети, всхлипнули женщины, упали наземь и артельщик Эскелен, и его товарищи по партийной ячейке, и пограничники-красноармейцы в парадных формах.
Вообще-то это была вполне заурядная тактика еще с прошлой военной кампании: пришлых врагов разгонять, местных в назидание прочим жителям уничтожать.
Сидевший в кустах за околицей командир Фомченко сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Он этого никогда не забудет. Он об этом расскажет товарищам, только надо двигать в сторону станции Сорока – там красные войска, там разъезды по железной дороге. Надо предупредить своих.
И побежал он по ночному лесу прочь от Ругозера, ориентируясь по звездам, питаясь мхом, ночуя в дуплах деревьев. Хотя, конечно, в ноябре, когда низкие облака висят практически над самими соснами, бегать по лесу можно только в приборе ночного видения. Не было такого прибора у красного командира. Да и вообще – ни у кого не было.
Поэтому он, крадучись, выбрался на дорогу и по ней уже побежал, что было сил. К утру как раз до Сороки добрался.
– Пацаны, – сказал он в комендатуре. – Наших бьют.
Те – в ружье. Телефонограмму в ЦК с поздравлениями. И в конце ее в двух словах о ругозерских зверствах. «Денег нет, но вы держитесь», – пришел ответ5.
– Ну, что, товарищи, – сказал начальник штаба Сорокского гарнизона. – Мочи, как говорится, козлов!
– Мочи козлов! – в ответ заревели, как медведи, собравшиеся на летучку командиры и политработники. – В честь четвертой годовщины Великой Октябрьской Революции, аминь!
Ну, аминь, так аминь. Вывели на рельсы маневровые дрезины, вооружив их, на манер махновских тачанок, пулеметами «Максим». Отменили праздничные увольнения личного состава и помчались по Мурманской железной дороге к вероятному месту подхода банды белофиннов из Ругозера. Раз те не объявились до сих пор на станции, значит, лесом пойдут, разбившись на несколько диверсионно-подрывных отделений.
На самом деле от села Ругозера до Мурманской железной дороги довольно далеко, но если красный командир Фомченко одолел этот путь за одну ночь, то и финны всей кодлой могут напрямки добраться до точки сбора к темноте, сгруппироваться и начать свои взрывные работы6.
Лучшие умы, закаленные Гражданской войной стратеги, склонившись над картой, предполагали, где ударит «чертов Маннер», простите, «чертов Маннергейм». Вычислили, почесали в затылках – не хватает народу, чтобы перекрыть все возможные точки диверсий. Еще подумали, исходя уже из количества бойцов, что можно выставить против оккупантов. Ну, и расположили секреты в секретных местах, выявленные по критерию: «где взрывы могут принести наибольший вред и разрушение».
Привлекли к этому делу всех, кого можно было привлечь: вестовых, разъездных, хозяйственных и курьеров.
– Давайте объявим Карелию на осадном положении! – предложил решительный Фомченко, успевший перехватить несколько часов здорового сна.
– Это еще зачем? – удивились закаленные стратеги.
– Тогда еще вохру можно задействовать, – объяснил он.
– А что это такое? – наморщились лучшие умы.
– Военизированная охрана – вохра. Они с поездами ездят, специальные вагоны караулят. Раньше к фельдъегерям причислялись, теперь разрослись до ГУСИНа, государственного управления системы исправления наказаний.
Однако не было такое решение в полномочиях штаба гарнизона станции Сорока. Тем не менее спешно выставленные секреты оказались в нужное время в нужных местах. Уже ночью 8-го ноября некоторые приняли бой с превосходящими силами противника. Но в этом случае шиши как бы поменялись тактическими действиями с красными: русские сидели в тщательно замаскированных засадах, а финны шли в атаку.
Пока не прибыла подмога из Мурманска, Петрозаводска и Каргополя, красноармейцы держали оборону. И это им почти удалось. Уже позднее, когда, казалось, риски диверсий против паровозного сообщения сведены к минимуму, 14 ноября 1921 года был уничтожен железнодорожный мост через реку Онда. Вохра, которую все же привлекли для помощи, не сумела справиться с поставленной ей нетипичной задачей. Карелия оказалась фактически изолированной от центра вплоть до восстановления переезда 6 декабря.
Последним эшелоном, прошедшим по Мурманской железной дороге был тот, что выгрузил артиллеристов командира Трофимова.
О резне, устроенной финской военщиной в Ругозере стало широко известно, как в Карелии, так и во всей Советской России. В газетах писали, что «белобандиты зверски расправляются с трудящимися в захваченных местностях, грабят население, опустошают склады с продовольствием, сжигают дома, обрекая жителей на мучительную смерть от голода и морозов». По сути это «разбойничье нападение» и стало началом войны.
Вместе с этим оно также послужило сигналом к самому «восстанию карельского народа против советской власти».
Спасшийся командир-пограничник Фомченко никому интервью не давал, зато давали Сердюк, Бабыдов и остальные плененные в Ругозере активисты и бойцы. Дело в том, что после расстрела, дождавшись утра, все финны из села ушли. А перед уходом запалили клуб с двух сторон.
Там так и сидели граждане некарельской, и нефинской, и невепской национальностей. Они почувствовали, что пахнет жареным и ломанулись к двери. Та оказалась незапертой – вероятно это не входило в планы диверсантов – поэтому никто из былых пленников не пострадал.
Все они от греха подальше потянулись на контролируемую Красной Армией территорию, где и встретились с партийными работниками всех мастей, в том числе и из газет. Ожидалось гневное осуждение финских интервентов всеми трудящимися – ну, на это как раз народ был мастак. Гневно осудили, заклеймили позором и приняли резолюцию.
Советское руководство спешно начало формировать отдельное военное командование, а главным командиром должен был стать Седякин, который к тому времени занимал пост военного коменданта Петрограда. Его поддерживал Каменев. Его не поддерживал Троцкий. А Сталину было по барабану – вплоть до 1938 года, когда Седякина застрелили, признав его врагом трудового народа.







