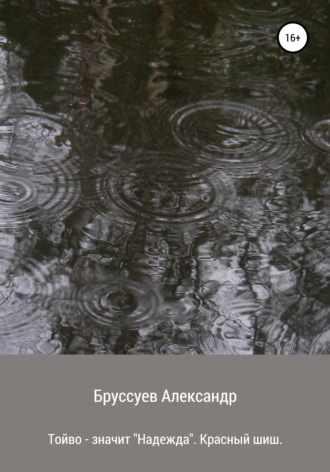
Александр Михайлович Бруссуев
Тойво – значит надежда. Красный шиш
Пока красноармейцы нестройными порядками приблизились к острову, скользя по гладкому льду, оступаясь в натаявшие лужицы, спотыкаясь о торосы и спрессовавшийся в сугробы снег, в Кронштадте было все готово для отражения штурма.
Из крепости к великому неудовольствию военачальников начали бить орудия и пулеметы. Палить с господствующей высоты было легко и просто – все мишени, как на ладони. Лед трескался, образовывались промоины, люди тонули десятками. Комиссары выли, как волки, призывая идти вперед. Тухачевский палил из револьвера в воздух, Дыбенко размахивал шашкой.
Укрыться можно было лишь за трупами убитых ранее.
Вероятно такая бойня может радовать глаз только одних маньяков, в то время, как другие маньяки посылают на убой все большее количество людей.
Дыбенко вливал в себя водку стопку за стопкой, возбужденно хрустел соленым огурцом и тряс в направлении неба шашкой. Тухачевский пучил глаза и облизывал тонкие губы. Вероятно, он вспоминал в это время, как подобным же образом парадным маршем наступают офицеры и прапорщики «черной дивизии» генерала Макарова, что получило название «психическая атака».
Но колонны развернулись в цепи, и уже ничто, не могло сдержать яростный натиск пехоты, знавшей, что выжить если и удастся, то только там, на острове. Они-то это знали, но не знали того, что шансов на выживание у них не было решительно никаких. Кроме одного.
Как ни были циничны обороняющиеся в крепости, но расстреливать беззащитных «товарищей по оружию», с кем не так давно сражались плечом к плечу при обороне Петрограда против Юденича, не каждый может. Легче биться с ними в равных условиях, или не биться вообще – устроить митинг, принять резолюцию и разойтись с миром.
Бойцы Тойво издалека наблюдали, какая бойня творится на подступах к фортам "Риф", "Шанц" и "Красноармейский". Слышно было гораздо лучше – звук по озеру, покрытому льдом катится, как эхо в горных Альпах. Раненные хрипели и стонали, живые вопили голосами, исполненными отчаянья и ужаса, и все – ругались самыми матерными словами, какие только можно было себе вообразить.
Антиайнен распорядился своими товарищами таким образом, чтобы в одном месте на льду оставался свободный коридор, и приказал:
– До получения приказа от командования в штурм не ввязываться и огонь не открывать. Беженцев не трогать, коли таковые обнаружатся. Вопросы есть?
Вопрос был один: если в них начнут стрелять – что делать?
– Стрелять в ответ, – ответил Тойво. – Пленных не брать. Бить наверняка.
Красные финны не возражали против такой постановки событий. Положение дел в Кронштадте было неясным, может быть, матросы поднялись протестовать по тому же поводу, что и недавняя «Револьверная оппозиция». Все нынешнее противостояние здорово смахивало на междоусобицу, а участвовать в ней – себя не уважать.
К ним прибежал, оскальзываясь и падая, какой-то курьер, представившийся посыльным командующего северной группы Казанского.
Едва отдышавшись, он донес приказ, ссылаясь почему-то на комиссара Вегера:
– Финским красногвардейцам держать зоны подтопления льда и образовавшиеся полыньи, обеспечивая наступление по льду залива основных сил на участке побережья Сестрорецка до мыса Лисий Нос.
– Яволь, – гавкнули финны хором.
Финнов не очень жалко, пусть под лед проваливаются, где тот наименее крепок.
– А что у нас с южной группой? – спросил Тойво с очень важным видом, будто бы ему было действительно до этого какое-то дело.
– Командующий Седякин и комиссар Ворошилов наступают с Ораниенбаума, – ответил курьер. – А можно я с вами останусь?
– Никак нет, – строго сказал Антикайнен. – Я на это пойти не могу.
– Эх, жаль, – искренне расстроился посыльный. – А то к нам прикомандировали отряд сотрудников Петроградской губернской милиции. У, звери!
Действительно, 182 человека из Ленинградского уголовного розыска приняли самое действенное участие в позднейшей зачистке Кронштадта, вместе с штурмовыми бригадами ворвавшиеся в крепость. Об их потерях во время атаки на остров неизвестно.
– Откуда же здесь такие дыры во льду? – спросил Тойво.
– Так уже неделю обстреливали крепость с берега, а еще самолеты с бомбами прилетали. Палили в белый свет, как в копеечку, да только проку-то никакого.
Вообще-то, Кронштадт – это не только революционные матросы, здесь и местных жителей порядком. Артиллерийский удар как раз и предназначен для поражения гражданских лиц. Антикайнен не был лично знаком с Троцким, но по рассказам некоторых современников знал, что это – его стиль. Только вот зачем ему обстреливать средоточие Балтийского флота? Мятеж рано или поздно можно подавить, вот заново отстроить линкоры и крейсеры – эта задача, пожалуй, для Советской России сейчас неподъемная.
Что-то очень странное творилось здесь, кто-то с кем-то игрался во власть, вернее, в то, у кого больше власти.
– У меня тут мятежная прокламация завалялась, – нарушил молчание словоохотливый курьер. Вероятно, очень не хотелось ему идти туда, где можно угодить «по-щучьему веленью» в очередную волну наступающих. Смерть впереди, смерть позади – перспектива, конечно, для любого безрадостна. Менты для того и прибыли, чтобы контролировать это. Для того у них и наганы наготове, чтобы особо непонятливым и колеблющимся сделалось понятно: вперед можно и живым добежать, вот назад – вряд ли.
– Глядите, как контрики обставляются, – протянул он оборванную пополам бумажку. – Словно настоящие революционеры. Эх, и пропащее это дело – мятежами заниматься!
Тойво взял замусоленный листок и прочитал:
«Товарищи и граждане! Временный Комитет озабочен, чтобы не было пролито ни единой капли крови. Им приняты чрезвычайные меры по организации в городе, крепости и на фортах революционного порядка.
Товарищи и граждане! Не прерывайте работ. Рабочие! Оставайтесь у станков, моряки и красноармейцы в своих частях и на фортах. Всем советским работникам и учреждениям продолжать свою работу. Временный Революционный Комитет призывает все рабочие организации, все мастерские, все профессиональные союзы, все военные и морские части и отдельных граждан оказать ему всемерную поддержку и помощь. Задача Временного Революционного Комитета дружными и общими усилиями организовать в городе и крепости условия для правильных и справедливых выборов в новый Совет.
Итак, товарищи, к порядку, к спокойствию, к выдержке, к новому, честному социалистическому строительству на благо всех трудящихся.
Кронштадт, 2 марта 1921 г. Линкор «Петропавловск».
Председатель Временного Революционного Комитета Петриченко. Секретарь Тукин».
– Да вроде бы ничего крамольного, – пожал он плечами.
– И я говорю: все, как в Советской нашей родине, – посыльный так энергично закивал головой, что она у него чуть не оторвалась – даже шапка в лужицу упала. – Но это же антисоветчина чистой воды!
Антикайнен только махнул рукой и пошел отдавать распоряжения своим бойцам. Курьер старательно сложил бумажку вчетверо, убрал в нагрудный карман и пошел восвояси. Видимо, так уж сложились звезды, что ни командующий Казанский, ни комиссар Вегер его больше не видели. То ли убила шальная пуля, то ли потонул в полынье, провалившись под лед, а то ли ушел в соседнюю страну.
Первыми красноармейцами, ворвавшимися на пристань Кронштадта, были люди из бригады Рейтера.
Самого Рейтера узнал с бастиона тридцатилетний Перепелкин Петр Михайлович, член ревкома мятежного острова, попросил не стрелять и отправился беседовать со своим бывшим командиром, как парламентарий.
Мартин Рейтер был латышом, причем его родители были крестьянами. Но это не помешало ему сделать в русской армии блестящую карьеру, чем-то напоминающую военную судьбу блистательного стратега Василевского, потомка костромского дьякона.
В 1906 году ему забрили лоб и отправили обозником в войска. Время было, как это постоянно случается в России – неспокойное. Еще был памятен позор японской войны, еще Маннергейм не выучил финского языка. Мартин рос по своей солдатской линии, потому что в краткие сроки освоил уставной порядок на русском языке. А, усвоив, начал его совершенствовать под себя самого, что не оказалось незамеченным.
Он закончил в 1910 году Иркутское военное училище, куда был направлен командованием, не вполне преуспев при этом. Все дело в том, что не очень жаловали однокурсники из потомственных русских военных крестьянского сына, неспособного распространяться на великом языке о чем-нибудь, кроме Устава, военной тактики и стратегии.
Но дело житейское, если ему не мешать, человек может добиться многого. Рейтеру повезло: ему было позволено выполнять свой долг таким образом, на какой он был способен. Мартин был способен ко многому, поэтому во время Первой Мировой войны он командовал ротой, а потом батальоном. Через некоторое время молодого полковника назначили офицером для поручений при штабе армии на Западном фронте.
Политика шла мимо него, он путался в пристрастиях агитаторов: эсеров, меньшевиков, большевиков и еще кого ни попадя. Но в феврале 1918 года Рейтер попал в плен к немцам и отсидел у них год с лишним – до марта 1919.
А дальше – что? Армия сделалась Рабоче-Крестьянской, но командиров в ней все равно предпочитали назначать не рабоче-крестьян, а отставных имперских офицеров. Полковник царской армии был выходцем из крестьян, поэтому его пригласили, а он это приглашение не отклонил. Политика все также была ему по барабану.
Перепелкин знал Рейтера уже, как Макса Андреевича. Ивановичами величали финннов, латышей – соответственно, Андреевичами.
– Здравия желаю, Макс Андреевич! – прокричал ему Перепелкин.
– И тебе не хворать, Петр Михайлович! – ответил ему Рейтер, переводя дыхание. – Бунтуем?
Его бригада поредела на треть. Он понимал, что если бы мятежники не прекратили огонь, они погибли бы все. Отправить своих людей на убой – этому полковника не учили. Поэтому он и пошел вместе с ними, поэтому и остались в живых те, кто сейчас был рядом.
Странно, никакой ненависти к Перепелкину он не питал, ненависть он питал к Дыбенко и выскочке Тухачевскому.
– Да какой тут бунт! – ответил ревкомовец. – Можем миром разойтись, только давай договариваться.
– Что ты хочешь?
– Сейчас я подойду ближе и поговорим.
Перепелкин, действительно, в одиночку пошел навстречу сбившимся в группу красноармейцам. Те опустили свои винтовки, не решаясь стрелять, временами поглядывая на своего командира. Тот молчал, поджидая своего былого подчиненного.
Ревкомовец шел, потом, вдруг, остановился. Он обернулся назад, закачался и упал недвижимый.
Быстрее всех среагировал Рейтер.
– За мной, – крикнул он, увлекая своих людей в сторону, стараясь обойти с фланга нацеленные на них пулеметы. Надо было бежать в непростреливаемую зону, надо было спасаться. Некогда разбираться, почему упал Перепелкин. Некогда взывать к своей непричастности в его гибели.
На волне «демократии», как это водится, всех прежних руководителей, которые объявлены врагами оной, репрессируют. Кого выгоняют из кабинета, кого выбрасывают из окна, кого садят под арест.
Комиссар Балтфлота Кузьмин был арестован одним из первых. Николая Николаевича в Кронштадте не любили и даже побаивались. Нрава он был крутого, слова был резкого, руки был тяжелой. Посадили его в крепость, но морду не набили.
Когда же приехал Калинин с женой, Кузьмина даже выпустили на митинг по такому случаю. Под охраной, конечно, чтобы он там мимоходом никого не покусал. Едва Всероссийский староста закончил со своими речами, народ заколебался. Николай Николаевич попытался это колебание упорядочить и зычным голосом крикнул:
– Молчать! Я буду говорить!
– А ты рот не затыкай! – раздался из толпы такой же зычный голос. – Накомандовался, когда на Северном Флоте каждого десятого расстреливал. Хватит!
Митингующие принялись оглядываться по сторонам: кто кричал? А никого и нету! На том месте, откуда, вроде бы, голос шел, мальчишка стоит и в носу ковыряется. Тогда порешили, что этот голос был голосом Совести.
Кузьмина опять отволокли в крепость и под арест определили. А он, не привыкший к такому обиходу, очень расстроился. Так расстроился, что пообещал по выходу лично убить каждого пятого бунтаря.
Когда начался штурм города, про комиссара Балтфлота никто не вспомнил. А тот, вызвав своего тюремщика, обманным путем завладел ключом от своей камеры, спрятал получившийся труп под койку и вышел в коридор искать сидельцев-коммунистов.
Их было немного, кто-то пьяный, кто-то – не очень. Сидела еще какая-то шпана, но тут уж не до выбора. «Айда наших встречать!» – предложил Кузьмин. Коммунисты и шпана ответили: «Геть на кичку!» Они выбрались наружу и ограбили первое же попавшееся государственное учреждение новой, так сказать, формации. Им оказался промышленно-хозяйственный блок форта «Непогрешимый».
Завладели несколькими винтовками, а Николай Николаевич взял себе парабеллум. Шпана, обрадованная перспективой грабить, последовала за новым вожаком, а тот повел их всех «на стены». Тут, как раз, поблизости случилось полное прекращение огня, поэтому самым резонным делом было идти разобраться.
Комиссар огляделся и мгновенно оценил обстановку: мятежники вступили в переговоры с «нашими». Однако что это за «наши» такие, что в полемику с врагом играют! Уничтожать всех бунтарей – и вся недолга! А иначе – предательство дела революции.
Кузьмин прицелился из одолженной на минуточку по такому случаю у коллеги винтовки Мосина образца 1905 года и пальнул. Выстрел щелкнул, но на фоне общей канонады ничем особым не выделился. Зато контрреволюционер Перепелкин упал и ногой не задрыгал.
– Ловко ты его, товарищ комиссар Балтфлота, прищучил! – восторженно заявил хозяин винтовки, получая ее обратно.
Николай Николаевич ничего не успел ответить, потому что мятежники вновь открыли огонь, на этот раз и по его небольшому отряду: недисциплинированные люди из шпаны повылазили на всеобщее обозрение, за что и поплатились.
Это обстоятельство сыграло на руку Рейтеру, потому что его поредевшая бригада откатилась к соседнему, оказавшемуся пустым, редуту практически без потерь.
Оказавшись в относительной безопасности, Макс Андреевич провел рекогносцировку. Где-то на левом фланге погибал целый отряд красноармейцев, залегший на лед. Живые пытались укрыться за телами неживых, но и они были обречены. Исходя из стратегических замыслов Дыбенко – Тухачевского это, вероятнее всего, был Невельский полк.
Время на часах показывало десять утра. Место, где затаились люди Рейтера, оказалось крайне неудачным. Разрушенное недавними артиллерийскими ударами и авианалетами, оно могло попасть под кинжальный огонь, если противники выдвинутся в двух определенных направлениях.
Противники не преминули поступить именно таким образом. Их можно было понять: пошел парламентарий, да не простой – а член ревкома, его тут же пристрелили. Это дело требовало компенсации, которую можно было получить только через кровопускание полковника Рейтера и его бригады. В распоряжении мятежников были автомобили, на которых можно было быстро перебросить в нужное место матроса с пулеметом, пулеметчицей, помощником и коробками с патронами.
– Ходу, парни! – закричал Рейтер, позабыв сгоряча повсеместно принятое обращение «товарищ».
Они побежали берегом в сторону залегшего Невельского полка. Те подумали, что пришла подмога и поднялись на ноги, закричав при этом «Ура!» Весь огонь переместился на остатки бригады, выкашивая бегущих, как в игре в «городки».
Невельцы правильно оценили ситуацию и совершили маневр, называющийся «отступлением». Тем самым им удалось отделаться потерей одного батальона, а бригада Макса Андреевича погибла почти вся. Сам Рейтер выжил, но затаил глубокое неприязненное чувство в отношении Тухачевского и Дыбенко.
К пяти часам вечера все атаки захлебнулись, оставшиеся в живых красногвардейцы ретировались на материк.
5. После Кронштадта.
Тойво простоял со своим бойцами на позиции до того времени, как начало смеркаться. Мощных прожекторов ни у одной из противоборствующих сторон не было, корабли на приколе не торопились освещать поле боя. То ли лампочки перегорели, то ли договоренности с капитанами не было достигнуто.
С первыми сумерками и туманом с Кронштадта потянулся унылый народ. Все они шли осторожно, стараясь держаться строго в коридоре между позициями красных финнов. Вот и кончился мятеж, независимо от того, что остров так и не был взят.
Ушел по льду главный руководитель мятежа Петриченко Степан Максимович, двадцативосьмилетний пацан, старший писарь линкора «Петропавловск», анархист, кореш другого анархиста – Дыбенко. В Финляндии сделался плотником, ездил по северам, сопоставляя получаемые от товарища Бокия данные с реалиями. Был очень ценным сотрудником, правда, потом его финны сдали по списку «узников Лейно» в СССР, где он и помер в неволе.
Вместе с ним ушли Яковенко, телеграфист Кронштадского района службы связи, член Ревкома, заместитель Петриченко; Ососов, машинист линкора "Севастополь", член ревкома; Архипов, машинист, старшина, член Ревкома; Патрушев, старшина-гальванер линкора "Петропавловск", член ревкома; Куполов, старшина, лекарский помощник, член ревкома. Да еще порядка тысячи человек вместе с ними. Остались только те, кто верил «а меня-то за что?» Да еще оголтелые революционеры остались, да те, кто действительно был не при делах.
В перебежчиков не стреляли, наоборот, люди Антикайнена достаточно рьяно следили, чтоб никто из красногвардейцев не приблизился к их расположению. Впрочем, тем было чем заниматься: собирать со льда раненных и убитых – похоронные команды не справлялись. Любая стрельба прекратилась вовсе.
Надо льдом летали вороны и кричали друг другу что-то. Пахло весенней сыростью и кровью. Мир как будто оцепенел: люди не разговаривали между собой, раненные не стонали, только вороны каркали. И от этого создавалось впечатление, что вокруг Кронштадта кладбище, какое-то неупокоенное кладбище.
К утру последний мятежник, отважившийся на эмиграцию, ушел с острова. Все они были вооружены и направлялись к Выборгу – ближайшему финскому городу. То-то финские власти обрадовались, когда к ним в страну по льду пришло более тысячи хорошо вооруженных и обученных воевать людей!
Маннергейм, как привык делать в таких случаях, сохранял глубокомысленное молчание. Свинхувуд и Таннер призывали сохранять спокойствие, потому что ничего другого в голову им не приходило. Устроить всех перебежчиков в концентрационный лагерь, а потом по-тихому перебить, как уже бывало, не представлялось возможным. Нелегалы могли сами перебить кого угодно, да еще мимоходом свергнуть власть в Финляндии. Наспех организованные конторы регистрировали новоприбывших и в обмен на сдачу оружия предлагали бумажки европейского образца, предтечи, так называемых «нансеновских паспортов».
Никто, конечно, не питал иллюзий, что народ сдаст все оружие. Каждый уважающий себя солдат и матрос оставил «на про-запас» револьвер, маузер или иное оружие, которое можно было спрятать на теле – гранату или штык-нож. Кронштадтские мятежники представляли собой реальную силу, и следовало как-то деликатно и ласково разрулить ситуацию, не дать повода обозленным и отчаявшимся людям выплеснуть всю горечь от бегства с родины на тупых финских чиновников и, тем более, чиновниц.
«А не желаете ли в Швецию? Или в Англию? Или, быть может, в Америку?» – сладкоречиво вопрошали до смерти перепуганные миграционные клерки.
И разошлись повстанцы, кто куда. Некоторые в Южную Америку подались, некоторые в Тунисе осели, а прочие же в Финляндии остались, чтобы поближе к родине, вернуться в которую мечтали. А некоторые, кто дожил до конца Второй мировой войны, даже вернулись. Правда, не на такое возвращение они надеялись. Какой дурак мечтает о тюрьме посреди родных берез и сосен?
Антикайнен с бойцами покинул свое местоположение, когда с первыми проблесками зари в Кронштадт лихим наскоком на штурм помчалась кавалерия. Лошади только недоуменно и стеснительно ржали, чувствуя себя коровами на льду: копыта скользили, ноги разъезжались, и еще седок все время норовил вывалиться из своего седла.
Последний резерв штурма, конница, никем не обстреливаемая, ворвалась в затихший город и принялась от избытка чувств рубить шашками всех, кто попадался под руку. Дыбенко лично обещал им, что ныне дело верное, ныне победа будем за нами – было у него такое видение.
«Видение белочкой называется», – хмурились кавалеристы. – «Обожрался водки, вот и видится ему, что попало!» Однако вслух ничего не говорили – кому охота в контрреволюционеры угодить? Да и все менты со вчерашней бойни вернулись, целые и невредимые. Пополнили боеприпасы, готовы снова в бой.
На самом деле пришла в штаб Дыбенко строго секретная телефонограмма: «Враг обескровлен. Один решительный штурм – и Кронштадт падет». И подпись: «Глеб Бокий».
Когда устали конники рубить на улицах местное население, они бросили клич: «Сдавайтесь». И еще пообещали, что резать сдавшихся не будут, а сдадут под суд, который определит степень виновности каждого и каждому, соответственно, воздаст по заслугам.
Деваться некуда, Кронштадт сдался. Победителей к этому времени на острове было меньше, чем побежденных.
Тухачевский и Дыбенко искренне верили в свои полководческие таланты и расхаживали по улицам города в сопровождении свиты. Проводились массовые задержания и допросы.
Когда Тойво прибыл на доклад к начальственным особам, то нашел их в комендатуре на форте «Медведевский». Во дворе милиционеры деловито били привязанного к дереву человека. Человек, молодой парень, примерно одного с Антикайненом возраста, пытался защититься от ударов по корпусу – да, где там! Его движения были ограничены, он был один, и помощи ждать было неоткуда. У него была только воля, которую некоторые недалекие люди путают с ненавистью.
В таких ситуациях у человека открывается некий дар провидения. И он сказал своим истязателям что-то, типа «сдохнете как собаки, скуля и подвывая». Конечно, всегда можно решить, что скверные предсказания даются легче – они вспоминаются, когда случается в жизни плохое. О хороших же, как правило, вообще никто не вспоминает, принимая их, как само собой разумеющееся.
Но почему-то поверил этому несчастному парню Тойво. И даже пожелал, чтобы так оно и случилось на самом деле. Сам же помочь ему никак не мог.
Спросил у ординарца Тухачевского:
– Кого пытаете?
Тот даже обиделся: пытают буржуазные палачи, а они проводят профилактическую работу. Антикайнен не стал возражать, потому что считал, как бы это не называлось, а суть-то оставалась одна. Но не говорить же об этом вслух!
– И все-таки, кто это?
– Руководитель мятежа, – ответил ординарец и, преисполненный важности, пошел по своим ординарским делам.
Конечно, руководителем Кронштадского бунта Вершинина Сергея Степановича назвать было нельзя. Строевой линкора "Севастополь", матрос-электрик по должности, был членом Ревкома мятежного острова.
Сам он был из крестьян, да, к тому же, беспартийный. Отличался, как говорится, умом и сообразительностью. Был избран членом Ревкома на собрании выборных. Поэтому ему поручили очень ответственное дело – заведовать Агитпунктом Ревкома. Должность – ничего себе, крестьянский пропагандист. Однако в дела контрреволюционные, судя по всему, посвящен не был, потому что пытался разрушить противоречия, вылезающие из каждого абзаца Кронштадской Резолюции. Вот и остался в конце-концов не у дел, в Финку не удрал, потому что не пригласили, зато был "взят в плен в бою у Петроградских ворот» на юго-восточной окраине острова. Так, во всяком случае, объяснил последним бойцам сопротивления командир мятежного 560-го полка, пожелавший остаться неизвестным.
Также он потом указал следственной бригаде на Вершинина, как на самого главного повстанца в Кронштадте. В принципе на тот момент так дело-то и обстояло: все, кто захотел – ушли, кто не захотел – остались, кого не взяли с собой – того тотчас же под арест.
Он пытался объяснить, что выдвинулся к проклятым воротам для переговоров с красным командованием, но это объяснение никого не устраивало. По сути, вообще, никакое объяснение или «демократическое» начало никого не устаивало.
– У тебя же не было мандата! – коверкая слова, говорил латыш-милиционер.
– Будто у тебя мандат есть! – отвечал ему Вершинин, уже привязанный к дереву.
– Вот мой мандат! – объяснял латыш и бил кулаком в живот. Лицо арестованному старались не портить.
Потом в протоколе Петроградского ЧК обозначат дату – 8 апреля 1921 года – якобы день взятия бунтовщика под стражу. Но до этого, окажется другая надпись: «По решению ЧК расстрелян».
Где-то в казематах уже сидел мастер лесопильного завода, мастер курсов указателей и чертежников Механического отделения Кронштадского порта латвийский подданный Вальк Владислав Антонович. Был он партийный, меньшевик из Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, ничего не знал, ни о каком восстании не ведал. Выбрали от завода в Ревком, тем его участие в бунте и ограничивалось.
Но так не считали следователи Фельдман и, сменивший его Агранов, а потом Карусь. Из Валька выбили фамилии, из Валька выбили показания, которые, на самом деле были не так уж и страшны: «ходил туда, говорил с тем, слушал того, голосовал за то». Но Фельдман, Агранов и Карусь поскрипели перьями и представили дело о мятеже в Кронштадте в законченном виде. Вид был очень даже контрреволюционный.
Поэтому 20 апреля 1921 года петроградское ЧК принимает решение: «расстрелять».
Вместе с Вальком и «неарестованным» тогда Вершининым расстреляли Коровкина Ивана Дмитриевича, матроса линкора "Севастополь", председателя судового комитета, который всерьез рассматривал идею командного состава затопить линкор к чертям собачьим. А как же эту идею не рассматривать, коль ее предложили? Рассмотрели – и отклонили. Получите высшую меру.
Кочегара того же парохода Савченко Луку Фадеевича тоже шлепнули, потому что ездил вместе с Вершининым по агитаторским надобностям. Когда команда форта «Красноармейский» арестовывала коммунистов, стоял рядом и ковырялся в носу. Конечно, контрреволюция прямо под носом, а он – нос по ветру.
Баталера ледокола "Ворон", Саричева Кирилла Алексеевича, коммуниста с октября 1919 по сентябрь 1920 года, присовокупили к казненным, потому что вышел из партии. Имел возможность уехать в Петроград, но остался в Кронштадте, когда образовался Ревком. Вражина, без всякого сомнения.
Да многих расстреляли. И по решению ЧК, и без такового.
Над землей бушуют травы,
Облака плывут кудрявы.
И одно – вон то, что справа,
Это я.
Это я, и нам не надо славы.
Мне и тем, плывущим рядом.
Нам бы жить – и вся награда,
Но нельзя.
В. Егоров – Выпускникам 41-го -
А 11 человек расстреливать не стали, четверых даже отпустили. Гуманность и правосудие, конечно, восторжествовало.
Тойво с бойцами прибыл в расположение своей школы финских командиров, и пару дней старались не разговаривать друг с другом. По случаю успешного завершения операции всех красных финнов-участников освободили от комендантской службы на две недели, тем самым предоставив вечера в полное их распоряжение. А куда девать эти вечера?
Отправиться в город и забухать там. После Кронштадта как-то тягостно было на душе. Баня, девушки, алкоголь – способ верный, но не очень правильный. Гораздо правильнее – посетить музеи и выставочные залы, сходить на спектакли, концерты классической музыки, пообщаться с литературными кругами, участвуя в интеллектуальных дискуссиях.
Последнее – как раз то, что нужно мятущейся душе. Литературные круги в Петрограде – это поэты и поэтессы. Ну, и критики, конечно же. Повезет – можно какого-нибудь подражателя Максима Горького сыскать. Писатели ускакали заграницу, или затаились на каких-нибудь нереквизированных дачах.
Красные финны прекрасно отдавали себе отчет и отчет тому, что они могут сделать, посетив литературные круги. Дух «Револьверной оппозиции» еще будоражил умы, разрядить обойму в поэта, поэтессу, литературного критика или подражателя Максиму Горькому – это святое дело. Чреватое, однако, проблемами с новой социалистической законностью.
Какие уж тут музеи и театры с концертами! Пошел в город, купил бутылку водки весом в полтора литра – а дальше, как масть пойдет.
Вот и оказывались курсанты интернациональной школы командиров в одних и тех же местах, вот и вели они там разговоры по душам, в то время, как пустели бутыли, в бане становилось все душнее, а приглашенные по такому случаю девушки – все красивее.
– Я думаю, везде надо искать рациональное зерно, – сказал Оскари Кумпу, кутаясь в простыню.
– Я думаю: рациональное зерно даже искать не надо, – согласился Антикайнен, смахивая пот со лба.
– Какие вы, право, скучные, – сказала оказавшаяся возле стола дама, в то время, как из парилки раздавались смех и повизгивание ее подельниц.
– Это кто? – спросил Оскари.
– Это никто, – ответил Тойво.
– Сами вы – никто, – сказала, нисколько не смутившись, дама, скинула простыню и ушла, стараясь покачивать бедрами, в парную.
Кумпу проводил ее тяжелым взглядом и без всяких эмоций заметил:
– Вот это круп!
Круп – это очень лошадиный термин, но Тойво возражать не стал.
– Еще до Олимпиады в Стокгольме я был совсем юным, – начал говорить Оскари.
Антикайнен оглядел его критическим взглядом: да и сейчас он совсем не старик, огромный, как медведь, мастер греко-римской борьбы.
– Шел я домой с тренировки, а темно вокруг и пустынно. Забор какой-то тянется, я отчего-то устал, как собака, а забор этот все не кончается. Чертыхнулся, дьявола вспомнил, луна вышла. Гляжу, а вот и он собственной персоной: над бесконечным забором голова рогатая и огромная. Дышит тяжело – сейчас набросится и в пекло утащит, – тем временем продолжал Кумпу.
– За что? – поинтересовался Тойво.
Оскари распахнул простыню и склонил голову, словно что-то разглядывая.
– Ну, не знаю, – вздохнул он и поежился. – Хотелось бы верить, за волосы на голове, или за руку. Не должен дьявол глумиться над первым встречным.
– Нет, – поперхнулся пивом из кружки Антикайнен. – Я не имел ввиду: за какое место? Я имел ввиду: почему, по какой-такой причине?
– А, – спокойно сказал Оскари. – Вот ты о чем. Кто же этого дьявола разберет, зачем он честных пацанов в ад утаскивает? Все ж мы не без греха. В день рождения становимся грешными (syntymapaiva – день рождения, synti – грех, по-фински, здесь и далее примечания автора).
Из парилки вышли голые девицы, и вместе с ними голые красные финны. Курсанты интернациональной школы командиров были действительно красные, не только в душе и по государственным мотивам.
– Эх, снега нету, – вздохнул один из них. – Сейчас бы в сугроб броситься!







