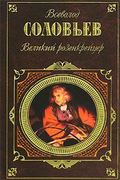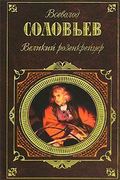Всеволод Соловьев
Старый дом
Сердце его усиленно билось, дух захватывало. Он опять в напрасных поисках прошел целый ряд ярко освещенных комнат, наполненных нарядной толпой. Здесь были расставлены ломберные столы, шла карточная игра. Он повернул в небольшую гостиную, уютную и полутемную сравнительно с соседними комнатами.
Это была любимая гостиная его матери, с этой комнатой она соединяла лучшие воспоминания своей молодости; в этой комнате когда-то давно-давно она слушала страстные признания своего жениха, разлученного перед тем с нею на многие годы, слушала в то время, как высокий их друг и покровитель, император Павел, устроивший это свидание, поджидал их в смежной библиотеке…
Борис остановился и чуть не вскрикнул. На маленьком диване в глубине этой гостиной он увидел белую фигуру. Чувство восторга, какого-то священного трепета охватило его.
«Это она… она!!»
Она подняла на него глаза. Он не мог уже сомневаться больше. Стремительно кинулся он к ней.
– Нина, я узнал вас… это вы?! – задыхаясь, проговорил он.
Она вздрогнула, поднялась с дивана, вгляделась в Бориса, слабо вскрикнула и схватилась за голову руками. Ее бледное лицо побледнело еще больше. В прекрасных глазах ее изобразилось почти то же самое чувство, какое волновало Бориса.
– Борис! – растерянно произнесла она. – Так вот что должно было сегодня со мною случиться! Вот зачем все это было! Да, я знала, что увижу вас… я ждала вас… в этой комнате…
Она говорила как во сне. Она бессильно склонилась на диван.
– Так вы знали, что меня встретите? Так вы хотели меня видеть?!
– Я ничего не понимаю! – все так же растерянно сказала она. – Я до сих пор не знаю, кто вы… Я только чувствовала, что должна произойти наша встреча именно сегодня, что так суждено… Но зачем… почему нам нужно встретиться снова в жизни – я этого не знаю… Кто же вы?!
– Я?!. Да ведь я вижу вас в моем родном доме… в доме моих родителей… Я только вчера вернулся из двухлетнего путешествия…
Изумление, тревога изобразились на лице Нины. А он продолжал:
– Так, значит, вы не забыли меня? Вы могли меня узнать? Значит, когда-нибудь вы обо мне думали?
– Конечно… и я всегда знала, что мы еще встретимся в жизни. Да, часто… часто я о вас думала… и как же могло быть иначе…
– Сколько мне нужно узнать от вас!.. – перебил ее Борис. – Сколько вопросов!.. С чего начать – не знаю.
– И не начинайте… – слабо улыбнувшись, сказала она, – теперь не время… Ведь мы нашли друг друга – пока довольно этого…
– Мы будем видеться? Ведь да?! – спросил он невольно, будто боясь снова потерять ее, будто боясь, что она, появившись перед ним как видение, как видение и исчезнет.
– Конечно! Пойдемте… вы видите – мы здесь одни… а мы ведь в свете… Я вас провожу к моей тетке и завтра буду ждать вас… Завтра мы поговорим без всяких стеснений.
Она оперлась на его руку, и они пошли через сверкающий ряд комнат, туда, откуда все слышнее и слышнее доносились звуки музыки, где через несколько мгновений весело ликующая толпа окружила их и поглотила.
VI. В Москве
Но для того, чтобы понять эту странную встречу и этот таинственный разговор, необходимо вернуться на много лет назад, к знаменательной эпохе двенадцатого года.
Болезнь Владимира заставила Горбатовых в августе двенадцатого года перевезти мальчика, которому нисколько не помогли тамбовские доктора, из Горбатовского в Москву. Сергей Борисович и Татьяна Владимировна, жившие теперь почти исключительно для детей, ни о чем не могли думать, как только о болезни своего сына, тем более что это была какая-то непонятная, странная болезнь. Мальчик несколько раз будто совсем выздоравливал, вставал с постели, у него являлся аппетит, спокойный сон. И вдруг, без всякой видимой причины, без всякой погрешности в диете, за которою следила сама мать, он начинал чувствовать большую слабость, валился с ног. Затем начинался сильный жар, бред – все признаки горячки. Так продолжалось с неделю, потом начиналось видимое выздоровление, за которым следовали еще усиленные припадки болезни.
Необходимо было созвать консилиум известнейших докторов – профессоров Московского университета. Необходимо было дать возможность следить за ходом болезни. Значит, надо ехать в Москву. Времена ужасные! Наполеон со своей разноплеменной армией в пределах России. Он идет к Москве. Ей может грозить опасность неприятельского вторжения. Но разве мыслимо это? Разве это допустят?! Нет, это быть не может. Да и, наконец, о чем же думать, зачем гадать об опасностях, которые с Божьей помощью могут миновать. Дело в том, что надо ехать в Москву ради Владимира.
И Горбатовы поехали всей семьею: с двумя сыновьями, их воспитателем Томсоном, карликом Моисеем Степановичем и неизбежным, всегда сопровождавшим их штатом прислуги. Они остановились в своем прекрасном доме на Басманной улице, в доме, к которому примыкал старинный, несколько запущенный сад. И, таким образом, больному Владимиру и здоровому Борису дана была возможность пользоваться хотя и не деревенским, но все же чистым воздухом.
Московские доктора, немедленно призванные для консилиума, осмотрели больного мальчика и начали подвергать его всякого рода лечению.
В первое время, несмотря на эти, довольно странные иной раз, «научные» эксперименты, здоровье Владимира как будто стало поправляться. Припадки не возобновлялись. Мальчик был только очень слаб.
Между тем положение Москвы становилось опасным. Кутузов, во главе русского войска, стоял перед нею, готовясь дать наступавшему неприятелю большое сражение.
Московский генерал-губернатор, граф Ростопчин, старый приятель Сергея Борисовича, всячески ободрял жителей, расклеивал по городу свои знаменитые афишки. Но, несмотря на это, панический страх начал нападать на жителей. Москва с каждым днем пустела. Все, кто только мог выбраться из нее, выбирался. По Ярославской и другим дорогам, проезд по которым можно было считать безопасным, тянулись нескончаемые обозы. Каждый, уезжая, увозил с собою все, что мог. Старые дома московских бар заколачивались, в иных оставалась только необходимая прислуга для оберегания господского добра.
Сергей Борисович ежедневно виделся с Ростопчиным и просил его не скрывать от него действительного положения.
– Конечно, вам не время теперь жить здесь, любезный друг! – говорил Ростопчин. – Я бы советовал вам уехать – осторожность никогда не мешает. Если же доктора находят, что ваш сын не может обойтись без их постоянного наблюдения, и если его опасно в теперешнем положении перевозить, тогда, конечно, делать нечего!
– Но неужели вы полагаете, что Москва будет взята?! Ведь это что же такое – Москва в руках неприятеля! Это полное поражение! Это несмываемый позор и погибель для России!
– Москва может быть взята, – отвечал Ростопчин, – но и в таком случае позор и погибель будут еще очень далеко. Все дело в том, как она будет взята. Да и вообще, заранее разве в таких обстоятельствах можно что-либо предвидеть. Моя обязанность поддерживать в москвичах бодрость духа и самому не падать духом. Кутузов тоже не намерен отчаиваться. Иначе что же бы это такое было?!
Между тем день проходил за днем, не принося ничего утешительного. Паника в городе увеличивалась, город пустел больше и больше. С замиранием духа москвичи ожидали результатов большого сражения.
И вот сражение дано 27 августа – великая Бородинская битва! Но что же это – поражение или победа?! Каждая сторона приписывает себе победу. Урон с обеих сторон громадный. Напряжение с обеих сторон страшное, геройство небывалое. Кто же победил?
Русские войска выдержали и отбили почти на всех пунктах натиск французской армии, измученной, хорошо понимавшей, что теперь надо или умереть, или победить, хорошо понимавшей, что надо войти в Москву, потому что только в Москве спасение от позора и голодной смерти, только в Москве отдых после непостижимых трудностей баснословного похода. Русские войска отбили неприятельский натиск, устояли; но в то же время, вместо того чтобы накинуться на неприятеля, отступили. Неспешно, в порядке, но все же отступили.
Французские войска, при виде этого отступления, не стали преследовать неприятеля, а, расстроенные, вконец измученные и обессиленные, спокойно заняли Можайск.
Бородинская битва, по-видимому, оказывалась нерешительной битвой. Французская армия обессилела, и ей неоткуда ждать помощи. Русская армия опустошена ожесточенной битвой; но она в порядке, и затем к ней могут примкнуть новые силы.
Кутузов не может отдать Москву без боя. Новая битва должна разразиться под стенами Москвы. А между тем Кутузов со своим войском входит в Москву, проходит через нее. Москва открыта для французских полчищ. Москва отдана неприятелю…
Ростопчин известил Сергея Борисовича об этом, советуя ему немедленно, если есть только какая-нибудь возможность, уезжать из города. По-видимому, ничего другого не оставалось делать, как бежать вслед за остальными, тем более что и знаменитые врачи, лечившие Владимира, удалились, оставив своего пациента. Сергей Борисович уже начал делать распоряжения относительно переезда в одно из подмосковных своих имений. Час, два – и они уедут.
Но вот Татьяна Владимировна, растерянная, бледная как полотно, входит в кабинет мужа. Он взглянул на нее и ужаснулся выражению ее лица.
– Мы не можем ехать, у Владимира сильнейший припадок! Взгляни, он весь в жару… он бредит… Что теперь делать?!
Сергей Борисович отправился в комнату сына и сразу же убедился, что в таком состоянии мальчика перевозить нет никакой возможности.
– Уезжай с Борисом! – шепнула Татьяна Владимировна.
Муж только молча и укоризненно взглянул на нее.
– Ну что же, мы останемся, – проговорил он через несколько мгновений. – Бог милостив! Не съедят же нас живыми!
Мрачный, с опущенной головой вышел он из комнаты. Татьяна Владимировна осталась у кровати сына, опустилась на колени и стала горячо молиться. В углу комнаты тихо всхлипывал карлик.
«Что же теперь будет? – с отчаяньем думал он. – Ведь они звери, эти французы… знаю я их… Вот уж в мыслях не бывало дожить до такого года… Враг, нехристь поганый, в Москве, надругается над святыней…»
Но он сдержал в себе отчаяние и тотчас же решился, никому не доверяя, отправиться на разведку. С этой минуты он часто уходил из дому, уходил на несколько часов и приносил самые верные известия о том, что творится в городе.
Теперь старая русская столица окончательно пуста, имеет вид вымершего города. Почти все дома глухо-наглухо заколочены; магазины и лавки забиты. На улицах только изредка встречаются робко крадущиеся фигуры, по большей части бедного ремесленного люда. Только из иных кабаков слышатся, в особенности к вечеру, дикие крики: это гуляют фабричные. Они разбивают бочки с вином, напиваются до одурения, выволакивают бочки на улицу. Вино течет по камням. Некоторые, уже совсем пьяные, даже припадают к мостовой и лижут камни. А потом эта дикая толпа всю ночь с отвратительным криком бродит, шатаясь, по городу, нарушая пустынную тишину его.
Погода стоит ясная и теплая. Наступает 2 сентября. Наполеон входит в город, окруженный своим измученным войском, которое забывает всякую дисциплину, которое ликует, заранее предвкушая все земные блага, сопряженные с обладанием огромным богатым городом.
Наполеон, уставший и простуженный, сознававший свое крайне затруднительное положение, снова воспрянул духом. Он победитель! Он в сердце России! Здесь ему дана будет возможность собраться с силами, предписать какие ему будет угодно мирные условия русскому царю. Отсюда, из этих вековых, знаменитых стен, он снова покажется Европе в ореоле немеркнущей славы всемирного победителя. Но его мечты, его надежды сразу разбиваются. Победителя никто не встречает. Он вступает в пустой, оставленный жителями город. А через день уже спит в кремлевском дворце, при освещении пожаров, со всех сторон охватывающих город, вспыхивающих то там, то здесь, грозящих, наконец, его безопасности. С проклятиями, в отчаянии, понявший, наконец, свое положение и предвидя свою судьбу, он выезжает из Кремля, пробираясь по пылающим улицам, и поселяется в Петровском дворце.
Москва горит, как свеча. Французские солдаты, которым сначала было приказано не грабить город и не трогать жителей, теперь уже окончательно забыли всякую дисциплину. Да и никто даже не хочет им приказывать, их начальники сами обезумели.
Грабь… жги… неистовствуй!!.
И все, что еще осталось целым, предается разграблению. Великолепные дома русских бар представляют из себя опустошенные, жалкие развалины.
Но невредим еще пока, по счастью, дом Горбатовых на Басманной, хотя вокруг него уже сгорели многие прекрасные здания. Дом Горбатовых находится в глубине большого двора, обнесенного чугунной оградой на высоком каменном фундаменте. Далее за домом и вокруг него идет обширный сад. Такое положение избавляет его от опасности.
Сергей Борисович, помышляя только о своем больном, почти умирающем сыне, о спасении семьи, добился свидания с Мюратом и, выставив свое печальное семейное положение, сумел выговорить себе безопасность. Он предоставил половину своего дома в распоряжение французского генерала и нескольких офицеров. Он не щадит ничего, он по-царски угощает своих гостей, всячески их задаривает, и за это уставшие французы действительно охраняют его от своих соотечественников.
Владимиру то хуже, то лучше. Он на попечении одного только домашнего врача-немца, который, без руководства разбежавшихся знаменитостей, не знает, что и делать, а потому ничего не делает. Но так оно лучше – природа сама выпутается из беды…
Все эти страшные дни Борис находился, естественно, в некотором забросе, на него мало обращали внимания. А между тем для него было очень важное время. Ему было около пятнадцати лет, и он считал себя взрослым человеком.
Он очень любил брата, от всего сердца жалел его. Он не мог равнодушно видеть горе отца и матери. Но все же главный его интерес, главный смысл его теперешней жизни был вне семьи. Вся душа его кипела от совершавшихся грозных событий. Когда они приехали в Москву, когда стали кругом него слышаться разговоры о приближении неприятеля, о приготовляющейся за Можайском битве, он весь дрожал, глаза его горели. Он пришел как-то к отцу и стал умолять его разрешить ему вступить в военную службу и присоединиться к войску Кутузова.
– Меня примут, – умоляющим голосом говорил он, – я знаю наверное, что примут. Я силен, я умею драться, я могу быть солдатом. Ведь вот же Ваню Голицына приняли, а он ниже меня ростом.
– Он на два года тебя старше, – отвечал отец. – И солдатом тебе быть рано. А главное, что тебя не примут – спроси графа Федора Васильевича, он тебе скажет это.
– Но мне невыносимо сидеть, сложа руки, когда враг в пределах России, приближается к нашей древней Москве, когда льется русская кровь! – восторженно, в нервном возбуждении доказывал Борис.
– Я очень хорошо понимаю твои чувства, – сказал Сергей Борисович, – но против невозможности ничего нельзя сделать. Поверь, эта великая война не завтра кончится. Если ты хочешь непременно драться, то в свое время еще очень успеешь.
– Не удерживайте меня! Не удерживайте ради Бога! – со слезами на глазах повторял Борис.
«Чего доброго он убежит, пожалуй!» – подумал Сергей Борисович.
– Послушай! – сказал он. – Есть еще одно обстоятельство, о котором ты, кажется, совсем не думаешь. Ты понимаешь ведь положение твоего брата, в нем нет ничего утешительного, и у нас осталось мало надежды на его выздоровление – не сегодня завтра он может умереть. Подумай же о матери! Если ей суждено лишиться одного сына… что ж… ты, верно, хочешь подвергнуть ее опасности лишиться и другого! Подумай – если ты уйдешь, если с тобой что-нибудь случится, а ведь ты очень и очень легко можешь быть ранен или убит – что с ней будет?! Она не переживет этого… Неужели ты хочешь уморить нас?!
Борис вздрогнул, опустил голову, простоял несколько мгновений неподвижно и потом вдруг с глубоким вздохом и упавшим голосом произнес:
– Да, конечно, вы правы, батюшка, я должен остаться… я понимаю это…
Отец крепко его обнял и поцеловал. Но все-таки в этот же день он поручил гувернеру-англичанину следить за Борисом, чтобы он никак не выходил один из дому.
Борис искренне отказался от своего намерения; но положение было для него крайне мучительно. Он жадно ловил все новости. Когда сделалось очевидным, что Москва предоставлена неприятелю, он забрался в густую аллею сада и горько там плакал. Теперь, когда Москва горела, когда в доме стояли французы, он весь день бродил взволнованный, нервный, с горящими глазами, ко всему прислушивался. В нем кипела ненависть к врагам, в нем поднималась ненасытная жажда мести, какого-нибудь подвига, и он не мог уже владеть собою.
«Если нельзя сражаться, – думал он, – если нельзя грудью защищать свое отечество, так все же из этого не следует, что нужно сидеть сложа руки. Что делается в городе? Здесь, за этими стенами, ничего не знаешь. Ведь не вся же Москва пуста?! Все же довольно осталось народу. Неприятели грабят! Неприятели производят всевозможные жестокости… Наверно, русских убивают, мучают, пытают… Наверное, можно спасти кого-нибудь… Я не могу больше, я должен выйти из дому… Я должен видеть своими глазами все, что делается. Может быть, Бог поможет мне на что-нибудь пригодиться. Вон вчера Степаныч рассказывал, что сам видел, как на улице лежало несколько трупов русских людей. Он рассказывал, что французы унесли куда-то связанную по рукам и по ногам женщину…»
Внезапное решение созрело в голове его. Он проснулся рано утром, убедился, что гувернер спит, тихонько оделся и прокрался к двери, выходившей на балкон. Дверь была заперта на ключ, но ключ не вынут из замка. Он прислушался – все кругом тихо… Замок щелкнул – он на балконе.
Оглядываясь во все стороны, он выбежал в сад, отпер калитку, через которую можно было войти во двор, и знакомыми ему закоулками пустился бежать к воротам. Но ворота заперты, возле них в будке дремлет сторож Иван. Огромная цепная собака сначала глухо заворчала, а потом бешено залаяла. Сторож проснулся.
– Кто тут? Что надо?
– Это я, Иван, я, не узнал?
Но Иван узнал.
– Что прикажете, сударь, Борис Сергеич?
– Отвори мне калитку скорее.
– Куда это вы, батюшка барин, в рань такую?
– Нужно, нужно… Сейчас вернусь… Не задерживай!
Сторож Иван спросонья не мог еще прийти в себя, не мог сообразить, следует ли выпускать барчонка или нет. Но насчет этого никакого приказа дано не было. А Борис торопит:
– Отворяй! Отворяй скорее!
Он отворил калитку и выпустил.
Борис кинулся бежать. Добежал до церкви, повернулся за угол и остановился, переводя дыхание.
Только что взошло солнце, но его еще не было видно. Туман стоял кругом. Сильно пахло гарью. Со всех сторон поднимался дым, со всех сторон вставали потухавшие развалины зданий.
Борис ощупал в своем кармане маленький, взятый им с собою пистолет и спешным шагом направился к Мясницкой.
VII. Герой
Пожар Москвы развивался и увеличивался, между прочим, и погодой. Несколько дней при ясном, почти безоблачном небе и довольно высокой температуре дул сильный ветер. Деревянные здания вспыхивали одно за другим. Ветер разметывал горящие головни, перебрасывая их через несколько домов. Огонь быстро принимался. Таким образом, в какие-нибудь два, три часа времени горела вся улица. Несчастные жители, запрятанные в темных уголках своих квартир и теперь застигнутые врасплох врагом уже нежданным, выбегали, обезумевши, на улицу, унося с собою первое, что попадалось под руку, часто совсем ненужное. При виде со всех сторон несшегося на них пламени они кидались в ближайшую церковь. Но пламя скоро подбиралось и к церкви, грозило ей неминуемой опасностью. Поднимались стоны, вопли. Приходилось бежать и отсюда.
Куда бежать? Дым ел глаза, застилал все окружающие предметы. Кругом рушились здания. Выла и грохотала буря. И толпа несчастного народа бежала вперед, сама не зная куда. Пламя заступало дорогу. На многих загоралась одежда, многие, обессиленные, падали, задыхаясь. Другие, наконец, вырвавшись кое-как из пламенных объятий, собирались на площадях, складывали тут свои скудные пожитки, а сами падали в изнеможении на землю. И, наконец, несколько придя в себя, начинали оглядываться. Тогда начиналось всеобщее смятенье. Многие не досчитывали своих близких. Мужья потеряли жен, матери – детей. Почти каждый вспоминал, что, выбегая из дому, оставил на жертву пламени что-нибудь дорогое. Полное отчаяние охватывало этот несчастный люд. А пламя свирепствовало, а буря не утихала. Густой дым застилал солнце. Мрак наступал над землею.
Но вот, наконец, ветер начал стихать. Со всех сторон горизонта стали показываться облака. Скоро они заволокли все небо, пошел дождь. Дождь увеличивался с каждой минутой, лил, почти не переставая, более суток. Народ, расположившийся на площадях под открытым небом, весь продрог, нитки сухой на нем не осталось. Но пожар стал прекращаться.
И теперь, когда Борис бежал по Мясницкой, город уже представляя иной вид.
Фантазия Бориса работала с детства. Он иногда в часы уединения или бессонницы представлял себе с большой ясностью всевозможные картины, самые страшные, самые фантастические. Но никогда еще его горячая фантазия не рисовала перед ним такого потрясающего зрелищ, какого он теперь был свидетелем. Он уже давно пробежал всю Мясницкую и двигался к Москве-реке, чтобы взглянуть на Замоскворечье. Он шел среди развалин, со всех сторон перед ним возвышающихся. Всюду дымились пожарища, то и дело то здесь, то там нежданно вспыхивали огненные языки. Еще недавно раскаленный удушливый воздух, полный дыма и пепла, теперь освежился. Но Борис чувствовал по временам отвратительный запах, и он скоро понял, откуда происходил этот запах. Он начал все чаще и чаще натыкаться на трупы, обгорелые, ужасные трупы, предающиеся тлению.
Ужас и отвращение охватили Бориса. Он остановился невдалеке от трупа женщины, лежавшего прямо перед ним посреди дороги. Он задрожал всем телом. Он почувствовал, что по голове его как будто что-то пробегает, будто волосы его шевелятся и начинают подниматься сами собой. Едва сдавив в себе крик, он кинулся назад с намерением бежать скорее домой от всех этих ужасов.
Но вдруг остановился.
«Я трус! – мелькнуло в голове его. – Я не могу вынести вида смерти, на что же я годен после этого!»
Нервно вздрагивая, он вернулся обратно и стоял перед обезображенным трупом, заставляя себя спокойно разтлядеть его. И он глядел с искаженным лицом, с широко раскрытыми глазами. Он увидел лицо, очевидно, еще молодое и, вероятно, бывшее красивым; но теперь оно было почти зеленого цвета. Одна сторона его опухла, из-под одного, не совсем закрытого века выглядывал безжизненный стеклянный зрачок… Женщина была полураздета…
Он не в силах был больше глядеть. Стараясь не дышать, чтобы не чувствовать ужасного смрада, он обошел труп и побежал дальше. Все было тихо. Но вот ему послышались невдалеке голоса. Он огляделся и заметил толпу людей, шедшую ему навстречу.
Инстинктивно, в мгновение ока, он кинулся в сторону и спрятался в развалины дома. Он чувствовал под своими ногами еще не совсем остывший пепел и уголья. Он притаился за выступом окна и глядел. Эти, очевидно, спешившие куда-то люди уже почти с ним поравнялись; но они, должно быть, его не заметили, а теперь уже никак не могут его видеть. Кто эти люди? И он сейчас же убедился, что это враги – французы, убедился по их говору.
Боже мой, в каком они виде? Разве это солдаты? Положим, у каждого из них оружие и кой-какие остатки военной формы. Но вот на одном партикулярный сюртук, на другом – цилиндрическая шляпа, на третьем – какая-то женская мантилья. Это враги-грабители! Они, быть может, убили тех, кого ограбили и чье платье на себя надели!.. Бешенство, ненависть закипели в Борисе. Он вынул дрожащей рукой из своего кармана пистолет, взвел курок и направил его из-за переплета окна в проходившую толпу. Он спустил курок: но что это? Выстрела не последовало… Осечка!
Французы прошли мимо. Тут только бедный Борис заметил, что хотя он и хорошо зарядил свой пистолет, но забыл надеть пистон. Ему стало досадно, стыдно. И в то же время он почувствовал бессознательную радость. Тем не менее он поспешно вынул из коробочки пистон, надел его и, выбрав себе более удобное положение, остался неподвижен.
«Эти прошли, пройдут и другие, – думал он, – тогда я уже не промахнусь. Я должен убить врага!»
Но он долго стоял, но никто не показывался на улице. Наконец он издали заметил приближающуюся фигуру.
«Вот он, вот! – с забившимся сердцем чуть громко не крикнул Борис. – Но он один, я не должен убивать его из-за угла…»
Одним прыжком он перескочил через груду обгорелых обломков и углей и с поднятым пистолетом стремительно направился к шедшей навстречу ему одинокой фигуре. Теперь он заметил, что это пожилой человек с бледным, испитым лицом; длинные, почти седые волосы выбивались со всех сторон нечесаными космами из-под суконного картуза с большим козырьком. Щеки и подбородок были, очевидно, давно небриты и поросли серебристой щетиной. Одет этот человек был в длиннополый поношенный кафтан. Он шел нетвердой походкой, бормоча что-то… Во всей его фигуре не было ничего воинственного, да и никакого оружия на нем не замечалось.
Борис остановился в недоумении, но все же не опуская пистолет. Старик только теперь его заметил. Он окинул его взглядом, в котором выражался не страх, а ненависть, и охрипшим голосом крикнул:
– А, француз поганый!.. Нехристь окаянный! Убить меня хочешь… Ну, что же, убивай… Стреляй… Да стреляй же, молокосос!..
И он, широко разводя руками, выставил вперед грудь, наступая на Бориса.
– Я не француз! – растерянно проговорил он.
– Так что же ты на своих кидаешься?!
– Да я… Я думал, что вы француз… Что вы враг… – заикаясь проговорил юноша, весь краснея.
Старик изумленно и с усмешкою оглядел Бориса и покачал головою.
– Ах ты, молокосос, молокосос! Поди ты, вон тоже на своих с пистолетом кидается! Да ты, может, кого и уложил так-то, зря?..
– Нет, я еще не стрелял.
– То-то!
Старик еще раз оглядел Бориса, печально и добродушно усмехнулся и опять покачал головою.
– Да откуда ты, паренек? Кто таков? Барчонок какой, что ли? Бар-то, что-то, не видать… Разъехались…
Старик этот вдруг ужасно понравился Борису, и он с внезапной откровенностью, свойственной его годам, рассказал ему, кто он, откуда и за каким делом попал сюда.
– Ведь правда, – заглядывая ему в глаза, говорил он, – правда ведь, что стыдно сидеть в безопасности, когда в городе такие ужасы, когда кому-нибудь помочь можно, кого-нибудь защитить… Убить хоть одного врага и грабителя?!
– Эх, молодчик, молодчик! – печально повторил старик. – Ну, чему ты, сударь, поможешь? Кого спасешь? Вот меня чуть было не убил. Оно бы и ничего… Туда мне и дорога… Смерти не боюсь… Да тебе плохо бы было, на душу грех большой взял бы… Сидел бы лучше дома. По крайности, как пришел бы час твой, так со своими родителями да домочадцами принял бы кончину…
– Все погибнем! Все погибнем! – вдруг, сверкнув глазами, диким голосом крикнул старик.
– Как все погибнем? – испуганно и изумленно спросил Борис.
Старик становился страшным; глаза его дико блуждали. Он потрясал в воздухе рукою.
– Все погибнем! – повторил он. – Пришел час гнева Божьего и кары! Кончина света приблизилась… Прогневали мы Господа Бога великими нашими злодействами, неправдою; а против Бога кто может? Наслал он на нас этих дьяволов и призвал им на помощь стихии небесные. Камня не останется от сего города! Ни один человек не выйдет из него…
– Ах, зачем вы это говорите? – старался перебить его Борис. – Бог милостив. Враг покинет Москву, наше войско заставит его еще бежать.
Но старик его не слушал. Он кричал теперь, очевидно, уже не обращая на него никакого внимания, не сознавая, есть у него слушатель или нет.
– Всю жизнь сколачивал деньги, – кричал он, – что мук вынес… работал, рук не покладая. Ночи за работой просиживал. Сколотил мастерством своим деньжонки, домик построил… сына вырастил… В солдаты взяли. Где сын? Убит!.. Французы убили… Справлялся… верно узнал… убили… Нет Петруши… Нет и могилки его… так и не увидел. Жена заболела с горя… Лежит, стонет, душу надрывает… Враг пришел, Москву отдали ему… Вышел из дому – сил не хватило… Пожар! Москва горит… домой?.. Нет дома… сгорел… ничего не осталось… Где жена?.. Больна ведь, двигаться не могла… где она? где?..
– Да говори же ты мне, где она?! – накинулся он на Бориса, хватая его за плечи. Он был страшен. Безумие и бешенство изобразились на лице его.
Борис высвободился и стремительно побежал от него. Потом он остановился, оглянулся и увидел, что старик все еще стоит на одном месте, разводя руками и крича что-то такое, что теперь разобрать было невозможно. Борис бежал дальше, среди все той же картины всеобщего разрушения; среди все тех же валявшихся трупов людей и животных.
А солнце поднималось выше и выше. Встречались люди. Несколько раз Борису приходилось прятаться от французов, которые толпами, с криком и гиком, бродили, врываясь в дома, уцелевшие от пожара, с целью грабить все, что еще можно было найти в них.
Когда первая паника, охватившая французов при виде со всех сторон усиливавшихся пожаров, прошла, они решили наверстать свои неудачи и разочарования самым разнузданным грабежом. Теперь уже нечего было стесняться перед этими варварами, встретившими их таким ужасным образом, так насмеявшимися над ними.
Сам Наполеон, решившись возвратиться в Кремлевский дворец, которому теперь уже не угрожала опасность, разрешил этот грабеж, хотя и объявил меры для его ограничения. Он приказал, чтобы каждый корпус, находившийся в Москве или ее окрестностях, один за другим в назначенные дни отряжал от себя по нескольку рот для грабежа. Этот грабеж был назван в приказе Наполеона «приготовлением запасов продовольствия».
Между тем, конечно, никакого ограничения грабежа не было. Напротив, эти отряды, посылаемые по очереди, рассуждали так, что каждому из них, по всем вероятиям, приходится в последний раз выходить на добычу, и потому они с остервенением накидывались на все. Они разбивали двери и окна, врывались на чердаки, в подвалы и кладовые. Несчастные жители, прятавшиеся по углам, не выказывали, конечно, никакого сопротивления. Они предоставляли все свое имущество на разграбление, лишь бы только ужасные грабители ушли поскорее.
Им, кажется, уже ничего не осталось теперь, они уже больше не вернутся. А между тем на следующий день грабеж повторялся. Каждый корпус должен был навестить несчастных обывателей. Каждый приходил по очереди и забирал все, что оставил его предшественник. И по мере того как уже не оказывалось ничего для грабежа, солдаты неприятельские выказывали все больше и больше бешенства. Они воображали, что от них прячут добычу, и угрозами, насилием заставляли ее выдавать себе.