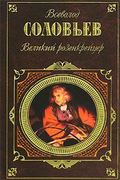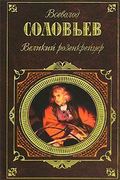Всеволод Соловьев
Старый дом
XIX. Друг дома
Думая о брате, Борис всегда усиленно старался не анализировать его. Он инстинктивно чувствовал, что из этого анализа не выйдет ничего утешительного. А ему слишком бы тяжело было порвать кровную связь, выросшую вместе с ним. Он продолжал любить брата, и эта любовь, главным образом, выражалась в нем в те минуты, когда с Владимиром случалась какая-нибудь крупная неприятность. Он принимал братнюю неприятность горячо к сердцу, и ему самому делалось так больно, как будто эта неприятность случилась с ним самим. Если он видел какой-нибудь предосудительный поступок Владимира, он страдал. Если случайно замечал, что кто-нибудь относится к брату без уважения, с порицанием и недружелюбием, ему становилось тяжело и больно. Он радовался каждой его хорошей удаче.
Когда была решена его женитьба на графине Черновой, он пристально, пристально вглядывался в эту хорошенькую, блестящую девушку и по целым часам раздумывал, будет ли брат счастлив с нею. Он постарался с нею сблизиться. Но это было очень трудно. В первое время молодые супруги были поглощены друг другом и третьему тут не было места.
Впрочем, Катрин, веселая, ласковая, игривая, с ухватками хорошенького котенка, могла в то время возбудить к себе только симпатию. Она была слишком молода и хотя сама никогда не задавала себе вопроса о том, любить ли и как любить мужа, но все же Владимир, молодой, красивый, окружавший ее предупредительной нежностью, на первое время казался ей лучшим из мужчин. Хотя она и привыкла в родительском доме к роскоши, но все же уже достаточно наслышалась о том, что состояние их расстроено. Денежные затруднения, из которых должен был иногда с большим трудом выпутываться ее отец, отражались, конечно, и на ней. Она испытывала кое-какие стеснения. Далеко не все ее причуды, а их у нее всегда было много, могли исполняться. Ее мать, женщина недалекая и не имевшая никакого понятия о воспитании, успела с детства внушить ей мысль, что она должна выйти замуж за человека очень богатого, что в богатстве заключается высшее человеческое счастье. И вот она получила это богатство. Положим, Владимир не разделен, все состояние в руках Сергея Борисовича. Но Горбатовы ни в чем не стесняют сына. В распоряжение у Катрин сразу оказались такие средства, о каких она и не мечтала.
Это богатство, эта царственная роскошь старого дома, возможность наверстать потерянное, исполнять все прежние и новые причуды, на несколько месяцев отуманили счастьем ее голову. Она принялась играть в маленькую королеву, и так как эта игра, при ее юности и миловидности, всем нравилась, то Катрин не имела никакой возможности выказать свои недостатки. Она легко обманула и Бориса. Он уехал за границу, уверенный, что его belle-soeur – прелесть, что она добра и будет, наверно, хорошей женой и матерью, когда пройдет ее детское легкомыслие, а ведь оно пройдет скоро. Под могучим дыханием жизни, супружества и материнства наивная девочка быстро превращается в женщину.
Но, вернувшись через два года, Борис сразу должен был убедиться, что жестоко ошибся, что его belle-soeur вовсе не прелесть. Даже ее красота хорошенькой птички, поражавшая сразу, в один день успела ему приглядеться и уже не производила на него впечатления, не защищала ее, не заставляла быть к ней пристрастным. Борис понял, что брат и Катрин вовсе не счастливые супруги. Он убедился также и в том, что Катрин вовсе не примерная, нежная и заботливая мать для маленького Сережи. Теперь эта идеальная воздушная птичка, маленькая королева, становилась ему просто антипатичной, будто она переродилась. Куда девалась ее прежняя изящность. Оказалось, что она только напускает на себя эту изящность, а что, в сущности, она очень грубая женщина. Мелкость ее интересов, ее пустота так и били в глаза при каждом ее слове. Борис, во время долгой разлуки считавший ее близкой, родной, теперь чувствовал, что она ему совсем чужая. И ему просто становилось досадно и обидно видеть ее в своем родном доме, да еще и в роли хозяйки. Он даже сам изумился своим внезапно развивающимся чувствам, готов был себя за них укорять. Быть может, он преувеличивает, быть может, он, слишком много от нее ожидавший и убедившийся, что она не может исполнить этих ожиданий, стал просто несправедлив к ней?!
Услышав, что обедавшие гости уже разъехались, и чувствуя, после всех своих размышлений, потребность еще раз вглядеться в Катрин, чтобы проверить себя, Борис прошел в детскую маленького Сережи. Он рассчитывал застать там Катрин, так как она за обедом сказала, что останется весь вечер дома. Но ее не было в детской. Он повозился с племянником, который был совсем в его вкусе и к которому он уже начинал чувствовать большую нежность. Толстенький, хорошенький мальчик сразу привык к нему, тянулся к нему, радостно захлебывался и пускал пузыри своими пухленькими губами.
– А где же барыня? – спросил Борис няню.
– Не могу сказать вам, сударь, – отвечала она, – сегодня барышня не изволила в детскую заглядывать…
Он пошел отыскивать Катрин. Но в парадных комнатах ее не было. Он решился пройти в ту заветную, издавна милую ему комнату, где вчера увидел Нину. Теперь эта комната получала для него совсем особенное, новое значение. Он тихо шел по мягким коврам и на него наплывали сладкие, любимые грезы, теперь превращавшиеся в действительность. Прелестный, бледный образ Нины с ее загадочными темными глазами, которые всю жизнь его преследовали, так и стоял перед ним…
Вот он уже у заветной комнаты. Он остановился, тихо приподнял спущенную портьеру… вошел и остановился в изумлении… На маленьком диване, на том самом диване – Катрин, а рядом с нею какая-то мужская фигура. Но это не брат… Что это такое было?! Произошло что-то мгновенное, чего он в своей рассеянности не мог и уловить. Но он хорошо, ясно заметил, как яркая краска вдруг залила все лицо Катрин и как на этом лице изобразились испуг и смущение. Он ясно заметил, как она вскочила с дивана, а потом вдруг опять упала на него и проговорила своим певучим голосом:
– А, Борис, это ты?! Я думала – Владимир вернулся!.. Вы знакомы, господа?
Борис взглянул – перед ним стоял молодой человек лет тридцати, с огненными глазами, красивым лицом и презрительной, даже несколько нахальной усмешкой. Катрин уже совсем оправилась от своего смущения.
– Граф Щапский… mon beau-frere!..
Они пожали друг другу руки.
Граф Щапский взглянул прямо в глаза Борису пристальным, спокойным взглядом. А губы его, быть может, против воли, все так же нахально усмехались. Борису вдруг сделалось неловко. Он почувствовал внезапный прилив злобы, чего с ним никогда не бывало. Он не знал этого графа Щапского и вчера не заметил его на балу, но он уже о нем слышал. Это был богатый польский граф, недавно приехавший в Петербург, поступивший на службу и имевший большой успех в петербургском обществе. Его имя произносилось сегодня и у генеральши.
Начался обычный, неизбежный разговор, какой всегда бывает между двумя людьми, которые только что познакомились. Щапский сделал несколько очень грубых ошибок по-русски и потому перевел разговор на французский язык, на котором говорил как прирожденный парижанин. При этом оказалось, что он и воспитывался во Франции, в иезуитской школе. Борис припомнил, что его так и называют – иезуитом. С каждой минутой он становился ему все неприятнее, несмотря на то, что держал себя с большим достоинством и был очень любезен. Он, очевидно, был высокого о себе мнения и сознавал в себе какую-то силу. Это выражалось в каждом его движении, в каждом слове. Смутить его было трудно. Наконец он стал прощаться.
– А разве вы не останетесь с нами ужинать? – спросила Катрин.
– Простите, никак не могу.
– Очень жаль, муж был бы так доволен вас видеть; он, наверное, скоро вернется…
Щапский еще раз выразил свое сожаление и откланялся. Теперь Борис уже внимательно наблюдал, и ему показалось, что гость и Катрин, прощаясь, обменялись каким-то особенным, быстрым взглядом. По уходе графа Катрин рассыпалась в похвалах ему. Он такой образованный, такой умный и приятный собеседник; его все очень ценят.
– Он ведь иезуит?! – проговорил Борис.
– Иезуит, я знаю… Но ты говоришь таким тоном, как будто быть иезуитом – что-то позорное.
– Почти что так.
– Спорить я с тобой не буду, потому что мало думала об этом. Если же граф иезуит, то, значит, ничего в этом дурного нет. Et puis, je te dis, il est reèu partout. Им все дорожат. Его даже при дворе любят.
– Он давно у вас бывает?
– Около года, со своего приезда.
– И брат с ним дружен?
– Да, кажется, они приятели…
В это время вошел Владимир.
– А! Как ты мил, что не опоздал! – радостно крикнула Катрин, поднимаясь к нему навстречу и, очень грациозно встав на цыпочки, поцеловала его.
Владимир изумленно взглянул на нее.
– Я сейчас встретил Щапского, – сказал он, – просил его вернуться, но он говорит, что не может.
– И я его тоже просила, – проговорила Катрин, огляделась перед зеркалом и тихо вышла из комнаты.
– Это твой приятель – Щапский? – тихо спросил Борис.
– Я ничего не имею против того, что он мне приятель! – отвечал Владимир.
– То есть я хочу спросить тебя, считаешь ли ты его вполне хорошим человеком?
– А он, верно, тебе не понравился? Видишь ли, я не знаю, какой он там человек, ведь узнать это очень трудно, а главное, незачем! Одно знаю, что нам с тобой можно у него поучиться многому… Я, право, не встречал более ловкого человека! В какой-нибудь год – и если бы ты знал, как он устроил свои дела! Я уверен, что ему предстоит будущность – всего добьется. И при этом он может быть полезен, право, уверяю тебя… он уже оказал мне кое-какие услуги… Нужный человек, очень нужный!..
«И он о ней не заботится, ему все равно! – с тоской подумал Борис. – А ведь он мог бы еще исправить многое! Она так молода! Каково матушке – ведь она, наверное, поняла ее и страдает. Да, она поняла, наверно. Но я могу ошибаться, может быть, многое мне только кажется. Может быть, я себе все представляю мрачнее, чем есть – дай-то Бог!..»
Он постарался хоть на этом успокоиться и поспешил к себе.
XX. «Tubalcain»
Печальные размышления Бориса были прерваны Степушкой, который, заглянув в комнату, объявил:
– Князь Вельский приехал и спрашивает, не можете ли вы принять их?
– Конечно, проси. Проведи скорей сюда! – встрепенулся Борис.
Князь Вельский был молодой человек, одних лет с Борисом, небольшого роста, сухощавый, очень белокурый, с мелкими неправильными чертами лица и великолепными темно-голубыми глазами, блеск и живость которых скрашивали его невзрачную внешность. В прежние годы, в Москве, он тоже принадлежал к университетской «трезвой компании», был большим другом Бориса, а теперь несколько лет проживал в Петербурге, почти без определенных занятий, числясь в каком-то ведомстве. Посещал высшее общество, к которому принадлежал и по связям, и по рождению. Считался выгодным женихом, но женихом безнадежным, так как всему городу было известно, что он уже несколько лет в связи с одной дамой, из-за которой у него четыре года тому назад была даже дуэль, наделавшая ему много хлопот и неприятностей.
Войдя в комнату Бориса, князь Вельский каким-то особенным образом протянул ему руку и очень серьезно проговорил:
– «Tu».
Борис таким же образом ответил на пожатие и в свою очередь произнес: «bal».
– «cain», – докончил Вельский.
Из этих трех слов образовалось слово «Tubalcain», священное слово масонов, которым они в особенных случаях приветствовали друг друга и установляли связь между собою.
Затем приятели троекратно и горячо поцеловались.
– Наконец-то ты вернулся! – быстро, немного пришептывая, заговорил Вельский. – Мне только что сейчас сказали об этом у Гагариных. Кто-то из них слышал от твоего брата. Я и приехал, не зная, верить или нет. Как же я рад тебя видеть, хотя ты, право, этого не стоишь – на несколько моих писем не ответил ни слова!
– Прости, любезный друг, – сказал Борис, – сам очень хорошо знаю, что виноват перед тобою. Но я в последнее время переезжал из города в город, приближаясь к родине. Особенного ничего не имел сообщить тебе, то есть сообщить-то у меня много, пожалуй, только не для писем. И, вообще, ты должен знать, как я ленив на письма.
– Хорошо, принимаю твои извинения и не желаю с тобой пикироваться. Скажи, ну что, как доволен этими двумя годами? Нашел ли за границей то, что искал?
– Нет, не нашел. Хотя не могу сказать, что этими годами не доволен. Они не прошли для меня даром – я уяснил себе многое…
– А знаешь ли, – вдруг перебил его Вельский, – некрторые из наших братьев недовольны тобою, считают тебя отщепенцем.
– Я это знаю! – спокойно сказал Борис. – Я ведь, кажется, ни перед тобою, ни перед кем не скрывал своих разочарований. Теперь посмотрим, прав ли я был. Скажи мне, любезный друг, вот мы с тобою не видались целых два года, скажи – удовлетворен ли ты сам действиями и занятиями нашего общества? Далеко ли ты подвинулся вперед? Нашел ли в чем-нибудь разрешение?
– Отвечая утвердительно, я бы солгал тебе.
– Вот видишь – так в чем же обвинять меня? Теперь для меня совершенно уже выяснилось многое! Да, я вижу прямо. И то, что скажу тебе, то готов повторить перед всеми братьями нашей ложи, если она еще собирается.
– Где уж собираться! – махнул рукой Вельский. – Ведь мы под большим запретом. Но, конечно, все же бывают некоторые собрания то здесь, то там…
– Это все равно, – горячо заговорил Борис. – Я не жалею о том, что разогнали наши театральные зрелища.
– Театральные зрелища? – изумленно повторил Вельский.
– Да, именно. Как же я иначе могу назвать все эти обряды, всю эту внешнюю сторону масонства! Вспомни, ведь мы вместе с тобой готовились к великому, как нам казалось, таинству посвящения. Помнишь, мы постом и молитвой готовились. Тогда у меня не было в мыслях считать эти таинственные обряды пустыми. Такой взгляд на них я почел бы святотатством. Я помню, с каким трепетом вступил я в ложу и начал проходить ряд испытаний. Все, что я видел, все, что со мной делали, мне искренно казалось полным величайшего смысла. Эта черная комната, мертвая голова и кости с надписью: «memento mori», это хождение с завязанными глазами по какому-то лабиринту, снимание повязки, устремление на мою обнаженную грудь со всех сторон острия шпаг – все это приводило меня в священный трепет. На вопросы проводника о том, с каким намерением вступаю я в братство вольных каменщиков, я из глубины сердца отвечал, что единственное намерение мое – открыть вернейший путь к познанию истины!.. И ты знаешь, что таково было мое действительное намерение, мое страстное желание, так же, как и твое, так же, как и некоторых других наших братьев. Нам обещали, что мы достигнем цели с помощью братства. Нас заставляли подниматься по ступеням Соломонова храма, и мы искренно верили, что не маленькая жалкая модель этого храма, а сам он перед нами, и что нам, действительно, откроется возможность войти по его ступеням к алтарю вечной истины, к алтарю вечной Софии. Мы люди, мы слабы, но ведь все же мы честно боролись с дурными инстинктами нашей природы. Мы были добрыми работниками. Братство сочло нас достойными перейти в высшую степень. Для нас должны были открыться те таинства, которые мы в качестве учеников могли только благоговейно созерцать в вещественных аллегориях. Что же нам открылось? Ничего! Нам сообщили только то, что нам и так было давно известно в те дни, когда мы еще и не думали о масонстве!..
Вельский внимательно и грустно слушал, не перебивая своего друга.
Борис продолжал:
– Впрочем, нет, я ошибся. Мы, действительно, узнали многое. Мы узнали, я узнал, по крайней мере, что все эти обряды, или аллегории, вся эта внешняя сторона масонства есть в то же время и его сущность, ибо за ней вместо откровений великих истин – пустота. Я узнал, что многие наши руководители, перед мудростью которых мы преклонялись, слепо верили в эту неведомую нами мудрость, – почти круглые невежды. Исполнять Христовы заповеди, идти по пути самоусовершенствования, чтить Бога, любить ближнего, воздавать должное каждому из братьев – ведь все это и так требуется от каждого христианина! Масонство же обещает общую плодотворную работу, откровение величайшей науки всех наук. Но наше масонство ничего этого дать не может, потому что оно играет словами. Наши братья, я не говорю о всех, конечно, так как между масонами всегда можно встретить высоких и разумных людей, – но большинство наших братьев, огромное большинство – жалкие люди, не только не способные разрабатывать науку всех наук, но не способные даже поработать над собою; они погибают в слабостях человечества. Для таких людей, конечно, масонство важно. Им нужны театральные зрелища, и, пожалуй, они были бы недовольны, если бы за этими зрелищами скрывалось что-нибудь другое. Ведь не станешь же ты спорить со мною, если я утверждаю, что есть много масонов, которые поступают в братство только для того, чтобы завести связи с влиятельными братьями, влиятельными не в масонском, а в житейском смысле слова?! Через масонство достигают знакомств, связей, протекции, добиваются личных целей!..
– Все это правда! – перебил Вельский.
– Но ведь на это можно ответить, что тут нет еще ничего предосудительного. Всякий масон, кто бы он ни был, достигая посредством братьев более или менее высокого положения в обществе, тем самым служит цели масонства, способствует его распространению, влиянию на жизнь общества. Конечно, этим и оправдываются, и это было бы достаточное оправдание, если бы такими средствами выдвигались люди, действительно способные развивать истины масонские, то есть высокие и благородные задачи. Но ведь за примерами ходить недалеко – возьмем эти примеры из нашей ложи за последние пять-шесть лет. Разве мы не знаем несколько случаев, когда к нам пробрались никому неведомые люди, воспользовались значением и связями братьев, достигли того, к чему стремились, получили значительные места на службе и оказались взяточниками и грабителями!
– Да, к несчастью, то, что ты говоришь – правда! – сказал Вельский. – И не далее как на этих днях я узнал очень печальный случай. Ты, может быть, помнишь офицера Синяева, он был посвящен после нас?
– Как же не помнить! Очень хорошо помню.
– Он мне никогда не нравился, хотя я и старался победить в себе это предубеждение относительно «брата», ибо оно ведь должно считаться греховным в масоне. Синяев на всех производил впечатление человека очень деятельного, энергичного. Его всегда можно было найти у кого-нибудь из старших братьев. Он угождал всем, вслушивался в каждое слово, толковал о своих добродетелях.
– Что же с ним случилось?
– Очень печальная история. Дело в том, что его добродетелям поверили, на него понадеялись, ему была поручена очень большая сумма денег, назначенная на дела благотворительности. Он присвоил эту сумму и вместе с этим явился к Аракчееву с доносом на «братьев».
– И это осталось безнаказанным?
– Конечно, теперь не такие времена, чтобы мы могли чего-нибудь добиваться и что-нибудь разоблачать; напротив, Синяев, кажется, попал к Аракчееву в милость. Я еще недавно слышал, что о нем с похвалой отзывался один из наших ярых врагов – архимандрит Фотий.
– Вот человек, который меня интересует, хоть я и никогда не видел его, – перебил Борис. – Это человек, обладающий, по-видимому, очень значительной силой…
– А я его видел и убежден, что ты не найдешь в нем ничего интересного. Но перейдем к Синяеву. Я рассказал тебе этот случай вовсе не для того, чтобы признать себя побежденным. Да, мы видели несколько печальных примеров, но зачем же на них останавливаться – ведь это только частные случаи. Я сам почти разочарован в нашем масонстве, но вообще за масонством признаю большое значение. Я уверен, что если дело у нас идет плохо, то где-нибудь оно идет хорошо. Ведь братство раскинуло свои сети по всему миру. Ты был во многих местах, ты должен был столкнуться со многим важным и интересным. Я поспешил к тебе, чтобы узнать от тебя как от очевидца о том, что делают наши далекие братья. Неужели ты станешь меня разочаровывать?
– К несчастью – почти так! – грустно проговорил Борис.
XXI. Мистик
Борис поднялся и начал в волнении ходить по комнате.
– Истинное масонство, – заговорил он, – может существовать, должно существовать и, я надеюсь, когда-нибудь и будет существовать. Когда-нибудь люди отыщут потерянный ключ к разгадке великих и вечных тайн природы… То, о чем мы толковали и о чем мечтали в студенческие годы, не было заблуждением, не было праздной мечтой… Теперь я знаю, на основании тех сведений, которые получил, работая больше года в Британском музее, что мы не обманывались… да, ключ был – и человечество его потеряло, а между тем в глубокой древности этим ключом мудрецы отпирали все тайны. Истинное учение существовало у древних, первобытные мистерии – вот настоящие масонские собрания, ложи, вот где скрывалась наука всех наук!..
– Что же осталось нам, какие указания на эти потерянные тайны? Все это очень любопытно! – перебил Вельский.
– Остались указания на то, что древние обладали следующими истинами: они знали о существовании вечной, всемирной, всемогущей, всеобъемлющей жизни, созданной единым сверхъестественным Logos'ом. Эту бесконечную жизнь он создал из самого себя. Вещество этой жизни вечно, и вещество это – свет. То, что проявляется внешним образом, существует и отвлеченно, изначала, в своем первообразе, который отражается в зеркале чудес и зеркало это – София, вечно рождающая и вечно девственная… Весь видимый мир как явление вечной жизни управляется вечными законами, действующими и в невидимых для нас мирах. Эти законы суть свойства природы, и их семь: притяжение, противодействие, кругообращение, огонь, свет, звук, и наконец, тело. Будучи совмещением всего, первые шесть свойств природы делятся на две троицы, или на два полюса. Полюсы эти представляют из себя двойственность природы; первые три свойства: мрак, зима, страдание – ад; другие три – свет, наслаждение, лето – рай. Огонь – вечный очиститель природы…
– Какой же это огонь? – вдруг спросил Вельский, внимательно следивший за словами приятеля, но, очевидно, с большим трудом в них разбиравшийся.
– Какой огонь! Конечно, не тот, который горит перед тобою в этой лампе, хотя и в этом есть частица небесного огня. Древние знали иной огонь, небесный, обладающий разнообразнейшими и непостижимыми для нас свойствами; впрочем, эти свойства его уже начинают и теперь подмечать европейские ученые, и я уверен, что в скором времени относительно этого огня предстоит немало открытий. Но нескоро мы будем знать его так, как знали мудрецы древности, называвшие его огненным эфиром, духом, началом жизни… Но слушай – ты перебил меня, – вот последнее положение: всякий свет – порождение мрака, и для того, чтобы сделаться светом, неизбежно должен пройти через огонь. Как материя в своих разнообразных видах проходит этим путем, так и дух, достигая знания и света, должен выйти из мрака, который составляет его первоначальную темницу, должен очиститься в огненном горниле.
Борис остановился.
– Да, – сказал Вельский, – все это крайне интересно, но, признаюсь, сразу мне кажется очень неясным.
– Я понимаю это, – отвечал Борис. – Я объясню тебе все неясности, познакомив тебя со сделанными мною выписками из самых редких изданий, находящихся в книгохранилищах Европы. Ты сам увидишь, что я вовсе не увлекаюсь и что великая мудрость была достоянием древних истинных масонов, этих магов, перед которыми самые ученые мудрецы – жалкие невежды. Но все эти знания, вся эта мудрость великой науки о духе и материи исчезли вместе с древним миром. Впрочем, есть указания на то, что если и не вполне, то все же в значительной степени она и теперь сохранилась в недостижимых для нас глубинах Индии, среди тамошних браминов. Но что же делаем мы – масоны, искатели истины? Вместо того, чтобы ревностно подбирать крупинки этих великих растерянных знаний, мы ограничиваемся хорошими словами. Я посещал много масонских собраний в Англии, Франции, Германии и Италии, я надеялся, что хоть где-нибудь сойдусь с мужами знания, и, представь себе, – везде видел то же самое, что и у нас, даже хуже нашего! Масоны на западе лицемерят еще больше. Ложи не имеют в себе ровно ничего масонского. Это просто тайные политические общества. А между тем ты сам знаешь, что политика не должна входить в круг действий масонства…
– Да, не должна входить в круг действий масонства, – повторил Вельский, – но скажи мне, обязан ли человек, будучи масоном, быть равнодушным к политике, быть равнодушным к жизни своего отечества?
– Я не говорю этого!
– Вот то-то и есть! – внезапно оживляясь, воскликнул Вельский. – Если ты заметил или вскоре заметишь, быть может, некоторое охлаждение с моей стороны к отвлеченным вопросам, то это потому, что жизнь выставляет другие вопросы, насущные, от которых, по-моему, и позорно бегать. Ты два года провел вне России, ты отдохнул, освежился. Но ведь мы здесь задыхаемся! И в такой атмосфере жить невозможно, и с каждым днем становится все хуже и хуже!..
Борис нахмурился и не перебивал. А тот продолжал все с возрастающим жаром:
– Помнишь, после войны, как жилось хорошо! Мы тогда были очень юны, были почти дети; но ведь уже и тогда мы понимали многое. Да, наконец, спроси людей зрелых – все скажут одно и то же. Да, жилось хорошо! Впереди было светло, сколько надежд!.. Государь, просвещенный, покрытый славой, любящий свой народ, думавший только об его благе, надеявшийся повести этот народ впереди других наций к счастью, к свободе!.. Лучшие русские люди, светлые умы начинали получать влияние. Казалось, не было сомнений в том, что умственная жизнь получит у нас самое широкое развитие… Какая дивная перспектива! Вождь России, освободивший западные европейские народы от ига деспота, своим собственным примером, примером своего обширного государства укажет путь к благу всего человечества! Страна юная, которую еще недавно западные европейцы считали варварской, опередит все другие страны!..
И что же?! Года шли. Прошло десять лет – и какая печальная перемена! Какое страшное несчастье обрушилось на бедную Россию! Человек, столь разумный, столь благородный и возвышенный, питавший в себе такие великие планы, уже клавший первые, твердые камни благих начинаний, вдруг опустил руки… Совершилось нечто ужасное, непостижимое! Он оказался во власти изверга, грубого злодея, зверя и невежды, которого сам же когда-то – это не выдумка, я знаю наверное – сам же считал таковым!.. Аракчеев околдовал его. О, если бы он только мог видеть настоящее положение! Но он не в силах ничего видеть среди чар этого чудовища!..
Да, мы задыхаемся… У кого есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, ежедневно видят и слышат ужасы. Знаешь ли ты, что делается? Знаешь ли, до каких пределов дошла жестокость с крепостными? Ведь их пытают! Пытают, выбивают из этих несчастных подушные сборы кнутом и палкой! Я прошлое лето ездил к себе в деревню и сам убедился во всех этих ужасах. Два моих ближайших соседа, дворяне старого рода, принятые в обществе, порядочные люди, устроили у себя, конечно, насильственным образом, гарем, завели «jus primae noctis», – еще хуже того, так что противно об этом и рассказывать. И это ведь не исключение, и все это делается не втихомолку, не под страхом кары, а открыто, с полным сознанием своей безнаказанности, своего права!
Потом послушай, что рассказывают наши старые товарищи, которые теперь офицерами в различных частях войска… Вдумайся только, что значит двадцатилетний срок службы для солдата… и какой службы?! Ведь каждый начальник – это тот же помещик, распоряжающийся со своим подчиненным как с вещью!.. Суд наш – это позор! Справедливых решений нет. Всюду взятки, всюду кривда! Что тут поделает усилие отдельных людей! Да и где эти люди?! Аракчеевщина все придушила. Всюду шпионы! Слова сказать невозможно! Иметь у себя рукопись комедии «Горе от ума» Грибоедова – уже преступление. Можно пропасть, прочтя в дружеском, по-видимому, кружке стихотворение Пушкина «На свободу» или поэму Рылеева «Войнаровский».
– Ты сказал мне мало нового, – проговорил Борис. – Все это я знаю, все это томительно! И ты напрасно думаешь, что я за границей отдохнул и оживился. В течение этих двух лет я был занят не одними духовными вопросами. Я присматривался к жизни. Все государства Европы в печальном положении, хотя оно, быть может, и не так безотрадно, как наше. Я восстаю только против смешения разнородных вещей, мне противны всякая фальшь и лицемерие. Я хотел бы видеть в масонстве одно масонство; но вместе с этим нисколько не нападаю на то, если человек принимает к сердцу общественные недуги и ищет средства к их исцелению. Все дело только в том, какое средство…
– Средство найдено – Европа уже его употребляет в дело и достигает цели… – перебил Вельский. – Существует зло – и начинается борьба с этим злом. Там заметны попытки, серьезные попытки высвободиться из-под гнета; решительно и смело действуют карбонарии, в Испании силою добывают себе конституцию… Ну, а у нас – задыхаются и трепещут, у нас понимают ужас своего положения – и не ищут из него выхода. Мы рабы, бессильные рабы, мечтающие только о свободе!
Борис грустно качал головою.
– Да, – заговорил он, – борьба со злом… карбонарии… испанская конституция, и всюду кровь и кровь! Воля твоя, мне не верится, чтобы насилиями и тайными убийствами можно было достигнуть святой цели!.. Надо идти прямо, открыто, чтобы дойти с чистой совестью и утвердить алтарь чистыми руками. Надо поискать других средств, чем те, какие нам рекомендует Европа… но, послушай, я хотел спросить тебя… я слышал еще недавно кое-что о существовании будто бы и у нас какого-то движения, какого-то действующего общества; но я плохо этому верю.
Вельский так и насторожился.
– Ты слышал? Что ты слышал? Что?
– Да так, просто смутный слух – ничего больше…
Вельский подошел к Борису, положил ему руку на плечо и, пристально глядя ему в глаза своими блестящими, вдруг загоревшимися глазами, почти задыхаясь, проговорил:
– Борис, я тебя знаю, я в тебе уверен, как в самом себе… Слух верен, движение существует… есть общество… я – один из его членов.
Борис вздрогнул.
– Да? Правда? Какое общество?
– Оно организовано не со вчерашнего дня, оно действует, действует серьезно – и на юге России, и здесь, в Петербурге. Если ты хочешь – можешь примкнуть к нам. Ты должен примкнуть!..
Борис в волнении прошелся по комнате.
– Если ты можешь довериться мне – будь со мной откровенен, – сказал он, – если это честное, серьезное общество, если оно намерено действовать прямым, честным путем, без всяких насилий, без всяких несправедливостей, если действия, требуемые этим обществом от его членов, согласны с теми правилами жизни, которые мы, как христиане и масоны, обязаны соблюдать, я, конечно, присоединюсь…