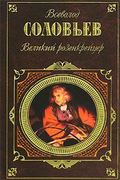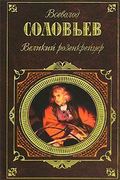Всеволод Соловьев
Старый дом
XXV. Допрос
Первый порыв отчаяния прошел, и Борис уже получил возможность обсудить более хладнокровно свое положение, отогнать от себя черные мысли. Он понял, что, конечно, его родные сделают для него все, что только в человеческой власти. Он понял также и то, что если станет теперь предаваться отчаянию, то истощит свои силы, наконец, может просто сойти с ума. Он решил терпеливо ждать и надеяться. Не далее как вечером того же дня, ему пришлось убедиться, что есть основание для надежды. К нему вошел плац-адъютант и ласковым голосом сказал ему:
– Я имею приказание перевести вас в другое помещение, где вам будет удобнее… Не отчаивайтесь, – прибавил он, – мне кажется, за вас уже хлопочут…
Но он вдруг замолчал.
– Вы чего-то не договариваете, ради Бога, скажите все, что знаете! – воскликнул Борис.
Плац-адъютант замялся. Но, взглянув на измученное, прекрасное лицо Бориса, не мог удержаться.
– Я не должен объясняться с вами, – сказал он, – но я уверен – вы меня не выдадите… Ваш отец был у коменданта. О чем они говорили – я не знаю, но комендант, провожая его, был такой, каким я его еще никогда не видывал. Он все повторял: «Успокойтесь, успокойтесь, вы можете на меня рассчитывать, ему не будет плохо…» И вот я получил приказание перевести вас.
Борис так и задрожал.
– Вы видели отца моего? Скажите, каков он?
– Мне кажется… он бодр… Я не заметил в нем никакого отчаянья.
Борис с чувством сжал его руку.
Через минуту они уже были во дворе. Бориса долго вели по неизвестным ему переходам и, наконец, он увидел себя в своем новом помещении. Оно не имело вовсе роскошного вида, но после ужасной и смрадной темницы показалось ему райским жилищем, почти таким же, как та комната, в которой он провел первую ночь ареста. Это была маленькая келья, не более как в несколько квадратных аршин, но с большим замазанным до половины известкой окном. На кровати были чистые подушки и байковое одеяло. Наконец – вот и маленький стол и стул… Положим, и здесь замечались кое-какие признаки сырости; но это уже совсем не то: по стенам не было плесени, а главное – не видно было отвратительных тараканов…
Плац-адъютант поклонился и вышел. На его место появился солдат с чаем. И солдат этот не походил на страшного сторожа с косыми глазами. Не походил, однако, и на добродушного солдатика первого дня. Большого роста, тонкий, как жердь, с мотающимися руками и унылым лицом, он имел заспанный и болезненный вид. Борис пробовал было заговорить с ним; но солдат только в него всматривался и ничего не отвечал. Он молча оправил ему постель и ушел.
Так прошло несколько дней. Борис все крепился, все ждал и надеялся. Вот появился знакомый уже плац-адъютант. Борис обрадовался ему как родному.
– С какою вестью? – спросил он его.
– Во всяком случае не с дурной… Видите ли, я должен свести вас в комитет…
– В комитет?!.
– Да, и теперь от вас самих будет много зависеть… пойдемте, мешкать нечего. Только прежде позвольте – я завяжу вам глаза… это необходимо.
Борис, конечно, не стал возражать. Плац-адъютант завязал ему глаза самым добросовестным образом и вывел его под руку. Борис жадно вдыхал в себя зимний воздух. Он чувствовал некоторую слабость в ногах; но голова его освежилась. Его вели довольно долго. Наконец он услышал, как отворяется дверь. Пахнуло теплом. С него сняли шинель, провели куда-то дальше, и сквозь крепко стягивавший его глаза платок он различил свет.
Платок сняли. Он увидел перед собою многочисленное собрание, сидевшее за большим столом. Стол был покрыт зеленым сукном. Множество восковых свечей освещало вороха бумаги, портфели, чернильницы и перья. Он узнал почти всех из сидевших за этим столом. Все это были высшие сановники. Он нередко встречался с ними в обществе, у некоторых из них бывал как хороший знакомый. Но теперь эти, внимательные к нему и любезные люди так глядели на него, как будто видели его первый раз в жизни.
Между ними находился и великий князь Михаил Павлович. Он взглянул на Бориса и тут же опустил глаза. Председатель этого комитета, военный министр Татищев, маленький любезный старичок, с которым еще недели три тому назад Борис провел вечер, обратился к нему и бесстрастным, спокойным голосом спросил:
– Вы были на площади среди мятежников?
– Был, – ответил Борис.
– На вас указывают как на одного из лиц, возмущавших солдат.
– Это неправда, я никого не возмущал…
– Из бумаг, у вас найденных, видно, что вы были в близких отношениях с Рылеевым, вы принадлежали к тайному обществу, которого он был одним из членов.
– Нет, я не принадлежал к этому обществу.
– Но вы ведь знали о его существовании?
– Знал.
– Вы разделяли взгляды Рылеева относительно того, что будто необходим насильственный переворот?..
Борис смутился. Он начинал бояться за каждое свое слово; первою его целью было никого не выдать, а он не знал, в какой мере все известно этому собранию.
– Я смотрел на Рылеева как на умного, образованного человека и уважал его как писателя, – проговорил он, – его политических взглядов я не касался и не знаю, каковы они…
– Каким же образом вы объясните, что у вас найдены бумаги тайного общества?
– Какие бумаги? – спросил Борис.
– Вот эти… заключающиеся в этом портфеле… Ведь этот портфель взят у вас?
– Да, у меня…
Если он не был в состоянии выдать ни одного из этих легкомысленных людей, сделавшихся, хотя и невольной, причиной его несчастья, – то тем более он не мог выдать брата. А все же ему не хотелось губить и себя. Ему было тяжело лгать на себя и он сказал:
– Портфель этот взят у меня, но я клятвенно могу засвидетельствовать, что не открывал его и не знаю содержания этих бумаг.
Все переглянулись с некоторым изумлением.
– От кого же вы получили портфель?
Вопрос был естественный, и Борис знал, что сейчас об этом спросят и что он должен будет ответить.
– Этот портфель был мне дан на сохранение…
– Кем?
– Я не могу сказать.
– Но вы должны сказать! – со своей обычной живостью вскричал великий князь. – Ведь в этом все дело… Будьте чистосердечным… Утаивая главное – вы себя погубите!
– Я не могу сказать и не скажу! – упавшим голосом и с тоскою повторил Борис.
– Это ваше последнее слово? – спросил Татищев.
– Да, последнее…
По знаку председателя, Борису опять завязали глаза, и он вернулся в свою келью.
На другой день к нему пришел священник. Борис обрадовался этому посещению, но когда священник начал его уговаривать ничего не скрывать от судей, он впал в уныние.
– Батюшка, я всю ночь думал, как мне следует поступить, – сказал он, – и решил твердо… Моя совесть покойна – я не был бунтовщиком… не хочу также быть клятвопреступником.
Священник печально покачал головою.
– Вы присягали на верность государю?
– Присягал.
– И вы, конечно, помните слова присяги? Следовательно – по прямому смыслу оной, вы обязаны не покрывать, а напротив того – открыть злоумышленников и врагов государевых… Разве я могу убеждать вас быть клятвопреступником? Я только желал бы одного – чтобы вы им не были.
Борис невольно смутился и опять, как уже не раз в жизни, перед ним встало неразрешимое противоречие. Он изложил священнику это свое состояние.
– В таком случае, – сказал тот, – вы не имели никакого права давать клятвенного обещания этому человеку не выдавать его… вы никоим образом не должны были принимать от него эти бумаги.
– Да, я вижу, что виноват! – с мучением проговорил Борис. – Итак, я должен, значит, понести наказание за вину мою… Я и понесу его… Но выдать я не в силах… меня могут пытать, меня могут казнить; но я не сделаю этого. Его дело, этого человека, сказать, зачем и при каких обстоятельствах он передал мне эти бумаги. Если же он не сделает этого – тем хуже для него; но я его не выдам, и не уговаривайте меня больше, батюшка! Вы можете довести меня до отчаянья и все же ничего не достигнете…
Священник скоро убедился, что это правда. Он вышел, так ничего от него и не добившись.
Опять потянулись дни; прошла целая неделя. И опять, как-то вечером, плац-адъютант завязал Борису глаза и вывел его из тюрьмы. На этот раз его посадили в карету и повезли. Ехали довольно долго. Потом его вели с завязанными глазами по целому ряду комнат. Он чувствовал под своими ногами мягкие ковры. Потом он слышал – отворилась дверь и заперлась за ним.
Звучный и показавшийся ему как будто знакомым голос проговорил:
– Снимите повязку!
Борис с трудом развязал крепкий узел, снял платок: он находился в обширном, прекрасном кабинете. Перед письменным столом сидел великий князь Михаил Павлович. Никого больше не было.
Овладев собою и поклонившись великому князю, Борис должен был ухватиться рукою за кресло – такую он вдруг почувствовал слабость.
Михаил Петрович устремил на него взгляд своих светлых глаз.
Борис выдержал этот взгляд.
– Государь обещал вашему отцу, – сказал великий князь, – сделать все для того, чтобы облегчить вашу участь, если вы этого заслуживаете. Отец ваш уверял, что вы не можете быть виновным, а, между тем, против вас много улик. Государь готов простить ошибки, готов простить многое, – лишь бы вы чистосердечно раскаялись в своих ошибках и были искренни. Ваше оправдание зависит от вас… вам остается одно – отказаться от упорства. Вы не хотели назвать имя человека, от которого получили портфель с бумагами… Вы видите – мы одни, скажите мне его имя!
Тоска сдавила Борису грудь.
– Ваше высочество, я готов вынести заслуженное мною наказание, – сказал он.
– Так вы сознаете, что заслуживаете наказания?
– Да, ваше высочество, я сознаю это… Я не питал в себе никаких преступных замыслов, я, сколько мог, отговаривал от этих замыслов других, я надеялся, что все это останется только словами и что никогда не произойдет того несчастья, которого я был свидетелем… Но выдать людей, которые могли отказаться от своих заблуждений и стать честными гражданами, несмотря на эти временные заблуждения, я не мог, эта мысль даже не приходила мне в голову…
– Честные граждане! – произнес великий князь. – Разве честь может быть рядом с изменой?!. Хорошо, вы считали, что все ограничится словами… вы видите свою ошибку и уж теперь как же вы можете смотреть на этих людей, как прежде?.. Они преступники и, покрывая их, вы сами становитесь преступным…
– Я это знаю, ваше высочество! – прошептал Борис.
Великий князь вспыхнул, глаза его сверкнули, но он сдержался и через несколько мгновений заговорил снова спокойным голосом:
– Подумайте и взвесьте все! Подумайте же о ваших несчастных родителях… Я знаю – вы жених, подумайте о вашей невесте… Откройте имя изменника – я требую от вас этого…
«Изменника! Брат – изменник! – мучительно подумал Борис. – Но ведь он же признается, наконец, что бумаги принадлежат ему! И тогда государь увидит, почему я должен был молчать!..»
– Ваше высочество! – с отчаянием прошептал он. – Быть может, скоро государь убедится и вы сами убедитесь, что требуете от меня невозможного…
Он снова пошатнулся и схватился рукою за кресло. Великий князь сделал нетерпеливое движение и позвонил. Вошел офицер.
– Завяжите ему глаза! – крикнул Михаил Павлович раздраженным голосом.
Офицер увидел повязку Бориса, лежавшую на ковре, и дрожащими от страха руками стал завязывать ему глаза. Он завязал их плохо – Борис мог, поднявши голову, почти все видеть. Потом офицер взял его под руку и вывел.
Офицер нечаянно прикрутил ему волосы так, что стало больно. Он невольно дернул головою и от этого движения повязка вдруг спала. Покуда испугавшийся офицер развязывал узел и снова накладывал на глаза повязку. Борис успел разглядеть некоторых людей, находившихся в этой комнате. Он успел взглянуть прямо перед собою.
«Что это?»
Нет, нет, он не обманулся! Он разглядел ясно, в нескольких шагах от себя, брата. Владимир стоял, по своему обыкновению, выпрямившись, высоко выставив широкую грудь, в своем блестящем мундире. Но его лицо показалось Борису страшно бледным…
Глаза опять завязаны, его ведут. Но вот чья-то холодная рука крепко сжала его руку…
Он сделал еще несколько шагов.
– Мне дурно! – успел он прошептать офицеру, ведшему его под руку, и потерял сознание…
Владимир уже не видел этого, так как это происходило в соседней комнате. Бориса подхватили и унесли.
На Владимира смотрели с сожалением, с участием. То, по-видимому, невольное движение, с которым он подошел к несчастному брату и сжал его руку, было всем понятно и всем также понятна была страшная бледность, покрывавшая его лицо.
Послышался шепот:
– Бедный, как он должен страдать!..
Его жалели еще больше потому, что в этот день заметили несомненные признаки особой к нему милости государя, который, искренно соболезнуя горю старика Горбатова, очевидно, желал, насколько это было возможно, ослабить силу несчастья, постигшего семью преступного молодого человека, милостями, оказываемыми его брату.
Он, действительно, страдал. Он страдал все время, но это страдание был страх.
«А вдруг он выдаст!»
И теперь, когда, войдя в эту комнату, он узнал, что брат беседует с великим князем с глазу на глаз, страх только усилился. Но он все еще умел владеть собою, обдумывал каждый шаг свой. Он сжал брату руку в расчете именно на то впечатление, которое это и произвело…
Теперь его сердце то замирало, то усиленно билось. Если судьи не выпытали у Бориса признания, то великий князь мог выпытать. Он ждал с мучительной тоскою, что будет дальше. Дверь кабинета отворилась, вышел великий князь, оглядел всех собравшихся и прямо направился к нему. Владимир едва устоял на месте.
– Ты видел брата?
– Видел, ваше высочество, – едва слышно прошептал Владимир.
– Он сам желает своей погибели, он упорствует. Передай твоему отцу, что государь исполнил свое обещание, но не имел успеха. Теперь я уже ничего не могу – и отстраняюсь…
Великий князь пошел дальше. Владимир вздохнул свободней, но страх не проходил. Этот страх должен был продолжаться во все долгое время следствия и вместе с этим страхом в душе Владимира, наперекор рассудку, поднималось что-то такое отвратительное, томящее, что не давало покоя, что отравляло немало лучших минут его жизни. Иногда это мучительное чувство усиливалось в нем до такой степени, что он испытывал неизбежную потребность найти себе хоть какое-нибудь оправдание. Ему нужно было чем-нибудь себя успокоить. Тогда он рассуждал так: «Виноваты во всем обстоятельства, и, наконец, виноват сам Борис… Если бы он тогда взглянул иначе – я имел бы еще время донести обо всем и, как знать, ведь можно было бы предупредить многое… Положим – нашлись другие… и они ничего не предупредили… Но ведь в моем портфеле было многое!.. Борис сам виноват… да, конечно!.. А потом объявить, что бумаги – мои… это бы его не спасло, а меня бы только погубило!.. Он меня не выдал, да, и я ему благодарен, на его месте я сам поступил бы так же!..»
Но он себя не мог обмануть этими рассуждениями. Ведь он хорошо знал, что причиной всего была его зависть к брату. Он хорошо знал, какие мечты давно уже приходили ему в голову… Устранить Бориса, этого «любимица», это «старшего» – вот, чего ему было надо…
Брат устранен.
XXVI. Во время «следствия»
Вернувшись в крепость, Борис предался самым мучительным думам и чувствам. Он теперь ясно видел уже, что ему нечего рассчитывать на благополучное окончание дела. Никакого недоразумения не существует, оправдание немыслимо, потому что он сам отказался оправдать себя.
Еще хуже того – все члены комитета, и сам государь, могут заподозрить его во лжи, да, наверное, уж и заподозрили, потому что в его словах явное противоречие: с одной стороны он считает себя невинным, с другой – у него найдены, очевидно, очень важные и сильно обвиняющие его бумаги, а он отказывается указать тот путь, которым они дошли до него.
Он говорит, что не читал их, не знает, но кто же ему поверит? Невозможно даже этого от них и требовать.
Значит – он сам себя включил в число преступников, заговорщиков, изменников, и, конечно, ему только остается ожидать заслуженной законом кары. Какова будет эта кара? Он рассердил государя, он вооружил против себя членов комитета, ему нечего ждать пощады. Впереди смерть или – самое меньшее – каторга… А то еще, пожалуй, вечное одиночное заключение; но ведь это хуже каторги, даже хуже смерти… Ведь это – медленное, каторжное умирание!.. А ему безумно, отчаянно хотелось жизни и свободы…
Встреча с братом во дворце, где тот, свободный и ни в чем не подозреваемый, исполнял обязанности своей службы, его поразила. Было мгновение, когда злое чувство наполняло его и он готов был уже так решить, что за такого брата пропадать не стоит. Ведь разве бы он, Борис, был способен, зная за собою вину и только скрывши все улики, молчать и представлять из себя невинного? Разве он был бы способен воспользоваться тем, что доказательства его виновности или легкомыслия попали к брату, и оставить этого брата погибать?!.
Он возмущался таким поступком, он чувствовал, что потерял брата навсегда.
«За что же мне погибать! – отчаянно думал он. – Я хочу жить!.. В первый же раз, как вызовут в комитет, признаюсь во всем, пусть каждый отвечает за себя и за свои поступки. Пусть совершается справедливость!»
Но Борис недолго оставался при таком решении.
«Положим, – думал он, – оправдываюсь, мне простят то, в чем теперь меня обвиняют, но ведь я погублю его!.. Да разве я его погублю? – решил он наконец. – Я погублю этим прежде всего себя, – я никогда не выживу с таким сознанием, оно будет преследовать меня, оно отравит мне всю жизнь. А отец и мать, и Нина! Они не простят мне этого. Ведь это позор, позор, который никогда не смоется с нашего имени. Нет, пусть он остается, пусть живет и наслаждается жизнью, если может. Пусть, ему все легко… Не мне выдавать его, не мне!..»
Когда это решение было им принято бесповоротно – новая мысль пришла ему в голову: он не выдаст брата, но, пожалуй, найдется кто-нибудь, кто и выдаст. Ведь кто знает – быть может, среди заговорщиков найдутся и такие, которые станут рассуждать иначе. Если Владимир будет обвинен, тогда все объяснится, тогда поймут – зачем он молчал, поймут, кто владелец портфеля и почему он не мог назвать его по имени…
Борис грустно качал головою. Ему не надо этого оправдания и одобрения. Пусть лучше считают его виновным, когда он не виноват, чем откроют поступок брата…
Он начинал снова тревожиться, но уже иною тревогою. Он боялся теперь пуще всего, чтобы не выдали брата… Никто не должен знать того, что произошло… Пусть лучше это горе отцу с матерью, чем то горе…
«Но что же будет со мною?!.» – почти громко восклицал он, чувствуя порыв тоски.
Он начинал себя успокаивать.
«Значит, так надо! Это судьба! – мелькало в голове его. – Значит, нужно терпеть и спокойно, как подобает человеку-христианину, ждать свою судьбу. Это испытание, страшное испытание, но оно послано свыше!..»
Борис остановился на этой мысли, и в ней оказалось его спасение. Питаясь этою мыслью, развивая ее в себе, он сумел победить отчаяние, тоску и ужас. Он терпеливо ждал какого-нибудь известия оттуда, от них. Но день проходил за днем, а известий никаких не было.
Его опять приводили в комитет, но немного от него добились. Он никого не выдал, он упорно молчал. Ему сказали, что показания его о том, будто он получил портфель с бумагами от кого-то – показание ложное, и доказательство тому прямое: он не мог получить этого портфеля. Этот портфель его собственный, потому что на нем, на что прежде не обратили внимания, вытеснен его герб.
На портфеле Владимира был, действительно, вытиснен герб Горбатовых. Но Борис не знал об этом, он не разглядывал портфеля.
– В таком случае я солгал, – мрачно сказал он, – и больше этого ничего не могли добиться.
Он узнал от плац-адъютанта, что комендант считает его очень преступным, что Сергей Борисович несколько раз бывал в крепости, но до сих пор никак не может получить дозволения видеться с сыном.
Действительно, Борис сильно испортил свое дело, и все, чего могли добиться Горбатовы, – это некоторого, хоть очень незначительного, улучшения в его одиночном заключении. Ему было доставлено белье, теплые вещи, ему приносили порядочную пищу. Наконец плац-адъютант принес ему книгу. Он взглянул и задрожал от радости – это была библия, хорошо знакомая ему библия его матери.
Измученный невыносимым одиночеством, не имея никакого занятия, он иногда буквально чуть с ума не сходил. Теперь эта книга ему представлялась неоцененным сокровищем. Теперь по целым часам он от нее не отрывался, вдумывался в смысл каждой фразы, находя в глубоких словах вечной книги утешение, отраду, ответы на все запросы своей души, почерпал в ней крепость и терпение.
Этого мало. Читая и повторяя прочитанное, он вдруг заметил, что некоторые слова, а иногда просто буквы, подчеркнуты карандашом. Такое подчеркивание, по-видимому, было бесцельно, но эта видимая бесцельность и обратила на себя его внимание.
У него застучало сердце, мелькнула догадка. Он начал разглядывать с начала, с первой страницы, и скоро понял, что догадка его верна. Из подчеркнутых букв и слов составлялись целые фразы:
Он прочел:
«Борис, я не хочу верить в твою виновность. Ты сам повредил себе. Делаю, что могу, не отчаивайся. Отец».
Он складывал и читал дальше…
«Да хранит тебя Бог, мой бедный сын, перенеси мужественно постигшее тебе несчастье. Бог милостив. Знай, что я непрестанно горячо молюсь и надеюсь. Молись и ты и не теряй веры, знай, что мысленно мы всегда с тобою и поэтому не считай себя одиноким. Будь терпелив, заботься о своем здоровье, насколько это возможно… Если тебе будет дурно, дай знать коменданту, и главное, главное – не отчаивайся. Я не отчаиваюсь, я верю в лучшее. Благословляю тебя. Твоя мать».
И еще шли подчеркнутые слова и буквы, и опять Борис складывал:
«Дорогой мой, есть надежда и я твердо верю, что наше свидание будет в скором времени. Если что мучает всех нас, так это единственно мысль о твоем отчаянии. Знай, ты будешь жив, а какая бы ни была судьба твоя, я разделяю ее с тобою, и я верю, что мы будем еще счастливы. Твоя Нина».
Будем счастливы! Но он и теперь был счастлив. Никогда, никогда в самые лучшие минуты жизни не испытывал он такого восторга, как теперь, в этой маленькой сырой келье, разобщенный с целым миром. Если бы его спросили в эту минуту, чего он хочет, он сказал бы: «Ничего». Конечно, эти минуты прошли, и явилось много, много желаний, но он был окончательно спасен, он примирился с судьбою и уже не думал о смерти. Эти подчеркнутые слова и буквы дали ему уверенность, что ему нечего ожидать казни, а каторга, ссылка – все это казалось теперь не страшным. Ведь воздух, свет, тепло, небо и везде с ним будет она.
Он принимал эту жертву, он знал, что иначе быть не может; он всегда знал, что они связаны навеки, и теперь ясно понимал, что это все заранее было предназначено вечной, властной судьбою. Вот зачем так давно они были указаны друг другу, вот на какую судьбу сошлись они!..
Он снова складывал и повторял ее дорогие слова… Но что это? Подчеркнутые буквы идут еще дальше… Еще кто-нибудь говорит с ним… кто? Ведь больше некому.
Он сложил и прочел:
«Я все знаю. Оправдаться тебе легко. Ты не хочешь этого. Я много думала и теперь вижу, что ты прав. За это я бы любила тебя еще больше, если бы только больше любить было возможно. Бог наградит тебя. Никто ничего не знает. Это бы убило отца и мать. Нина».
– Откуда же она знает? – пораженный повторил себе Борис…
А дело было так. Степан не вытерпел; он совсем измучился, думая о Борисе. Объясняться со старыми господами он не решился, а пошел к Нине и рассказал ей все, что видел и слышал.
Она сразу даже ему не поверила; но он скоро сумел убедить ее. Наконец она поняла все. Степану долго пришлось стоять и ждать, что скажет барышня, – она все молчала и думала.
– Я под присягу пойду, сударыня! – дрожащим голосом проговорил Степан. – Сейчас же от вашей милости пойду во дворец, к самому государю…
Нина покачала головой и слабо улыбнулась.
– Да ведь прежде всего тебя не пропустят, – сказала она.
– Добьюсь, добьюсь, сударыня! – блестя глазами, упорно повторял Степан. – Что же это!! Неужто так и пропасть Борису Сергеевичу из-за братца? А коли уж такое будет мне горе, что не пропустят меня, коли что со мною неладное – так ведь затем и к вашей милости наведался, чтобы вы о том деле знать изволили.
– Нет, Степан! – решительным тоном сказала Нина. – Никуда ты не пойдешь и молчать будешь… Я знаю, что Бориса Сергеевича обо всем расспрашивали и если бы он хотел сказать правду, так и сказал бы ее. А он не сказал… Без его позволения, против его воли, и мы не можем говорить… Значит – он так решил… Он знает, что делает…
– Как же это? Так и дать сделаться такому неправому делу?!. – совсем растерявшись и, видимо, пораженный ее словами, прошептал Степан.
Нина из рассказов Бориса хорошо знала Степана и относилась к нему не как к простому слуге.
– Да ты разве не понимаешь, Степан, – сказала она, – отчего Борис Сергеевич скрывает правду? Ведь родителей жалеет.
Степан даже вздрогнул. Эта мысль не приходила ему в голову.
– Хорошо же я сделал, что господам ни слова…
– Очень хорошо сделал! И теперь молчи… Вот, Бог даст, скоро увидимся с Борисом Сергеевичем… Бог даст, все… все… обойдется.
Она сдержала набежавшие слезы.
– Ваша воля! – глухо сказал Степан, вздохнул и вышел, понуря голову…
Время проходило. Борис отмечал дни, они тянулись иной раз невыносимо долго. Хотя надежда не терялась, но ужас одиночного заключения давал себя чувствовать. Здоровье Бориса стало расстраиваться. Он испытывал иногда большую слабость. У него начали делаться приливы к голове. Он сказал об этом плац-адъютанту, и тот привел к нему доктора. С этого дня Борису разрешено было ежедневно, в течение двух часов, прогуливаться по длинному коридору. Эти ежедневные прогулки, разговоры с солдатом-сторожем, который мало-помалу стал доверчиво относиться к Борису, были теперь большим для него развлечением.
Скоро явилось и новое развлечение: пришла весна, Борис взбирался на окно, так как верхняя часть его не была замазана. Окно выходило на Неву, можно было по целым часам следить за ледоходом. Но вот весь лед сошел, по Неве проходили корабли, плавали лодки. На противоположной стороне виднелись знакомые здания, отзвуки и отблески далекой жизни давали пищу воображению.
Однако все же иногда невыносимая тоска охватывала сердце Бориса, но он употреблял все усилия воли, чтобы не поддаться этой тоске. Он придумывал для своей мысли занятие, возвращался в прошлое, переживал снова всю свою жизнь, вспоминая мельчайшие подробности этой жизни. Затем он начинал впоминать все, что когда-либо читал, чему когда-либо учился. Делал экзамен своей памяти, вызывал из нее многое, что лежало в ней где-то так далеко, что казалось уже совсем забытым.
И, к его изумлению и радости, теперь он стал понимать часто такое, чего прежде не понимал. Теперь многое являлось перед ним в новом освещении. Он приучился ясно и всестороннее мыслить…
Плац-адъютант, очевидно, добрый человек, почувствовавший к нему расположение, наконец сообщил ему, что скоро его участь будет решена.
Это оказалось верным. В начале лета Бориса вели в верховный уголовный суд; ему прочли все вины его и объявили приговор, по которому он лишался чинов и дворянства и ссылался в Сибирь на каторжные работы на двенадцать лет. Он встретил этот приговор почти с радостью и вернулся в свою келью таким бодрым, каким давно не был.
На следующее утро, когда он сидел и думал о том, что же теперь будет, скоро ли, наконец, он получит возможность увидеться со своими, его дверь отворилась и, прежде чем он мог опомниться, он был уже в объятьях отца, матери и Нины.
Он не мог этого выдержать, рыдал, как ребенок. Потом, несколько придя в себя, стал в них вглядываться и прежде всего он увидел мать.
Сколько же времени, сколько лет прошло с тех пор, как он не видел ее? Что это сталось с нею? Она так похудела, так углубилась, так врезались еще недавно почти незаметные морщины на лице ее… Но это, это что? Ее волосы стали почти совсем белыми…
Он дико вскрикнул и упал перед нею на колени, прижимался к ней, обливал ее руки слезами. Бесконечная мука и жалость наполняли его душу.
Отец его поднял. И отец тоже изменился и постарел. Одна Нина была неизменна. Правда, она похудела, побледнела, но в ее лице, во всей ее фигуре виднелась какая-то сила, которой прежде в ней не замечалось. Она глядела на Бориса с бесконечным счастьем, она легко выносила то, чего не могла бы, пожалуй, вынести более, чем она, здоровая и крепкая девушка. Ей помогло легко вынести эти ужасные месяцы именно то, что чуть было ее не сгубило незадолго перед тем: ее мистицизм, ее вера в чудесное.
Теперь для нее уже не было никаких томящих, неразрешимых вопросов. Все ей стало ясно, она узнала смысл жизни. Она нашла именно ту жизнь, которую всегда искала. Это страшное испытание было послано им по великой любви Творца и Его милосердию, и грядущий путь был для нее ясен; и он был – осуществлением всех ее прежних, горячих мечтаний…
С этого дня первого свидания с родными для Бориса началась совсем иная жизнь. До отправления в Сибирь оставалось еще много, много времени, но время шло теперь уже иначе. Кончилось невыносимое одиночество, хотя келья оставалась все та же. Впрочем, даже и келья эта все же несколько преобразилась. В ней появились большие, чем прежде, удобства: мягкая кровать, теплый ковер. А главное – Борису дана была возможность получать книги.
Свиданья с родными и Ниной были часты. Он знал от них все, что делается на свете, – впрочем, он мало чем интересовался. Между прочим, он с ужасом узнал, что у Катрин родился ребенок – второй сын. Несколько раз его навестил и брат, но эти свидания были тяжелы как для того, так и для другого. Между ними не было объяснений и только необыкновенное самообладание Владимира заставило его, по-видимому, спокойно вынести эти свидания. Очевидно, его мучения окончились: не только брат, но и никто его не выдал.
Правда, во время следствия имя Горбатова несколько раз выплывало наружу и попадалось судьям, но они ни разу не усомнились в том, какой это Горбатов. Они только убедились в том, что Борис, очевидно, был неискренен и скрывал свою виновность. Таким образом, определенное ему наказание казалось многим слишком даже снисходительным в сравнении с его виною.
Владимир крепко сжимал руку брата и старался благодарно взглянуть на него. Но Борису делалось тяжело и неловко. Он подавлял в себе чувство брезгливости, которое невольно испытывал теперь относительно этого человека, еще недавно так сильно им любимого, связанного с ним такими, по-видимому, неразрывными, вечными узами. Но, видно, эти узы были не вечны, они теперь разорвались навсегда – и оба хорошо понимали это.