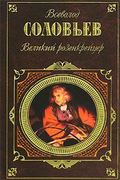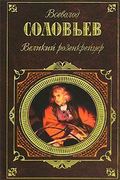Всеволод Соловьев
Старый дом
– Да разве иначе может быть? – горячо перебил его Вельский. – Или ты считаешь меня способным быть членом общества безнравственного, преступного?!
– Нет, не считаю; но прости меня, друг мой, ты иногда в состоянии увлекаться, ты можешь быть обманут.
По лицу Вельского скользнуло выражение большого неудовольствия. Он, очевидно, был оскорблен искренними словами Бориса.
– Хорошо, – произнес он, – допустим и это; но в таком случае я не скажу тебе ни слова больше сегодня. Дня через три-четыре я попрошу тебя приехать ко мне. Будут говорить другие и ты увидишь, увлекаюсь я или нет, и обманывают ли меня. К тому же ты, я вижу, утомлен – разговор занял бы слишком много времени. Да и мне пора.
Борис пробовал было удержать его, заставить его дать хоть некоторые разъяснения относительно общества; но Вельский остался непреклонен и уехал. Долго после его отъезда сидел Борис в глубокой задумчивости.
«Неужели что-нибудь действительно серьезное, честное и достижимое?! – думал он. – Может ли быть честным общество тайное? И в чем его тайна? Если оно желает действительного блага России, если набрались тысячи истинно честных людей и патриотов – они должны подписаться все под обстоятельной, всесторонне обдуманной запиской о том, что в настоящих обстоятельствах требуется для России. Эта записка должна быть представлена государю… Он разумен и благороден… он узнает взгляды лучшей части русского общества, он будет знать, на какие силы может опереться, на кого может рассчитывать… Вот цель!..»
Прекрасные картины начинали рисоваться в горячем воображении Бориса.
XXII. У Вельского
Князь Вельский не заставил себя ждать: через два дня, под вечер, он влетел в кабинет Бориса, совсем запыхавшись.
– Ну, слава Богу, захватил тебя! – сказал он, здороваясь. – Я так боялся, что не застану, что ты уже куда-нибудь уехал…
– Да я и то собираюсь, – ответил Борис. – Я обещал брату ехать с ними сегодня в театр.
– Пустое, мой друг, театр не уйдет, откажись, найди предлог и едем со мною. Через час у меня соберутся наши. Я уже говорил, что ты будешь, и все очень довольны… на тебя рассчитывают!
– Кто же эти все? Кто на меня рассчитывает?
– Через час увидишь, не расспрашивай.
Борис стоял, задумавшись.
– О чем ты? – с видимым неудовольствием спросил Вельский. – Ах, как мне не нравится твое лицо! Я никак не думал, что ты так отнесешься к этому делу!
– Да я еще никак не отношусь к нему… Я еще ничего не знаю! Хорошо, едем; я предупрежу своих, что не могу с ними. Но скажи мне – ведь и ты, так же как и я, склонен к этим ощущениям – неужели у тебя нет никаких дурных предчувствий?
– Никаких, ровно никаких! – бодро сказал Вельский.
– А у меня есть. Мне что-то сжимает сердце. И хотя я еще ничего не знаю, но как-то не предвижу ничего хорошего и для дела, и для тех, кто его задумал.
– Пугать не следует, – перебил Вельский, – да, впрочем, ты меня не испугаешь: я хорошо знаю, что в каждом серьезном деле есть большой риск, а в таком деле этот риск может быть огромным. Конечно, в случае неудачи, мы жертвуем всем, начиная с наших голов. Но разве иначе может быть и разве мы смеем об этом думать?!
– Прекрасно, – сказал Борис, – только мне кажется, если риск так велик, если успех крайне сомнителен, то следует ли приносить такие жертвы… Ведь очень легко ровно ничему не помочь и даром погубить себя. Или вы думаете, что ваша жизнь, ваша деятельность и без всяких рискованных предприятий, в той сфере, какая открыта и доступна для вас, – бесполезны?
Вельский грустно улыбнулся.
– Бесполезны, мой друг, совершенно! При теперешнем положении вещей мы ничего не можем, и, если оно не изменится, наша жизнь пройдет бесследно!.. Так мы все думаем…
Борис послал сказать брату, чтобы они его не ждали, что у него есть дело и, если он успеет, приедет прямо в театр, в середине представления… Он уехал с приятелем в самом мрачном настроении. Ему было неловко, тяжело, даже почти стыдно – одним словом, он испытывал, только в сильнейшей степени, то самое ощущение, которое в детстве сопровождало каждый его проступок, каждую дурную шалость. Впрочем, сам он был далек он подобного сравнения – он не разбирал своих ощущений.
В уютной холостой квартире Вельского скоро стали собираться гости. При появлении каждого из них Борису приходилось изумляться: все это были его знакомые, молодые люди, по преимуществу офицеры, принадлежавшие к хорошему обществу и более или менее известные своим умом, образованностью и талантами. Здесь были, между прочими, и братья Муравьевы, и Бестужевы, и молоденький гвардейский корнет князь Одоевский, которого Борис знал еще совсем мальчиком. Все они приветствовали Бориса очень радушно. Говорили, что давно поджидали его возвращения из-за границы и были уверены, что он кажется их единомышленником.
Все эти горячие молодые люди были очень искренни. Но, вслушиваясь в их рассуждения, Борис все же не мог подметить в них ничего серьезного. Все это были, по большей части, общие места, пламенные молодые фразы – и только. Он заметил также, что все, очевидно, кого-то поджидают. Вот раздался, наконец, звонок. Одоевский выбежал в переднюю и сейчас же возвратился с сияющим лицом, крикнув:
– Он! Он!
Вслед за ним у двери показался молодой человек, с наружностью хотя и не особенно красивой, но выразительной и привлекательной, с задумчивыми глазами и несколько утомленным видом. Выражение его лица менялось очень быстро и отражало все его ощущение. Большая нервность в каждом движении. Лета его определить было трудно. Сейчас вот ему кажется лет около тридцати, и тут же, через минуту какую-нибудь, он превращается совсем в юношу. Но всякий, кто хоть раз его видел, уже не забывал этого лица, этой фигуры. В нем было что-то особенное, своеобразное. И почему-то, глядя на него, почти у каждого являлось какое-то смутное ощущение как бы жалости к этому человеку, хотя он вовсе не казался жалким. Он гордо нес свою оригинальную голову.
Борис встрепенулся, его увидя. «Так вот кого недоставало, так вот кого ждали!» Он сразу ощутил в себе прилив симпатии, уважения и странной жалости к этому человеку и быстро пошел ему навстречу.
– Рылеев – вы! – проговорил он. – Как я рад встрече с вами!
Рылеев всмотрелся в него, улыбнулся, блеснул глазами и крепко сжал его руки.
– И я тоже; я знал, что увижу вас здесь сегодня.
Начались со всех сторон шумные приветствия. И Борис видел, что в этом молодом кружке Рылеев играет видную роль, что он всеобщий любимец, быть может, запевала. Борис невольно вздохнул и подумал:
«И он тоже ставит на карту свою жизнь!.. Но ведь он так умен, так благороден – дело, которому он отдается, не может быть дурным делом!..»
Он подошел к Рылееву, напомнил ему кое-что из старого, спросил о его жизни за это время.
– Много перемен со мною! – отвечал Рылеев. – Начать с того, что я недавно женился.
– Вот как! Я не слыхал… Поздравляю!
– С благодарностью принимаю поздравление.
Глаза его улыбнулись, все лицо расцвело, от него так и дохнуло счастливой юностью.
– Загляните ко мне, в мое гнездо… Моя женушка всегда рада хорошим людям.
– Спасибо, еще бы не заглянуть! А поэзия что поделывает?
– Ну, что поэзия, теперь мало времени о ней думать…
– Как так? Это что-то нехорошо и напрасно вы так говорите! Да вы и прав не имеете так говорить. От вашего таланта я жду очень, очень многого.
Вдруг лицо Рылеева потускнело, даже за минуту блестевшие глаза подернулись туманом.
– Что такое мой талант? Да и есть ли он у меня, я, право, не знаю! – глухо проговорил он. – Стихи, стихи! И они доставляют отраду, и они могли бы принести даже пользу, большую пользу, только, к несчастию, это уже поняли, а потому нас заставляют молчать, у нас вырывают языки, чтобы мы не пели!
Его голос вдруг зазвенел и поднялся.
– Да, это так! Но в таком случае мы должны бросить лиру, должны взяться за меч и доказать, что он в наших руках не пустая игрушка. Стыдно, позорно спать, когда начинает гибнуть все честное, все благородное… когда наступает торжество всякой неправды, всякой низости!
Присутствовавшие уже жадно слушали, со всех сторон обступая Рылеева и Бориса.
Но Борис вдруг перебил поэта.
– Прежде всего мы не должны увлекаться, – сказал он. – Мы не должны допускать в себе раздражения. Если наше положение так серьезно, что необходимо искать способ из него выйти, то нам следует вооружиться прежде всего благоразумием.
Рылеев взглянул на него даже почти со злобой.
– Благоразумие! – сказал он. – Как понимать его? Если противопоставить его безумию, то, надеюсь, оно у нас есть, мы и докажем это в серьезные минуты. Но, толкуя о благоразумии и хладнокровии, легко заморить в себе живую мысль и живую силу, легко дойти до апатии, до бездействия!.. И такого благоразумия нам не надо!.. Прежде всего мы, именно, должны питать в себе это возмущение души нашей против всего безобразного, несправедливого, против оков, налагаемых на законнейшие проявления свободного человеческого духа. Мы должны ненавидеть зло и его представителей. Мы должны поклясться друг другу страшной, великой клятвой ни на минуту не забывать этой ненависти, ни на минуту не помнить о себе и о тех опасностях, которым мы можем подвергнуться… Если мы хотим действительно блага нашей родине и человечеству, то, прежде всего, должны быть готовы принести себя в жертву. Если понадобится наша кровь, мы должны бестрепетно отдать ее… Из этой крови вырастет прекрасный цвет свободы!..
На поэта сошло вдохновение. Он весь пылал, глаза его сверкали. Все так и впились в него взглядами. Все, очевидно, находились под влиянием его энергии, все словно наэлектризовались ею.
Он передал всем свое настроение. Только Борис еще боролся внутри себя с влиянием этого страстного человека.
Когда горячий поток его речи замер и он вдруг побледнел, утомленный, взволнованный, с померкшими, мечтательно и неопределенно глядящими глазами, Борис попробовал перейти к практической стороне дела и заставить собравшихся объяснить ему их планы. Теперь каждый, с большим или меньшим одушевлением, принялся говорить, все перебивали друг друга.
Выработанного плана у них еще не было. Но Борису стало ясно, что все они увлечены, что понятия их иногда противоречат одно другому.
– Господа! – крикнул он. – Да ведь вы допускаете насилие!
– Насилие! – отозвался Бестужев. – Что такое насилие? Ведь это есть то, против чего мы должны бороться!
– Но какими средствами?
– Теми, какие будут в нашем распоряжении. Мы должны противопоставить силе силу. Если против нас выставлены ружья и пушки, то мы будем глупыми детьми, когда выйдем на борьбу с ними, вооруженные деревянными палочками! Против ружей и пушек и мы, конечно, должны действовать ружьями и пушками!..
– А если, начав с таких рассуждений, вы дойдете до преступления, самого гнусного преступления, которое не в силах оправдать никакая цель, никакие обстоятельства…
– Бог даст, нам никогда не придется доходить до этого! – заметил Вельский. – Мы бойцы, солдаты, а не преступники.
Рылеев вдруг поднялся с места.
– А прежде всего, – сказал он, гордо откинув голову, – нам нечего даже и задавать себе подобных вопросов. Что такое преступление?.. Это все понятия относительные. Мы подготовимся к борьбе, а когда она начнется – там будет видно, как нам действовать…
Но Борис был уже вне себя.
– Как! – крикнул он. – Преступление – понятие относительное?! Значит, и убийство из-за угла, в каких бы обстоятельствах оно ни было совершено, может быть не преступлением?!
– Да! – бешено отозвался Рылеев.
– Вы ли это?! Вы ли это говорите?! – с изумлением и грустно произнес Борис.
В это время все заговорили, перебивая друг друга.
– Да не слушайте вы его, Горбатов, он на себя клеплет!
– Конечно, клеплет – это его привычка.
– Ни из-за угла, ни прямо, он никого убивать не станет!
Рылеев откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и вдруг рассмеялся самым звонким, молодым смехом.
– Да, в самом деле, я, кажется чересчур погорячился… Но разве возможно не горячиться, когда столько накипело!
– Надо иметь то спокойное благоразумие, о котором я говорил! – произнес Борис. – Теперь, когда я вас выслушал, позвольте мне, господа, высказать вам и мои взгляды.
Он в общих чертах изложил свой план, единственный, как говорил он, в котором не может быть ничего предосудительного и который может достигнуть благой цели. Его выслушали с глубочайшим вниманием. Многие, в том числе Вельский, сразу встали на его сторону и находили, что во всяком случае, это мысль, о которой стоит хорошенько подумать, которую стоит хорошенько развить. Но вот начались возражения:
– А если это ни к чему не приведет? Ведь тогда мы все, сколько нас ни есть, будем подвергнуты строжайшему надзору и преследованию! Тогда у нас уже навсегда будут связаны руки!..
– Нет, этот план не будет принят, хотя, конечно, о нем следует известить не только здесь всех, но и южан…
Рылеев качал головою.
– Адрес… Петиция!.. Это хорошо на словах, а на деле выйдет чистейший вздор… Этот адрес окажется в руках того же Аракчеева, и о последствиях догадаться нетрудно…
Таким образом, как, впрочем, Борис уже понял, он не мог сговориться с этими людьми. И чем больше они ему нравились сами по себе, чем яснее становилась ему их искренность, тем делалось ему грустнее и грустнее. Они не сумели передать ему свою веру.
Затем офицеры стали рассказывать о настроении, господствовавшем в полках, между солдатами. О том, что несправедливости, истекающие из режима, введенного Аракчеевым, делаются с каждым днем нестерпимее, о том, что почва подготовлена…
Но Борис становился все рассеяннее, как-то охладевал. Решительно к нему не прививалась эта пламенная вера, которою дышали его собеседники.
Он предложил Рылееву ехать вместе.
– Я довезу вас к вашему дому и таким образом узнаю ваш адрес.
– Хорошо! – сказал тот.
Они уселись в карету, и несколько минут оба молчали. Но вдруг Рылеев заговорил, и заговорил совсем о другом – о поэзии, о Пушкине, который в это время находился в деревенской ссылке.
– Вот поэт! – горячо говорил он. – Боже, до какой высоты может дойти он и уже доходит! Ведь каждый его стих – это чистое золото! Какой полет мысли, какая сила вдохновения! Так чего уж говорить о моей поэзии, что я перед ним?.. Мне просто стыдно! Жаль, что он не в Петербурге, его нам недостает! Вот мы не успели вас ни в чем убедить, а он бы убедил.
– И вы уверены в том, что он стал бы убеждать?
– Безо всякого сомнения! Я знаю его образ мыслей.
Но вдруг он произнес задумавшись и гораздо тише:
– А впрочем, хорошо, что его здесь нет, что он вдали от всего этого… Там, среди тишины деревенской, зреет его поэтическое вдохновение. Он много создаст там высокого и прекрасного, а здесь ему бы все мешало…
– Вот это верно! И я был бы очень доволен, если бы и вас обстоятельства удалили в какую-нибудь деревню, в какое-нибудь уединение.
– Не сравнивайте! – перебил Рылеев. – Я повторяю вам: плохой я поэт! Умолкну – и никакой беды от этого не случится, никто ничего не потеряет. Я боец, я, может быть, нужен в бою и к нему готовлюсь. И я знаю, что погибну в бою… Я это предчувствую!..
Его голос вдруг оборвался. И Борис видел среди темноты, озаренной только неровным мерцанием каретных фонарей, как его глаза блеснули и померкли.
– У вас есть предчувствие… И вы ему верите?
– Да, верю!
– Но в таком случае, простите меня, я скажу вам откровенно – напрасно вы женились!
– Я сам знаю, что напрасно! Но когда я решил это, когда я женился – я не думал ни о чем… Я забыл все предчувствия. А теперь, теперь это часто возвращается, иногда просто преследует. Иногда мне невыносимо бывает глядеть на мою жену…
– Так остановитесь… Остановитесь вовремя!
Рылеев печально усмехнулся.
– А вы полагаете, что от судьбы можно уйти?
– Нет, от судьбы нельзя уйти! – прошептал Борис. – Но предчувствия иногда обманывают и не следует им поддаваться! – добавил он, но в то же время сознавал что предчувствия Рылеева действуют и на него, что он сам их испытывает.
В этом человеке было, действительно, что-то фатальное, и этим объяснялась странная жалость, ощущаемая в себе почти каждым, кто глядел на него.
– Вот мы и приехали! Спасибо вам… Смотрите же, навестите, – говорил Рылеев.
Он крикнул кучеру, чтобы тот остановился и, выходя из кареты, крепко стиснул руку Бориса.
XXIII. Ищущие Христа
Княгиня продолжала все быть не в духе. При встрече с князем Еспером она обдавала его такими презрительными взглядами, что он не знал, куда деваться, и всеми мерами старался избегать ее. С этой целью он даже два дня не обедал дома и только в темном будуаре генеральши сталкивался с племянницей. Но долго сердиться на Нину княгиня не могла. На следующий день она уже с ней говорила ласково, заставила ее перед обедом прокатиться вместе с нею по Невскому, вечером повезла ее на спектакль, хотя Нина пробовала было отговориться нездоровьем.
– Однако не так ведь уж ты больна, чтобы нельзя было в театр выехать! – сказала княгиня. – Напротив, я уверена, ты развлечешься, и это принесет тебе пользу. У тебя ужасное лицо! Мне просто обидно глядеть на тебя – как ты себя распускаешь… И какие это у тебя печали… фантазии… пустяки! Будь же умницей, не фантазируй, живи… в твои годы только и жить!.. И знай, Нина, я тебе это неспроста говорю, в твоих руках твое счастье, смотри – сама не испорть его!
Она притянула ее к себе и поцеловала. Нина улыбнулась, постаралась казаться веселой и ушла переодеваться для театра. А княгиня думала:
«Ах, следовало бы с ней построже, следовало бы хорошенько-хорошенько побранить ее, показать, что она еще слишком молода, чтобы забирать себе такую волю… Следовало бы заставить ее во всем признаться, во всех этих таинственностях… Да как тут быть?! Как станешь с ней строгой – с дочерью родной другое бы дело, – а она сиротка… как еще примет – не поймет, пожалуй, что от любви. Нет, нет – Боже избави! Нужно иначе… Ну, да постой, матушка!..»
Княгиня даже погрозила в ту сторону, куда ушла Нина.
«Постой, дядюшку мы все же отвадим! Найдется у меня союзник настоящий, хороший. И если ты дуришь, так мы хоть против твоей воли, да сделаем тебя счастливой!»
Несмотря на свои тревоги, княгиня все же считала невозможным не только подвергать Нину каким-нибудь стеснениям, но даже и следить за нею. А если бы она следила, то узнала бы, что на следующий день князь Еспер, не обедавший дома, вдруг появился, прошмыгнул в комнату Нины и шепнул ей:
– Будете? Ведь сегодня!
– Буду, – ответила она. – Я приеду с Аннет Ручинской.
– Только вы не опоздайте, пожалуйста, в девять часов ровно все будут в сборе!..
И князь Еспер исчез.
Княгиня по обычаю собиралась на какой-то вечер и звала Нину с собою, но та на этот раз решительно отказалась.
– Нет, ma tante, увольте! Я получила записку от Аннет Ручинской – она нездорова и просит меня провести с нею вечер.
– В таком случае поезжай, конечно, поезжай! – сказала княгиня.
Аннет Ручинская была приятельница Нины, годами двумя ее старше. Она принадлежала к почтенному семейству, и Нина знала ее еще прежде, в Москве. Против такого знакомства княгиня не могла ничего иметь и никогда не отговаривала Нину, когда она туда ездила, а ездила она довольно часто.
– Когда же ты собираешься? Сейчас, что ли?
– Да, ma tante!
– Так вот что: прикажи заложить карету и отправляйся; когда кучер вернется, тогда и я поеду. А за собой вели, уж делать нечего, саням приехать. Погода хорошая… Только, пожалуйста, не запаздывай… в особенности – в санях ведь будешь… Хотя и недалеко, а все же, знаешь, я всегда как-то неспокойна.
Все эти распоряжения были как раз на руку Нине. Она приехала к Ручинским, отпустила карету и затем через полчаса с приятельницей своей Аннет отправилась туда, где ее ждали, то есть к Катерине Филипповне Татариновой. Аннет Ручинская, не особенно красивая, но бойкая и умеющая постоять за себя девица, пользовалась дома неограниченной свободой. Старик отец жил всю эту зиму в деревне, а мать была олицетворением бесхарактерности, и дети ее, то есть Аннет вместе с братом своим, семеновским офицером, делали все, что им было угодно…
Домик Катерины Филипповны, с запертыми ставнями и воротами, казался, как и всегда, необитаемым. А между тем девушки, проскользнув в калитку мимо дворника, которого они назвали по имени и который придержал и успокоил собак, поднявших было лай, позвонили у крылечка. Старый лакей, отпирая им дверь, шепнул:
– Пожалуйте, пожалуйте! Все уже в сборе, вас только и дожидаются!
Нина и Аннет поспешно сняли шубки и затем повернули не в залу, которая была теперь освещена, а в коридор. Они прошли этот коридор и отперли дверь в маленькую комнату, нечто вроде спальни, так как здесь стояли кровать и туалет с зеркалом. Комната освещалась маленькой висячей лампой. На диване лежали два длинных белых балахона, очень похожих на саваны. Девушки торопливо, с серьезными и несколько взволнованными лицами, в глубоком молчании сняли с себя платья, надели эти саваны, а затем вышли из спальни и тут же, в коридоре, постучались у запертой двери. Им отворили, и они очутились в обширной комнате, оклеенной белыми обоями, освещенной стоявшими по углам на мраморных колоннах канделябрами. Окна этой комнаты были наглухо завешаны. По стенам, как и в гостиной Катерины Филипповны, висели превосходные картины духовного содержания.
Во всей комнате не было другой мебели, кроме стульев, стоявших у самых стен, и на этих стульях теперь разместилось около тридцати мужчин и женщин. Все были в таких же белых саванах, как Нина и Аннет. Войдя в комнату, девушки низко поклонились. Все встали и отвечали им таким же поклоном. Катерина Филипповна поманила новоприбывших к себе и усадила их рядом с собою. Нина огляделась – все знакомые лица. Она всех узнала; но постороннему трудно было бы узнать многих в этих саванах.
Здесь были, между прочими, молодые гвардейские офицеры, принадлежавшие к лучшему обществу и еще три дня тому назад танцевавшие на балу у Горбатовых. Здесь было несколько почтенных семейств – отцы, матери и дети: взрослые сыновья и дочери. И вперемежку с этим обществом, в таких же саванах и на тех же стульях, восседали лакеи и горничные как самой Татариновой, так и иных членов этого странного общества.
– Теперь мы в сборе, – сказала Катерина Филипповна, – можем начинать молитву!
Все встали. Человек высокого роста, средних лет, с очень приятным лицом начал читать «Отче наш». Читал он с большим чувством. Все набожно крестились, тихонько повторяя слова молитвы. Затем тот же человек, который был никто иной как Пилецкий, один из самых верных и старинных друзей Татариновой, развернул Евангелие и прочел тринадцатую главу Евангелия от Иоанна. Окончив чтение, он набожно сложил книгу и стал говорить самым тихим, мелодическим голосом:
«Возлюбленные братья и сестры о Христе! Сейчас вы выслушали свидетельство очевидцев великой вечери Господа нашего Иисуса Христа. Любимый ученик Божественного учителя поведал нам о том, как дух зла вселился в сердце Иуды Искариота и как тот предал своего Господа… „Да сбудется писание: едущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою“. Так сказал Спаситель, и Иуда Искариот, приняв от Него хлеб, пошел, чтобы предать Его. Иуда предал Христа. Петр троекратно от него отрекся! Каким уроком должно служить нам это прискорбное событие! Мы здесь собраны во имя Христа, мы Ему служим, Его ищем. Мы творим ту же древнюю вечерю. Вокруг нас бушует море нечестия, и корабль наш носится по волнам, готовым поглотить его. Но он крепок, этот корабль, пока мы храним нашу великую клятву и держим втайне союз наш. Да не будет же между нами не только Искариота, но и Петра…»
Он продолжал в этом же духе. Слова его с каждой минутой начинали все сильней действовать на слушателей: женщины плакали, даже некоторые мужчины утирали глаза. Только князь Еспер с довольным видом выглядывал из своего савана на Нину, стараясь разобрать выражение ее лица. Она была бледна по обыкновению, ее широко раскрытые глаза, в которых стояли слезы, были обращены к проповеднику. Никакого смущения, никакого признака нечистой совести нельзя было прочесть в этом лице. И князь Еспер успокоился.
Когда проповедь была окончена, все встали на колени, каждый перед своим стулом, и тихо и протяжно, в один голос начали петь. Во время этого пения Татаринова наклонилась к Нине и шепнула ей:
– Сестра, есть откровение… тебе сегодня пророчествовать…
Нина вздрогнула. По всему телу пробежала как будто электрическая искра, в ушах у нее зашумело, перед глазами запрыгали какие-то тени. Она вздрогнула еще раз и вдруг поднялась с колен, вышла на середину комнаты и под заунывные звуки песни стала кружиться. С каждой минутой ее движения становились быстрее. Белый саван ее развевался во все стороны. Она кружилась так быстро, что даже трудно было уловить ее очертания. Ее прекрасные длинные волосы распустились и извивались во все стороны.
Мало-помалу все присутствующие начинали приходить в какое-то исступление. Женщины уже громко рыдали; рыдали и мужчины. Песня смолкла. Со всех сторон раздавались только отрывочные слова: «Дух! Дух!.. Иисус Спаситель, приди к нам!.. Вселися в нас!..» Вдруг Нина, все продолжая неистово кружиться, произнесла какое-то слово. Татаринова кинулась к ней, крикнув:
– Начинается пророчество!
Нина приостановилась в своем неистовом верчении. Глаза ее неестественно и дико горели, грудь порывисто дышала, на губах показалась даже пена. Она, очевидно, с большим трудом ворочала сухой язык, что-то говорила, но что – разобрать было трудно. Наконец все расслышали:
– Придет и осенит!.. Ждите! Три недели!..
И она опять закружилась, завертелась на месте, пока наконец не упала без чувств на пол. Князь Еспер кинулся к ней, схватил ее и с помощью подбежавшего старика, лакея Татариновой, вынес из комнаты и уложил на постель в той самой маленькой спальне, где она сняла свое платье и надела белый саван.
– Ступай, Никита! – весь дрожа и захлебываясь, говорил князь Еспер. – Ступай, не пропусти, теперь Катерина Филипповна, верно, пророчествует!.. И я сейчас буду… прочту только над нею молитву… Ступай!
Старик поспешно скрылся.
Князь Еспер склонился над Ниной, прислушался к ее сердцу, отер платком холодный пот, покрывавший ее лоб, и вдруг так и впился поцелуем в ее полуоткрытые губы. Потом он упал на колени, схватил ее руку…
Но вдруг Нина сделала слабое движение, вздрогнула, открыла глаза, еще ничего не видя и его не узнавая. Он тихо приподнялся, на цыпочках вышел из комнаты и вернулся в молельню, где уже снова раздавалось то же заунывное пение и где вместо Нины, действительно, вертелась и пророчествовала Катерина Филипповна…
Нине казалось, что она проснулась после долгого сна, во время которого ей грезились самые причудливые, самые волшебные видения. Она не могла дать себе в них отчета, но ощущение, вызванное ими, наполняло ее еще всецело. Она чувствовала во всех членах большую, но приятную слабость. По временам ее охватывала нервная дрожь, что-то как будто подступало к груди, слегка сдавливало дыхание, заставляло замирать сердце. Но опять-таки и в этом ощущении не было ничего мучительного, а напротив – что-то даже блаженное… Нина снова склонилась на подушку и несколько минут лежала, не шевелясь, отдаваясь своим ощущениям. Ей казалось, так ясно, поразительно ясно показалось, что она не в комнате, не на постели, а в маленькой, маленькой лодке, в которой только и есть место, что для нее одной. И эта лодка тихо скользит с нею по гладкой, блестящей водяной поверхности, и тихо колышется, убаюкивая ее этим колыханием. Ей казалось, что в лицо ее веет теплая ароматическая струя воздуха, что до слуха ее доносятся какие-то далекие отзвуки неземной мелодии… Вот перед нею что-то голубое, какое-то сверкающее пространство… Но миг – и душистое дуновение, и колыхание маленькой лодки – все исчезает…
Она открыла глаза. Она сообразила действительность; но не могла вспомнить, как очутилась здесь, на кровати. Она помнила все до той самой минуты, как, после слов Татариновой, побеждаемая непреодолимым, уже давно знакомым ей влечением, стала кружиться. Что потом было с нею – она ничего не помнила. Она встала с кровати, ее ноги дрожали. Она почувствовала, что все тело ее болит. Голова немного кружилась и, держась за мебель, за стену, она вышла и отворила дверь в молельню.
Теперь и Катерина Филипповна, со всех сторон поддерживаемая, полулежала на стуле, с опрокинутою головою, и что-то шептала. Период исступления, очевидно, у всех окончился, все приходили в себя. Некоторые сидели по стульям, другие лежали на полу, третьи тихо прохаживались по большой молельне. Лица у всех были какие-то странные, с тусклыми глазами, с почти бессмысленным выражением. К Нине стали подходить. Ей передавали ее пророчество, требовали объяснений. Но она ничего не помнила и не понимала.
Катерина Филипповна теперь уже совсем очнулась. Оказалось, что и она во время кружения, в исступленном состоянии, повторяла слова Нины и предрекала какое-то великое событие, которое должно совершиться через три недели. И все вдруг стали говорить о том, что через три недели они обряшут Христа, что Он будет с ними. Только как это совершится – никто не знал.
– Нам надо неустанно молиться все это время, – сказал Пилецкий. – Нам следует очистить свою душу от всего земного, приготовиться достойно встретить Христа!
– Да, да! – вдруг подхватил князь Еспер, пристально глядя на Нину. – Нужно молиться, нужно приготовиться… Забыть все земное, отогнать от себя все земные помыслы и чувства!..
Но с Ниной происходило что-то странное. Вместо того чтобы проникнуться восхищением и священным трепетом, она почувствовала в себе внезапное, никогда еще не испытанное ею недоверие. Ей вдруг стало как-то неловко, как-то совестно и тяжело. Ей захотелось скорее отсюда… Все эти люди, вся эта обстановка, эти белые саваны – все это представлялось ей кощунством… Да, кощунством!
«Враг смущает! – подумала она. – Боже мой, да что же это такое… Враг смущает!..»
Но в то же время она не была в силах бороться с «врагом» и, подойдя к Аннет, шепнула ей:
– Если хочешь ехать со мною – едем скорее, а то я одна уеду… Я не могу больше… Я задыхаюсь…
Аннет сама была почти неузнаваема: лицо ее горело, глаза блестели, она то и дело вздрагивала всем телом. Расслышав слова Нины, она ответила ей:
– Хорошо, поедем, я тоже не могу больше!..
Они скрылись из молельни, сбросили в спальне балахоны, надели свои платья.
В коридоре их поджидал князь Еспер.
– Как, вы уезжаете? – испуганно сказал он глядя на Нину. – И не простились… Зайдите в молельню!
– Пусть сестры и братья простят нас, – прошептала Нина. – Я не могу, мне дурно… Я должна скорее на воздух!..