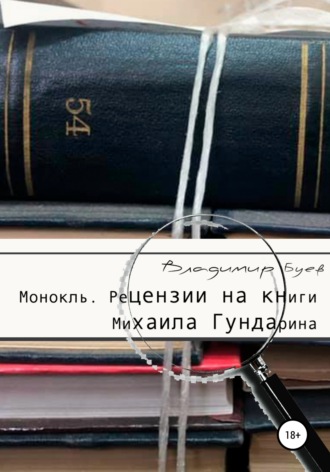
Владимир Буев
Монокль. Рецензии на книги Михаила Гундарина
Солнечные дни
Пишут2, что Цой не любил петербургскую зиму, особенно снег (белую гадость). Собственно, в Петербурге и лето не ахти какое, тем не менее в это время года есть солнечные дни (зимой-то их практически не бывает: сыро, слякотно, снежная жижа). Летом, что называется, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Зимой же в городе на Неве, и правда, тоска зелёная. У Цоя:
«Мне везде неуютно и пиво пить в лом
Как мне избавиться от этой тоски
По вам, солнечные дни?..»
…Ромку, героя шестого «трека» книги Гундарина «#ПесниЦоя», по солнечным дням тоже гложет тоска зелёная. По светлым дням, когда в его собственную жизнь и в пасторальную жизнь его деревни ещё не успела ворваться жёсткая жизнь железного города. Как только ворвалась, так деревни и не стало: всё, что было более-менее живым и что могло двигаться, в город постепенно и переместилось. Чуете «Прощание с матёрой» Распутина? А прозу Белова, Астафьева и (эх, была ни была!) Шукшина? Не чуете? А она есть! Вернее, даже они – и писатели, и их многочисленные деревенские прозы. Их всех есть у меня, вернее, у Гундарина!
И ещё есть у автора одна существенная деталь, придающая этому «треку» не только яркую социальность, но и гротескно-протестную идеологичность. Не только в сельскую местность пришёл разрушительный/разрушающий город, но в страну ворвалась новая жизнь в виде «перестройки», гайдаро-ельцинских реформ и всех последующих, как цепочка добавленных стоимостей, «радостей» и событий (которые, собственно, оставлены за скобками повествования, но не просто фонят, а прут «изо всех щелей и пор», возрастной читатель хорошо помнит и понимает реалии тех лет): «Для него [Ромки – В.Б.] всё было слишком просто – мир делился на до и после нашего появления. Для любого из нас эти тридцать лет делились на множество микровеков, каждый из которых открывал новую страницу. В каждом из которых происходило такое движение, что мы все могли моментально становиться и трактористами, и полковниками, и миллионерами, и министрами. И белыми, и чёрными, и серыми. И разбойниками, и сыщиками…»
Сравним с цоевским:
«Это время похоже на сплошную ночь [опять ночь! – В.Б.]
Хочется в теплую ванну залезть…»
Ромка, герой Гундарина, тоже терпел долго. И работал на пришедшего из города «совокупного» дядю, рассредоточенного/размазанного по безличному (или, напротив, сконцентрированного в обобщённом) «мы». Работал (парень был работящ, хоть и обижен на весь свет), но внимание (!)… «всего-то! – не любил наши порядки и ненавидел нас». А между тем упомянутый совокупный персонаж/«дядя» в представлении лица, которое ведёт повествование, таков: «мы снисходительны, мы добры. Готовы простить многое. Увлечение наших женщин такими, как Рома, тоже. Но всему есть пределы!..» Чуете «идеологически враждебное» и «клеветническое» замятинское «Мы»? Замятина вообще мало кто помнит, а ещё меньше тех, кто его читал. А он тоже есть у меня, вернее, предстаёт у Гундарина во всей своей красе!
Ромка терпел, как Бог, который велел делать это всем без исключения. Но ему не дали дотерпеть до логического конца. Вернее, не довели до точки бифуркации, когда это терпение исчерпывается и взрывается, после чего разум возмущённый готов идти в смертный бой. Или экстраполироваться в русский бунт, бессмысленный и беспощадный. «Мы» в лице полковника Романенко вовремя раскусили пацана, узнали его если не военную, то страшную тайну. Чувствуете Гайдара (не Егора с его радикальными экономическими реформами, а его деда – Аркадия с его Мальчишем-Кибальчишем)?
«И не так он [Ромка – В.Б.] был опасен нам, как мы были опасны ему. Ничего не сделал, может, и не задумывался ещё, но мог сделать каждую секунду. Или сам, или по команде откуда-то не отсюда… Странно мыслил этот тракторист, какими-то эпохами. Обобщениями. Как в старом учебнике «Новейшая история». Помню такой, с чёрно-белыми картинками…»
Хоть повествователь и утверждает, что «мы все были разные. Сам термин «мы» был неправильным. Разнообразие и конкуренция. Победы и неудачи», но чего уж (стиль автора): «мы» – это и есть «мы», а не какой-нибудь там «я».
Полковник нейтрализует «проблему» («проблема» – это и есть Ромка: он и сам проблема, и её носитель одновременно).
«… – А мать-старушка? – спросил кто-то из нас у Романенко, как бы в шутку.
Полковник только сверкнул глазом.
– Матерей-старушек мы не обижаем.
Ответ был неопределённый. Но мы все увидели в нём чистую правду. Правду со всех сторон и во всех возможных вариациях…».
«Ненужный [лишний] человек» – вот кто такой этот Ромка. Тут следует опять дать перечень всех классиков, писавших о лишних людях, а также поимённый/пофамильный список этих лишних людей. Но отошлю читателя к главке «Бездельник».
Многовариантность того, что случилось/могло случиться с Ромкой.
А что с ним, собственно, могло случиться, непьющим «алкоголиком в третьем поколении»? В конце концов все там будем.
Социальный постмодернизм и метареализм в одном флаконе.
У Цоя:
«…Я раздавлен зимою, я болею и сплю
И порой я уверен, что зима навсегда
Ещё так долго до лета, а я еле терплю…»
…Итак, подведём итог третьего рассказа-«трека»: Гундарин, Цой, Распутин, Белов, Астафьев, Шукшин, Замятин, Гайдар (не Егор, а Аркадий, который на самом деле Голиков).
Можно скромнее для автора книги (по алфавиту): Астафьев, Белов, Гайдар, Гундарин, Замятин, Распутин, Цой, Шукшин (Цой уже не в конце). Плюс все писавшие о лишних людях в русской жизни, кто ранее уже был поименован.
Малыш
Песня «Малыш» не вошла ни в один альбом Цоя/«Кино». Возможно, написав и немного попев/попотев, автор потом впал в смятение, застеснялся, ибо посвящена она была Сергею Пенкину (в те времена ещё можно было этого стесняться).
Изначально песня была то ли юмористической, то ли сатирической, то ли саркастичной и на свет появилась по следам совместных с Пенкиным концертов в Крыму. Источники сообщают, что эта двусмысленность самого её автора веселила:
«Тёплое, тёплое море
Жаркое солнце
Синие, синие волны,
И пустынный пляж.
Музыка рядом со мною
Ты рядом со мною
И весь этот берег
Наш…
…Когда ты смотришь так серьёзно,
Малыш, я тебя люблю…»
Сергей Пенкин вспоминал: «Я говорю: “Не буду выступать”. А Витя в ответ: “Всё будет хорошо!”…»
Так и пришла к певцу-гею всесоюзная известность, а то сразу и слава. Как, впрочем, и к Цою, и к группе «Кино», а затем и к её отдельным представителям, когда они занялись сольными карьерами/концертами. Кстати, впоследствии песню подхватила другая рок-группа – «Мумий Тролль» (её солист Илья Лагутенко то ли переосмысливал, то ли провоцировал, то ли совершал каминг-аут: «Когда ты робко меня целуешь, малыш, ты меня волнуешь…»)
В девятом рассказе автор «#ПесенЦоя» возвращается к лирическому «я» (повторюсь, это «я» не равно «я» самого автора), от лица которого и ведёт дальнейшее повествование: «Ну вот, дожили: я, пятидесятилетний литератор-неудачник, регистрируюсь в соцсетях под женским псевдонимом и начинаю писать там всякие гадости. Я толстый, в массивных очках. С бородой полулопатой, такой саперной лопаткой, которая во времена моей юности считалась обязательным атрибутом литературной деятельности. Ну, с деятельностью, да, напряг, а борода всё же немного выросла».
Похоже, что в этом «треке» автор откровенно провоцирует читателя: писать от лица сомнительного лирического «я» ему не впервой – его более ранняя повесть «Говорит Галилей…» в этом смысле ещё пикантней! Вот там настоящий бесстыдный (или как раз «стыдный») хардкор! Дескать, вот вам всем! И даже: вот так вот вам всем, и чо? Дескать, и чо вы мне сделаете, всё равно уже читаете, до конца немного осталось, никуда не денетесь, дочитаете, как миленькие, даже если и поплюётесь на лирического героя! Короче, в «Галилее…» – жёсткий хардкор, в «Малыше» – так себе, вокруг да около, хотя и не совсем.
В главном персонаже рассказа поначалу вроде бы играет отцовское чувство, а затем то ли не пойми какое, то ли даже вообще не пойми что. По многочисленным двусмысленным (а то и вовсе не двусмысленным) намёкам и экивокам можно сделать предположение, что скорей всего не пойми что. Тьфу! С одной стороны, за стенкой спит Маринка-давнишняя знакомица, ставшая женой героя ближе к его старости (или просто «типа жена»: сексуальная партнёрша). А с другой, «по комнатам в задумчивости бродит её сын. Тонконогий, с тонкими же, будто просвечивающими запястьями. С золотыми кудрями почти до плеч (это я настоял, чтобы не стригли). Одиннадцать лет. Золотой мальчик. Данила-мастер». А далее – и ещё «круче»: «И что мне с Данилой делать-то? Я представляю его в виде обнаженной статуи, выкрашенной в золотой цвет. Леонардо да Винчи отдыхает, красота – здесь. Но не сейчас, и вряд ли когда, конечно, эта затея со статуей осуществится». Тут уж совсем гей-педофилия какая-то! Если не разгром, то публичное искажение наших посконных ценностей, публичным и активным сторонником которых на самом деле является сам автор книги.
У лирического героя «трека» если не старческий маразм, то старческая сублимация. Ибо герой этот – писатель-неудачник: «Я раньше любил соотносить свой возраст с возрастом известных писателей. Кто во сколько лет что создал. Ну, Лермонтов, понятно, Пушкин… Так и Булгаков отпал. И Джойс, и Пруст. Я вот всё на Розанова смотрел, который, как и я, в провинции пропадал, с женщинами проблемы имел. Потом перебрался в столицы – и взлетел. Но потом я понял, что и Розанов меня куда моложе. Умберто Эко остался с поздним дебютом. Анатолий Рыбаков ещё. Ну и кто-нибудь другой есть наверняка». Авторы-предтечи творчества Гундарина, как видим, перечислены самим Гундариным, не будем вдаваться в подробности, для чего (мы их тоже просто включим в общий перечень предтеч в конце этой главки).
Несостоявшийся писатель, герой-неудачник приравнивает себя к двум группах людей, которым завидует: и к тем, кто состоялся, как писатель, и к тем, у кого просто есть деньги: «Деньги – они как алиби для самого себя и окружающих. Вроде как ответ на вечный вопрос – что делал весь свой век, чего добился? Ответ: разбогател. Ладно, хоть что-то. Не зря, мол. Но я-то беден как церковная мышь». И дальше ещё не раз в разных вариациях упоминается про «перебиваешься с копейки на копейку». Так сказать, «мильон терзаний» на тему славы и богатства. Настоящая творческая натура!
Однако в одиночку находиться в сточной канаве лирическому герою ой как не хочется, поэтому всех лидеров-удачников и аутсайдеров-неудачников в своём воображении он сажает в одну лодку: мол, «печатаешься ты везде, миллионер ты, или свой первый и единственный роман закончить не можешь, – посмотри вокруг. Дрянная, промокшая, в пятнах картонная декорация и муравьиная дрянь под ней. Вместо того, что было в наши восьмидесятые, да и девяностые тоже. Просрали-с мы с вами всё что могли, дорогие удачники».
С одной стороны, «вечная тема» книги: восьмидесятые-девяностые годы. С другой, – самоуспокоение, самооправдание. И своеобразная самопсихотерапия: все свои неудачи, горечь, всякие горести и неудовлетворённость главный персонаж «трека» словесными гадостями анонимно сливает в интернет (может, и правильно, что интернет хотят деанонимизировать?) Вот что пишет «герой» в недра всемирной паутины, взяв себе ник Lenka Perekur: ««По поводу феминизма. Я возмущена, во-первых, тем, что должна “по признаку пола” поддерживать эту оголтелую свору неудачниц и лесбиянок. Не хочу и не буду. Во-вторых, я правда считаю, что мужчины умнее и талантливее нас, баб. У них есть кое-что в штанах и кое-что в голове. И в душе. А у нас кругом одни дыры. Бабы мы дуры и есть. Хоть с образованием, хоть нет». А дальше «герой» любуется, какой срач начинается под его сообщением, подливает и подливает маслица в огонь, снова подливает – уже вёдрами. Этим свою жизнь, словно глубоким смыслом, и наполняет. Кстати, тоже своего рода творчество. Так и живёт.
У Цоя:
«Что же случилось с нами,
Что случилось с нами
Этот вопрос мне покой
Не даёт…»
Вроде больше и некуда «крестьянину податься». Помните «Чапаева»? Но там была Жизнь с большой буквы, причём идейная, а тут – просто не до жиру, быть бы живу. Существование, короче. Оттого и «изыски».
Как обещал, перечисляю уже перечисленное (не мной): Булгаков, Джойс, Лермонтов, Пруст, Пушкин, Розанов, Рыбаков, Эко. И кто-то другой есть наверняка: например, добрая четверть/а то и треть сохранившейся до наших дней эллинистической литературы в части ее «специфики».
P.s. Примерно в то же время, когда заканчивал редактировать всю свою «рецензию-эпопею», начал читать «Записки почерком Times New Roman», написанные Сергеем Кругловым, моим однокурсником ко красноярскому универу (ныне Сибирский федеральный университет) и изданные каким-то энтузиастом (который, думаю, неплохо на этом заработал). Удивительный вираж совершила судьба Сергея (или она сам совершил вираж в собственной судьбе). Парень был, пожалуй, самым талантливым на нашем курсе… даже не знаю, как сказать… литератором или просто талантливым (а талант может проявиться в любой гуманитарной сфере), а стал… попом. Кстати, сфера тоже своего рода гуманитарная.
Впрочем, это был шаг в сторону от того, что я хотел сказать/написать.
При чтении кругловских «Записок…» у меня возникла и потом не покидала аллюзия. Пусть и со своим нюансом.
Какая аллюзия? К чему?
Проще процитировать отче Сергея (или Сергия?), нежели пересказывать:
«Как-то давненько […] читал, помнится, про о.Иоанна Кронштадского… Вроде юноты решили поиздеваться над его прозорливостью; на пути его следования одного [своего товарища – В.Б.] уложили, укрыли дерюгою […] и, как только о.Иоанн подошёл, возопили: помолитесь, отче! Наш товарищ помре!.. Тот сурово стал, помолился – и ушёл; а юноты, снявши со смехом дерюгу […], с ужасом увидели товарища мёртваго […]
…Так вот.
Реальный сюжет из нашего с вами ЖЖ:
Некий бойкописец соорудил себе ник, а с ним – и ЖЖ-биографию; это ведь так прикольно (как ноне говаривают); фантазия у него неплохая, абстрагировался от себя и вжился в новый ник и новую биографию вполне конкретно, выступая в роли не себя, а придуманного персонажа – современной дамы полусвета… Дальше – больше: искренностью и занятностью постов своих оный бойкописец возбудил массы, вызвал обширный зафренд; среди френдов – попался и священник… Слово зА слово, комментом пО посту: бойкописец вошёл в роль; просит священника помолиться о том о сём; наивный и на голубом глазу своём священник молится (О НЕЙ) – – – и
… и что?.. вот думаю: может ли сюжет наш – по вышеозначенному – развиться так, что в одно прекрасное утро, в реальном своём реале, подходит бойкописец к зеркалу в ванной и видит в нём – – –…»
Уловил связь, уважаемый читатель, продравшись через дебри словес?
Пачка сигарет
Десятый, кажется, самый большой по своему объёму «трек» в журнале «Сибирские огни» не публиковался – попал под сокращение. Так сказать, под нож. Впервые опубликован в отдельной книге. Рассказ начинается с того, что лирическое «я» автора, седого и пятидесятилетнего, попадает в 1988 год. То ли «назад в прошлое», то ли «назад в будущее» (помните эти фильмы?), главное – что именно назад, а не вперёд.
Судя не только по этому рассказу, но и по книге в целом, 80-е годы прошлого столетия (и даже тысячелетия) – наиболее яркие и памятные для самого Михаила Гундарина, а 1988-й – вообще самый-пресамый (он будет упомянут ещё в одном из следующих «треков» и, соответственно, в моей рецензии на тот «трек»). К слову: именно в 1988 году сам Михаил перевёлся из далёкого провинциального университета в Москву (и не в абы какой вуз, а в МГУ).
Совпадение? Не думаю! Лично для автора этой рецензии 1988 год тоже очень ярок и памятен. Я служил срочную в рядах Советской Армии, и это был второй год моей службы. Впрочем, это сегодня тот период кажется ярким и радостным, а когда служил – всякое бывало. Наиболее запоминающимся оказалось возвращение из армии в родные пенаты – в МГУ на третий курс журфака, с которого меня в армию и забрали. С «которого», да не с «которого», ибо курс был хоть и третий, да не тот, как не тем был известный Федот из поговорки. Вот тут-то мы, кстати, с автором книги пересеклись, познакомились и стали учиться не просто на одном курсе, но в одной группе! Но для меня это был уже конец 1988-го года. Кажется, октябрь или уже ноябрь (лень заглянуть в военный билет).
В общем, как для нас обоих (меня и автора книги рассказов), так и для лирического «я» гундаринской «Пачки сигарет» это был год «яркости красок, объёмности изображения». Думается, что особенно насыщенным и контрастным год был для «третьего нелишнего»: лирического «я», которое оказалось в прошлом (опять машина времени? снова Герберт Уэллс?). Почему же из всей нашей тройки именно герой «трека» в дамках? Потому что для него всё оказалось не просто здесь и сейчас, а наяву. Он вживую увидел всё то, что за 30 лет жизни в его «памяти повыцвело, стало плоским, вроде старой открытки…».
Итак, стоит, значит, герой на площади С. города П., «куда приходили все автобусы из соседних деревень» и озирается. Глубинка. Городок, как описывает его автор, явно затхлый, скверный (однако не приморский, а потому вовсе не лермонтовская Тамань, иначе автор назвал был городок Т., а не П.). И не деревня Гадюкино, где каждый день идут бесконечные дожди. Но радости тоже мало: «…пыльно, асфальт разбит, безобразно разросшиеся кусты закрывают полуразрушенную церковь – то ли склад, то ли бывший ведомственный клуб…»
И в прошлом-то в этих местах было не ахти, но в настоящем, куда лирическое «я» снова переместилось/вернулось, – ещё хуже: «…Там – неопределённость, бедность, одиночество, страх…»
…Стоп! Тут пока прервёмся, ибо лирическое «я» начинает рефлексировать: «Я ощущал ломоту, странную, тянущую боль во всём теле. Как будто разламывался на две половинки, сверху вниз. Слева – одна эпоха (старше), справа – другая, моложе. Каждая болезненная часть была словно затянута тонкой полупрозрачной плёночкой, легко поддающейся нажатию пальца». Рефлексия о «философском», то бишь ни о чём, перемежается «размышлизмами», «куда пойти, куда податься?»: «…предупредить Ельцина и Горбачёва – а стоит ли? И нереально пробиться в Кремль. Про ядерное разоружение что и мечтать. Сказать Цою, чтобы не садился за руль “москвича” в тот роковой день? Но ведь это случится куда позже. А сейчас, не могу сообразить, он уже с Айзеншписом, то есть, звезда и не подступиться, или ещё можно запросто? Но это же в Питере, а дотуда не добраться. В П. первый и последний раз “Кино” приедут только в 90-м, кажется, и сразу на стадион…»
Надо отметить, что всё это автор книги написал ещё до нынешней спецоперации в Украине, иначе его лирическое «я» наверняка пулей рвануло бы в… или по крайней мере помусолило бы в сознании вопрос, а не пойти ли известно по какому адресу (чтобы кому следует рассказать, что сделать, а что делать не следует ни в коем разе, чтобы предотвратить и избежать, предусмотреть и победить).
От общего – к частному (Конан Дойл!): размышления героя трека о том, кто виноват и что делать, трансформируются в личное: не податься ли к друзьям, к будущей жене, ещё куда подальше? Кстати, даже про копеечную газводу лирическое «я» вспомнило (ностальгия, чего уж). Мелочь, а читателю в возрасте приятно, как кошке – доброе слово! Размышления эти, правда, ничем не заканчиваются, ибо герой понимает, что после подобных заявлений, утверждений и прогнозов/предсказаний его упекут в психушку. Денег нет («но вы держитесь») – пошёл куда глаза глядят. То бишь центр города.
…Однако продолжим прерванную (как полёт) на полуслове, вернее, на слове, мысль и однородный ряд (цитирование) того, что осталось «там», в будущем: «…бедность, одиночество, страх, ужас при воспоминании о недавней Катастрофе. Ну и начинающаяся старость, конечно. Да ничего страшного, у других хуже. Болезни, например, та же лучевая сплошь и рядом. Кто-то и не выжил в Катастрофе (многие), а всё-таки грустно и неприятно. Нет, я то (это) время своим не считал. Ни один год девяностых, нулевых, десятых…»
Про начинающуюся старость понятно («все мы в этом мире смертны, тихо льётся с клёнов листьев медь»). А вот что за недавняя Катастрофа случилась в «том» будущем времени героя, из которого он сбежал, читателю догадаться не сложно: коль речь о «лучевой», то ядерная война, чему ж ещё там случиться (кар-кар-кар!): хорошенькое «предсказание» с учётом того, в какие дни рецензент читает чужие и кропает свои строки (книга написана Гундариным задолго до начала «спецоперации»). Впрочем, это поначалу догадливый читатель может «предположить». Потом, то бишь в конце «трека», когда герой будет пойман с поличным «патрулём времени» из соответствующих органов и попросит ловца позволить себе в последний раз посмотреть на небо, будет сказано уже прямо (предположение оправдается): «…У нас ведь с этим не очень… Бункер, ядерная зима, все дела. Урезанный рацион…»
«Патруль времени» назван автором книги «karma police» (полиция нравов, полиция кармы). Думаете, что это «спроста»? А вот и нет! Там двойное-тройное дно, к Цою, казалось бы, отношения не имеющее. Хотя опять же: как знать. Именно так, «Karma Police» называлась песня альтернативной английской группы Radiohead из третьего студийного альбома «OK Computer» (1997 год), выпущенная как сингл и занявшая в 2012 году восьмое место в символическом списке «Лучшие композиции за 10 лет скробблинга» портала Last.fm. Последовательность аккордов в песне, как заметили знатоки, отсылает к композиции группы The Beatles «Sexy Sadie»:
«Я потерялся,
Я потерялся
Уф, секунду
Я потерялся
Я потерялся…»
Совпадение? Не думаю!
Вот вам и Цой, и «патруль времени» в одном флаконе:
«Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна
И не вижу ни одной знакомой звезды
Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда
Обернулся и не смог разглядеть следы…»
С «патрулём времени» герой столкнулся случайно: очень уж захотелось ему закурить. Своего курева не было, пришлось попросить у первого встречного-поперечного! Тот предложил пачку сигарет марки… Но тут лучше поцитировать: герой «трека» протянул руку за сигаретой, «да так и застыл, раскрыв рот. “Пётр I”! Марка, которой в 1988 году не было и быть не могло…» (есть таки в кармане у незнакомца пачка сигарет!)







