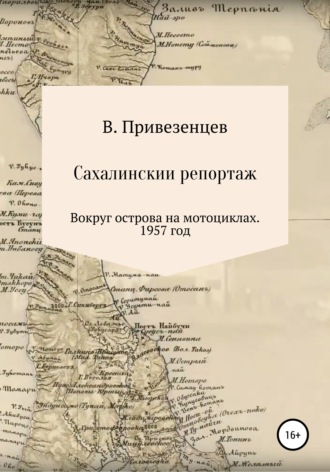
Владимир Андреевич Привезенцев
Сахалинский репортаж. Вокруг острова на мотоциклах. 1957 год
В сейсмостанции включают радио. Идет передача из Москвы. Тонкий провод от приемника тянется во вторую жилую будку.
Несколько будок и тракторов стоят в морозной пустыне. Тьма вокруг. И только над головой крупные, как горошины, звезды. Постепенно сон берет свое. Укладываясь на узкой скамейке в сейсмостанции, Алексей Ильич договаривается со старшим рабочим:
– Давай, Митя, ляжем поверх мешков. А то проспим, станцию подморозим. Нужно будет ночью дров подкинуть.
А утром в ведро на раскаленной печке летит глыба белого, как рафинад, снега. Михаил Машин, бросая в лицо пригоршни холодной воды, весело бормочет:
– Здесь будет… город заложен…
Где теперь кочуют эти волевые люди, оптимисты по природе, не боящиеся никаких трудностей? В каких уголках тайги прокладывают они новые пути?
Сонно шумят в ответ лиственницы. С востока, где расцветает зарево нового дня, тянет тонкий предутренний ветерок. Аркадий трогает ногой кик-стартер остывшего двигателя.
– Пошли!
Все яснее становится кругом. Светлеет впереди дорога. Через несколько десятков минут въезжаем в поселок с ровными шеренгами домов, расчищенными улицами.
Вышла на крылечко женщина в платке. Кто-то из ребят, не слишком сведущий в местных наименованиях, кричит на ходу.
Эй, бабуся! Как эта деревня называется? В ответе звучит неожиданная обида:
– Сами вы деревня! Это ж нефтеразведка Сабо!..
Здравствуй, Сабо, – нефтеразведка и промысел, выросший за короткий срок на глазах у всех сахалинцев!
Главный геолог Валентин Тараканов, отодвинув в сторону кругляши сероватой глины и пробирки с маслянистыми растворами, задумчиво повторил:
– Как мы начинали? Не так-то легко вспомнить: много прошло событий… Но все же попробуем.
В кабинет то и дело заходят люди – коллекторы, буровики, трактористы, – прислушиваются к разговору, усаживаются у стола. Главный геолог рассказывает суховато, то и дело обращается за справкой к большой карте, на которой тонкими линиями обозначена сабинская структура.
Но собеседники часто прерывают его, и рассказ украшается такими подробностями, что рука невольно тянется к блокноту.
Мы записали историю Сабо, рассказанную самими строителями нефтеразведки.
…Летом по речке, которую нивхи с древнейших времен называют Сабо, кочевала геологическая партия Валентины Дмитриевны Бутиной. По вечерам геологи собирались у костра, варили ужин, а с первыми лучами солнца вновь принимались за работу.
Они пробивали шурфы, неглубокие, до трех метров скважины. Когда тайга была исхожена вдоль и поперек, геологи пришли к выводу: «Здесь может быть нефть».
Как известно, «может быть» и «есть» не стоят рядом. У нефтеразведчиков, прибывших на новую структуру, поводов для сомнения было столько же, сколько у геологов.
Первый трактор, с прицепом, ломая кусты, выбрался на полянку.
– Подожди, Миша, не останавливай! Здесь дерево мешает…
– Мешает? Руби!
Один за другим шли по тайге тракторы с буровым оборудованием, трубами, приборами, домашним скарбом.
В тот год все делалось одновременно: строился первый дом, возводилась первая буровая, прокладывалась первая дорога, а рабочая столовая осваивала выпуск пельменей и вареников.
Трактор и будка на санях были единственным видом транспорта на разведке. Им пользовались рабочие, выходя утром из домов, в каждом из которых жило по нескольку семей, отгородивших от соседей собственное жизненное пространство ситцевыми занавесками.
Трактор перевозил на станцию больных и доставлял в поселок арматуру, из которой вышкомонтажники, вцепившись ногами в леденящий металл, вязали первые буровые.
…Вышка стояла километрах в трех от поселка, но молодой мастер Жаудат Муратов редко бывал дома. Пожелтевший от усталости, он сутками сидел на буровой, где ревели дизели, скрежетала лебедка и одна за другой уходили в землю длинные бурильные «свечи».
В мае 1952 г. колонна была «прострелена». Газ шел из-под земли с такой силой, что тайга гудела на много километров вокруг.
Это был праздник.
Это была победа.
Но вечером Жаудат, глядя на ярко освещенные окна домов, где сто пятьдесят разведчиков праздновали победу, коротко сказал:
– Газ – еще не нефть.
В то время молодой мастер не знал, что ему предстоит пробурить первооткрывательницу нефти – «Шестнадцатую».
Это произошло в декабре тысяча девятьсот пятьдесят четвертого. Пурга налетела тогда внезапно, размывая своими порывами очертания домов, труб, деревьев.
Проходка скважины была закончена, получили приказ спускать обсадную колонну. Едва начали спуск, – все кругом побелело. Ветер срывал с губ слова команды. Пурга отрезала буровиков от поселка.
А на буровой не хватало четырехсот метров труб. Их нужно было доставить немедленно. И тракторы двинулись в пургу. Только на третьи сутки тракторист Михаил Газизов раздвинул в улыбке обмерзшие губы:
– Все-таки добрались.
«Шестнадцатая:» дала фонтан – первый фонтан сабинской нефти.
Узнав об этом, прораб вышкомонтажников Петр Васильевич Пиксаев вооружился топором и начал строить собственный индивидуальный домик. Теперь осесть на земле стоило накрепко.
Самой трудной была зима 1955–1956 годов.
Пурга почти не утихала. Она завалила снегом бараки, остановила железную дорогу.
Поселок оказался отрезанным от мира.
В эту зиму люди работали, крепко стиснув, зубы. Вахтовые тракторы не могли пробиться к буровым, и бригады стояли по восемь, шестнадцать, двадцать четыре часа.
Один трактор вывозил сразу две вахты. Пока одна работала, вторая отдыхала в культбудке.
О ком рассказать? О вышкомонтажниках молодежной бригады Виктора Клинкова? О шестидесятилетнем прорабе Науме Демьяновиче Воскобойникаве? О вахте Николая Грималюка?
Все они трудились для того, чтобы назвать 1956 – годом окончательной победы.
На нефтеразведке поднялась первая пятерка «фонтанных елок».
– Есть промышленная сабинская нефть!
А разведчики шагнули еще дальше в тайгу, на пятнадцать километров от поселка, на «Южный профиль».
Жаудат Латыпович Муратов, которого все попросту зовут Яковом Алексеевичем, опять двое суток не уходит с буровой. Сегодня нужно брать пробу.
Вот, наконец, с глубины, превышающей полтора километра, поднят серый столбик породы. Выпускник Иркутского университета старший коллектор Герман Куклин разламывает его, подносит песчаные кружочки к лицу и с наслаждением вдыхает запах нефти.
– Нефть!..
Снова ревут дизели. Дрожит «свеча», едва заметно для глаза погружающаяся в недра земли.
На высоте бесстрашно работает комсомолец Анатолий Кириллов. Верховым его назначили совсем недавно.
Жаудат более спокойно разговаривает по телефону с женой, которая ждет его дома:
– Да, теперь скоро приеду… Иок, – и добавляет несколько слов по-татарски.
Изменился за эти годы поселок. На плане, который висит в кабинете парторга Василия Карымовича Загидулина, можно прочесть: «школа», «столовая», «электростанция», «мастерские», «стадион».
Сабо – очень молодой поселок. Но в нем уже немало людей, которые не успели застать ни палаток, ни керосиновых ламп.
Юрий Кулешов, например, приехал сюда в прошлом году после окончания нефтяного техникума. Приехал вооруженный знанием новейшей техники. Он оператор газокаротажной станции.
Впрочем, Юрий тоже кажется старожилом двум девушкам и парню в форменной шинели – практикантам техникума. Кто знает, может быть и они в ближайшем будущем станут жителями Сабо.
Поздно вечером в клубной библиотеке гремит «Мир». В Москве сейчас полдень. Столица передает передовую «Правды»…
Голос Москвы слушают нефтеразведчики Сабо, поселка, которого еще нет на карте Сахалина, но который непременно появится на ней.
Если опросят нас, какая из дорог в нашей области является лучшей, мы ответим без колебания: от Сабо до Охи!
Широкая, ровная, с хорошо сделанными виражами, она позволяет развить скорость до восьмидесяти километров в час.
Бегут под колеса последние километры автострады. В утреннем тумане показались двуногие стальные вышки – эклипсы старейшего на Сахалине Охинского нефтяного промысла.
Вот мы и добрались до самой северной точки маршрута.
…Где пурга пахнет нефтью
Зотовская вышка. – Оха «ситцевая» и крупноблочная. – На старейшем нефтедобывающем. – Старожилы и новички. – Комсомольская стройка. – «Мирный атом» у нефтяников. – В Рыбновск. – Секрет рыбновской кеты.
Неприветливо приняла спортсменов столица «Дальневосточного Баку». Самый северный сахалинский город готовился встретить осень. Блестел мокрый бетон мостовых, растворились в туманной дымке очертания домов и стальные ходули эклипсов на старейшем промысле, в карие холодный ветер глухо шумел в кронах деревьев.
Машины остановились У новой гостиницы. Пока Маша – веселая и расторопная дежурная – просматривала наши паспорта и хлопотала, чтобы все попали в одну комнату, окончательно рассвело. Сквозь туман пробилось солнце и центральная городская магистраль – улица Дзержинского, – умытая дождем, засверкала всеми цветами радуги.
Двухэтажные и трехэтажные дома, шеренги серебристых фонарей, зеленые газоны. Крепко встал на сахалинской земле город Оха. Сделано в нем все не на месяц и не на год. Кажется даже, что он старше других городов на острове.
Но мы знали: два года назад не было многих домов рядом с гостиницей, три года назад не было самой гостиницы, а тридцать лет назад, вообще ничего не было. Только тайга стояла на девяти холмах, да существовала легенда о «керосиновом озере».
История сахалинской нефти насчитывает, правда, много десятилетий. Еще в 1880 году николаевский купец Иванов, услышав от нивхов о «керосин-воде», получил первый отвод для строительства промысла.
В последующие годы по его следам хлынули на северный Сахалин десятки хищников и авантюристов. Кого только не перевидела тайга! Немца Клейе, приехавшего с Суматры, экспедицию англичанина Нормана Ботта, инженеров американского капиталиста Гарри Синклера, представителей «Немецко-китайской компании» и японской фирмы «Кухара».
Но тщетно… Одиноко осталась стоять среди тайги деревянная вышка отставного лейтенанта Зотова, не давшая ни ему, ни его наследникам и тонны «черного золота».
Мотовская вышка ныне охраняется как исторический памятник. Она стоит в центре большого промысла. Ее окружают не лиственницы, а лес стальных эклипсов, станки-качалки, нефтепроводы и резервуары, котельные и конторы.
С вышкой нас познакомил лучший оператор промысла по исследованию скважин Николай Ильющенко. Вначале он выполнил свою работу: произвел замер скважины гидравлическим динамографом новейшей конструкции, а затем, упаковав прибор в чемоданчик, показал нам «памятник старины».
В деревянной клети он подобрал стальной прут, сунул его в стальную трубу, торчащую из земли, и вытащил обратно, с прута упали густые черные капли.
– Была нефть, а взять, конечно, не могли… То, что оказалось не под силу русским и иностранным предпринимателям, свершили граждане молодого социалистического государства, строители страны Советов.
Месяц спустя после освобождения северного Сахалина от японских оккупантов, 19 июня 1925 года сторожевой пароход «Воровский» привез первую разведывательную экспедицию к дикому Кайгану.
В сентябре 1927 года четыре десятка строителей отпраздновали закладку конторы будущих промыслов.
Это живая история. Парторг промысла Владимир Дворянкин, вздохнув, сказал:
– Сам-то я, если вы историей интересуетесь, много не расскажу… Я тут всего десять лет работаю. Десять лет на нашем промысле – еще не стаж. Вот Анатолий Сергеевич может…
Он кивнул пожилому коренастому человеку, сидевшему за соседним столом.
Анатолий Сергеевич Цветков тридцать лет назад был бригадиром комсомольско-молодежной бригады вышкомонтажников, «бригады отчаянных», как ее называли. Промысел встал на его глазах и, можно сказать, выстроен его руками. На столе появились старые фотографии.
– Это тридцатый год… – объяснял старый комсомолец. – Вот тут мы сейчас находимся, а там, где вырубка, – мастерские стоят. Видели, наверное, по пути. А это емкости открытые… Вышки, конечно, деревянные были…
Высоким мужеством, энтузиазмом, суровой борьбой с природой были отмечены первые годы строительства Охи. Люди жили в палатках (за их выгоревший брезент Оху называли «ситцевой»), рубили тайгу, строили вышки и дома, настилали дощатые тротуары через болота, чтобы рядом с Зотовской вышкой встал первенец сахалинской нефтяной промышленности.
Грозненские и бакинские мастера, приехавшие по призыву Партии осваивать неведомые месторождения, обучали новых рабочих, создавали кадры нефтяников.
– Трудное время было, горячее… – продолжал Анатолий Сергеевич. – Сейчас мы по улицам деревья высаживаем, возим издалека, а тогда не знали, как в тайге прорубиться. Один мой товарищ – он и сейчас в Охе – помню заблудился, еле промысел нашел. А плутал он в тех местах, где теперь кинотеатр «Нефтяник». В центре сегодняшнего города.
В 1932-м «ситцевая» Оха была уже городом с 25-тысячным населением, с больницей, школами, магазинами, рабочими клубами и радиостанцией. По новому адресу ежедневно поступало двенадцать тысяч экземпляров газет.
За десять лет сахалинские нефтяники сумели увеличить добычу в 150 раз. В 1940 году за героический труд большая группа инженеров и рабочих была награждена орденами и медалями.
Промысел стар, но он живет. И как живет!
– У нас нелегко работать, – говорят нефтяники. – Разрывы пластов разделили нефтеносную породу на десятки самостоятельных блоков. Сыпучий песок образует пробку вокруг забоя. Хитрим, как можем!
«Хитрость» же – постоянная и кропотливая работа над действующим фондом. В ней участвуют все – мастера добычи и подземного ремонта, операторы, трактористы, исследователи, геологи.
Анна Яковлевна Торопова и Ильяс Гильмутдинов пришли на промысел в разное время. Анна Яковлевна – в суровые военные годы, Ильяс – недавно. Они работают на одном участке и отношение к труду у них одинаковое. Днем и ночью, в мороз и пургу обходят операторы свой участок, чутко следят за работой каждого ставка. Им приходится учитывать сотни различных мелочей, добиваясь бесперебойной работы скважины.
Отлично трудятся нефтяники самой сложной профессии – оператор подземного ремонта Павел Стародумов, помощник оператора Андрей Щербаков, тракторист Алексей Гаранжа. На пронизывающем ветру они поднимают из скважин нитку труб, наполненных нефтью и песком. Длина ее несколько сотен метров. После ремонта – она снова в работе.
Упорные искания – вот что сделало промысел передовым, обладателем трех переходящих Красных знамен. Здесь успешно внедрены укрепление забоя цементно-алюминиевой смесью, обработка призабойной зоны, воздушная блокада и блокада горячей нефтью.
Слово «добытчик» в наши дни обозначает не человека, который берет то, что дает ему природа, а новатора, умеющего взять нефть в любых сложных условиях.
Оха – город старожилов и молодых специалистов. Ежегодно осенью он принимает новых граждан – посланцев Москвы и Ленинграда, Грозного и Одессы, Хабаровска и Владивостока.
В гостинице встретились с двумя ленинградками-подружками. Их судьба сложилась не совсем удачно. Закончили по специальности «бурение», а теперь придется переквалифицироваться на геологов, потому что должность «помбура» здесь явно не по женским силам. Но настроение, несмотря ни на что, – бодрейшее. Девушки собираются на дальнюю нефтеразведку, смеются:
– Дернуло же нас набрать багажа!.. Ну да, и лук, конечно, везем. Так мы о Сахалине знали только, что сюда нужно лук везти. Высадились в Москальво – страшновато стало… Но мы и прикоснуться к своим ящикам не успели! Мигом все перегрузили. А ведь почти незнакомые люди!
Так началось знакомство девушек с Сахалином. Кем они будут, какие дороги пройдут?
Вспоминается история, услышанная на станции Охинской узкоколейки. Тоже о молодом специалисте. Рассказывала ее начальник поезда, женщина, видевшая за время жизни в этик местах такое, что и в книжке не прочтешь.
– Верочка Нехаева, новая фельдшерица, работает на Пильтуне недавно, с ноября. Познакомились мы с ней быстро. Часто она больных в Оху возит. Заметили, что ласковая она к каждому, внимательная… Сопровождала она однажды раненого парня. Тяжелый был, бился, бинты с себя срывал. Мучалась Верочка с ним всю ночь. Но сдала в больницу в полном порядке.
Бежит к двенадцати на вокзал. Привалилась к моей шинели и говорит: «Алла Константиновна, я устала!». А у нас, в ту поездку «бригадного» не было. Повела я ее по вагонам, нашла местечко, посадила на мягкие узлы.
Уснула Верочка. Доехали до Одопты. Если бывали там, так знаете: одно название, что станция, будка да насосная, а больше ничего нет. Только тронулись, проводница из «детского» красный флажок выкинула.
Бежит, объясняет: «У меня в вагоне женщина рожать собралась. Сначала сидела. Потом, на пол легла. Лежит и молчит. Ну, я сама баба, понимаю… Не шуми, – говорю, – пойдем Нехаеву будить. Доктор, вроде, есть».
Разбудили Верочку. Пришла она, посмотрела. «Сейчас, говорит, за инструментом только сбегаю».
Трудные роды были. Часа два прошло. Эрри уже проехали. Верочка все успокаивает роженицу: «Плохо, мамаша? Ничего, сейчас родим…».
Наконец, родила. Девочку. Да только она не дышит. Как начала Верочка ее вертеть, мять, шлепать, даже я не выдержала: «Больно же!». Вера аж побелела, но молчит, делает свое дело. И как крикнул ребенок, у меня внутри все перевернулось. У Верочки тоже слезы брызнули. «Вот, говорит, и Наташка родилась. Назовем Наташкой, мамаша?». А та только глаза закрывает.
В Пильтун приехали – вызвали санитаров. Посмотрела я на Верочку. Еле она идет за носилками, устала. И такая она молоденькая… И-эх, думаю, добрая ты душа!..
Жив на сахалинском Севере героический дух тридцатых годов. По-прежнему Охинский комсомол является верным помощником коммунистов. Но только несоизмеримо выросли за прошедшие десятилетия его ряды. Если в 1926 году в Охинской Организации было 12 комсомольцев, то сейчас она насчитывает 3700 юношей и девушек.
Комсомольцы в Охе – операторы, и мастера добычи, бурильщики и буровые мастера, строители и электрики, трактористы и железнодорожники – люди замечательных творческих профессий. Дела их становятся вехами в истории родного края.
Когда спускаешься к железнодорожной линии мимо огромного здания «Сахэнерго», бросаются в глаза длинный цех, элеватор, складские помещения. На башне – комсомольский значок и буквы «ВЛКСМ».
Это завод железобетонных изделий – комсомольская стройка. Здесь трудились по путевкам горкома комсомола 130 нефтяников, трактористов, металлистов, шоферов. Из них были скомплектованы шесть бригад.
Городу был нужен завод, и комсомольцы дали его – предприятие, выпускающее плиты перекрытий, карнизы, ступени, панели зданий, крупные стеновые блоки, перемычки, балки весом до трех тонн, сборные фундаменты и колодцы.
Смолк в цехах строительный шум, сейчас стоит обычный, трудовой. Курится белый дымок над пропарочными камерами. На платформах выкатываются готовые изделия. Подъезжают к окладу автомашины и развозят их по стройкам города.
Сооружение зданий из сборного железобетона приняло в Охе самые широкие размеры. В конце улицы Дзержинской сверкают стеклами два больших дома, сложенных из крупных блоков. Это еще одна черточка в облике города – индустриальная.
В кабинете, увешанном планами, цветными эскизами и панорамами, главный архитектор города, совсем еще молодой человек, веселый и энергичный, с увлечением нам рассказывал:
– Плановая реконструкция Охи началась совсем недавно, в 1952 году. Но сделано немало. Особенно это заметно на облике наших улиц. Большие изменения произойдут на улице Дзержинского и в нынешнем году. Вы видели, очевидно, строительную площадку в центре, за памятником Ленину? Это закладывается новый Дом культуры. Он будет иметь зрительный зал на шестьсот мест, лекционный и спортивный залы, комплекс клубных помещений.
Трудно перечислить все стройки. Только по объединению «Сахалиннефть» войдет в строй пятнадцать тысяч квадратных метров жилья. Город получит еще одну школу на 880 мест, новую баню. Есть еще одна новость… – Архитектор развернул кальку, и мы прочли: «Октябрьская», «Спортивная», «Пионерская», «Садовая». – Часть улиц квартала индивидуальных застройщиков существует пока только на плане, но многие из двухсот пятидесяти участков уже отведены…
Год от года разрастается и хорошеет город сахалинских нефтяников. Пар и газовая плита в каждой квартире, новые магазины без продавца и рестораны, теплица, где вызревают теплолюбивые томаты, – все это сейчас кажется здесь рядовым, обыденным.
Но если уж говорить о росте города нефтяников, нельзя не сказать о его неодолимом стремлении раздаться вширь. На десятки километров рассыпала Оха в тайге огоньки промыслов и разведок.
Конечно, сейчас невозможно представить Оху без Эхаби, Восточного и других промыслов. Нам хотелось побывать и на сопке «Сахарная голова», где буровой мастер Ремир Кукушкин провел первую на Сахалине двухствольную скважину без специального оборудования, на комсомольско-молодежном участке добычи Наума Подрядчикова, куда еще совсем недавно можно было пробраться только с палкой в руках по тонкой нитке нефтепровода, в Эхабинском газокомпрессорном цехе, снабжающем котельные промыслов и жилые дома лучшим топливом…
Мотоциклы вкатились прямо в просторный механический цех ремонтного завода. Нам гостеприимно предоставили все – место, инструмент, станки. Леша и Станислав, сами токари по специальности, быстро нашли общий язык с ремонтниками, и работа закипела.
Ремзавод – одно из крупнейших предприятий не только в Охе, но и на Сахалине. Его цеха заполнены гудением пламени, ударами механических молотов, огнем электросварки, стрельбой дизелей.
Его техническому оснащению, современным, машинам и агрегатам может позавидовать любой завод. Недавно вступила в строй большая установка по закалке деталей токами высокой частоты. Ее вводил в строй главный энергетик завода Владимир Дудун.
На этот раз главного энергетика мы опять застали за новым делом. Вместе с электромонтером Николаем Тороповым он регулировал сложную электрическую схему. Завод готовил к пуску свою гордость – сталеплавильную электропечь.
– Печь дала первую пробную плавку, – рассказал Владимир. – Теперь дело стало за тем, чтобы наладить сложную электрическую схему автоматического управления. Все электрические ее параметры приходится подбирать опытным путем. Но через недельку, пожалуй, печь начнет работать по графику. Все управление будет вестись отсюда – с пульта…
Завод занимается, в основном, ремонтом гусеничных тракторов. Но его технические возможности, прекрасные рабочие кадры притягивают заказы из самых различных отраслей.
В механическом цехе группа рабочих склонилась над длинным широким агрегатом с эксцентриками-маховиками.
– Разойдись!
Все поспешно расходятся в стороны. Валы приходят в движение и помещение цеха наполняется пронзительным свистом. Пол начинает вибрировать.
– Это проводятся испытания большой электрической виброплиты, – объяснил нам начальник цеха. – Такого размера плиты строители заказали заводу для укладки крупных масс бетона. В конструкцию пришлось внести частичные изменения. А если вас интересует творчество местных инженеров, пройдемте дальше…
Начальник цеха показал нам удивительную машину. Представьте бульдозер на базе гусеничного трактора «С-80». Это нетрудно. А теперь вообразите, что на месте ножа находится роторное устройство – шнеки, мощная крыльчатка, выбрасывающая через трубу снег на десятки метров, – почти такое же, которое имеют железнодорожные снегоочистители. Мы увидели именно такую машину. Она предназначена для прокладки зимних дорог на промыслах и нефтеразведках. Трудно переоценить значение этой новинки.
«Новый», «новая», «новое» – этими словами пестрят страницы блокнота, посвященные ремзаводу. Но… не хочется обижать другие предприятия.
Прямо с ремзавода, одного из новых предприятий Охи, мы попали на старейшее – в центральные механические мастерские. Контора его помещается в старом, можно сказать, в историческом рубленом доме, где когда-то размещались первый райком партии и первый райисполком.
Рабочий день шел к концу. Мы боялись, что не застанем на месте ни директора, ни парторга.
У ворот мастерских группа людей, одетых в замасленные, перепачканные ржавчиной спецовки, нагружала металлолом на платформу узкоколейки.
Мы спросили у одного из рабочих, как побыстрее разыскать директора.
Человек прищурился:
– А зачем он вам?
Пришлось коротко объяснить.
– Тогда давайте знакомиться, – сказал человек в рабочей спецовке и представился: – Директор. Бегизардов, Владимир Христофорович…
– Вас, очевидно, удивило мое занятие? – спросил директор, входя в свой кабинет и вытирая руки свежим полотенцем. – Сейчас я все коротенько объясню. Как-то на партийном собрании шла речь о подготовке к зиме. Работ намечено было много, а рабочих не хватает. Кто-то вспомнил о статье в журнале «Китай». Китайские товарищи систематически привлекают администрацию и технических руководителей к физическому труду. Каждый должен отработать определенное количество часов.
Ну, у нас собрание тоже решило: все, кто не занят непосредственно на производстве, должны каждую субботу выполнять работы по подготовке к зиме. Все выходят – от директора до машинистки. Территорию в порядок привели. Забор выстроили вокруг мастерских. Да еще какой! Ведь инженеры и техники строили… Трудовые субботы стали у нас теперь традицией. И конечно, – Владимир Христофорович улыбнулся, – директору очень полезно почаще надевать рабочую спецовку…
Интересные люди, интересные встречи… Иногда в Охе нам просто везло. Так, например, удалось «поймать» Леонида Григорьевича Абрамова, человека совершенно новой профессии, чрезвычайно редко бывающего в Охе.
Работа Леонида Григорьевича связана с атомной энергией.
– Да, – подтвердил инженер, – вам сказали правильно, именно с атомной энергией. Группа, которой я руковожу, занимается радиоактивным каротажем. Здесь наше хозяйство…
И он обвел рукой комнату, заставленную аппаратурой.
– Вы знаете, что такое каротаж?.. Это один из способов разведки полезных ископаемых. Когда-то при бурении скважины с забоя поднимали образцы пород. Потом начали применять электричество, исследовать газ, поднимающийся на поверхность. Все это каротаж. Атомный – только его последнее слово…
Группа Леонида Григорьевича путешествует в тайге на поезде, на тракторе, на машине и даже пешком. Вместе с ней с буровой на буровую перевозится и все сложное хозяйство исследователей.
Своеобразные глаза и уши станции – глубинный прибор. Едва прибыв на место, молодой инженер Бронислав Драник принимается за его монтаж, в четырехметровой трубе умещается много «деликатных» деталей. Здесь смонтированы разрядные счетчики, фиксирующие излучения гамма-лучей, и усилитель. Вес снаряженного прибора превышает сто килограммов,
С помощью лебедки-подъемника «сигара» по скважине опускается на забой. Стоп! Наступает самый ответственный момент. Каротажники «отбивают забой», то есть с максимальной точностью устанавливают, на какой глубине находится снаряд. Звучит команда «Вира!», и «сигара» начинает подниматься по скважине.
Скорость ее движения невелика: она не превышает двухсот метров в час. Усиленные электрические сигналы отклоняют перо автоматического самописца.
Оказывается, все горные породы радиоактивны. Одни в большей, другие в меньшей степени. Снаряд улавливает слабые излучения и сообщает о них наверх. Этот метод называется гамма-каротажем.
Радиоактивность пород можно усилить.
– Покажите, Николай Андреевич. Это любопытно, – обращается инженер к одному из членов партии.
Соблюдая все меры предосторожности, техник Чернов достает из хранилища пружинным пинцетом «источник» – латунную капсулу величиной со швейный наперсток.
– В «источнике» находится смесь порошков двух радиоактивных элементов – полония и бериллия, – объясняет Леонид Григорьевич. – Из головной части снаряда она бомбардирует породу мощными потоками нейтронов, вызывая интенсивное ответное излучение. Такой метод называется нейтронным гамма-каротажем.
Нам показывают ленту с чернильной кривой, полученной в результате исследования. После расшифровки она расскажет о расположении пластов пород.
Применение радиоактивных веществ в каротаже исключительно перспективно. Об этом свидетельствует и такой факт. Сейчас без помощи «мирного атома» не обходится ни одна разведочная скважина.
Оха – город, рожденный Советской властью. Далеко шагнул он за свое тридцатилетие! От Ситцевых палаток – до атомной энергии.
Собираясь в путь, мы опять перелистываем блокноты. А сколько нам еще не удалось увидеть?! Целые тома можно написать об этом городе.
И они, кстати, пишутся. Работает над книгой о сахалинской нефти Кирилл Иванович Гнедин, пишет книгу о нефтяной Охе местный старожил-журналист Николай Гаврилович Клименко. В добрый путь им, как и всем, кто полюбил этот замечательный город!
Из Охи срочные газетные дела звали нас в Рыбновск. На берегу Татарского пролива уже наступили горячие дни лососевой путины. Находиться в Охе и не побывать у соседей – у рыбновских рыбаков – было невозможно.
О мотоцикле, правда, тут не могла идти речь. Единственный вид транспорта, который может доставить вас на побережье, – самолет.
Рыбновское побережье влекло нас и еще по одной причине. Трудно добраться туда, и поэтому один из самых обширных районов острова остался в литературе о Сахалине по существу «белым пятном».
Нам самим приходилось раньше «путешествовать» только по книжке под названием «Остров сокровищ». Но не Стивенсона. В 1927 году над двумя знакомыми словами появилась русская фамилия – Н.В. Аболтин.
Это первая книга о послереволюционном Сахалине. Она написана уполномоченным ВЦИКа, председателем советской комиссии, прибывшей на остров в дни его освобождения от оккупации.
«Диким Сахалином» еще веет от пожелтевших страниц, ветром, тайгой, зверем. Увлекательно писал автор! В ожидании самолета на Рыбновск мы перелистали выписки из «Острова сокровищ».
«Рыбновский район: – 2163 человека, из них «русских» – около половины. Поляки, татары, армяне, эстонцы, осетины, немцы. Весь этот народ напоминает тех, кто во времена Московской Руси уходил на окраины, формируя первое казачество. Крепкий, отчаянный народ, искатели приключений, «фарта». Осели здесь потому, что дальше идти некуда – дальше «конец земли», недалеко бурлит вечно беспокойное Охотское море, а за ним вспахиваемый 12-балльными штормами и американскими супердредноутами «Тихий» океан.
… Мордуют гиляков дико. В деревне Лангари обитает знаменитый в районе охотник Тимошка. Вообразив себя туземным царем, объезжает стойбища и собирает «ясак». «Охотятся» так и другие».


