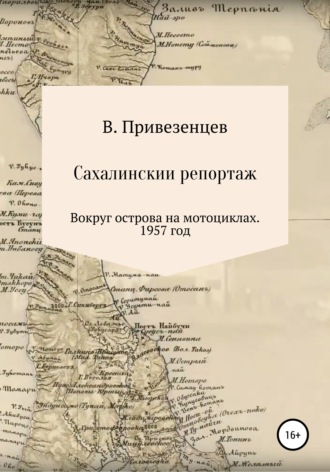
Владимир Андреевич Привезенцев
Сахалинский репортаж. Вокруг острова на мотоциклах. 1957 год
Комсомольцы жили голодно, но кормили лошадей последним хлебом, а когда из Пильво прибыли быки на мясо, единогласно постановили «двадцать быков не колоть, сохранить и приспособить для возки леса в помощь лошадям». В этих условиях «закалялась сталь», и неудивительно, что многие из бригад отличались железной дисциплиной.
Через два года Агнево имело электростанцию, свои тракторы, огороды, лошадей и давало стране десятки тысяч кубометров леса. «Агневский комсомол в суровых условиях выдержал большевистский экзамен», – писала 4 сентября 1932 года газета «Советский Сахалин».
Широко разбежались дороги сахалинской комсомолии. Обком направлял закаленные агневские кадры на самые различные участки, туда, куда нужно.
Когда-то комсомольцы, чтобы добраться из порта в город, должны были преодолеть километра три ржавого болота. Сейчас Александровск вплотную подступил к порту.
На море – шторм. Семь баллов. Ветер гонит по улицам облака пыли и песка. В ковше трется о стенку белоснежный морской трамвай из Углегорска.
Портовики приехали подвести итоги соревнования, обменяться опытом, остались очень довольны, считают, что им нужно подтянуться.
За пирсом качаются на рейде суда. Ушли штормовать в море «иностранцы» – угольщики из Японии. Теперь они тут частые гости: японские компании охотно покупают сахалинский уголь.
На шахте «Мгачи» молодежь устроила встречу с японскими моряками. Один из комсомольцев, участников и организаторов встречи, рассказывает:
– Задумали встретиться, а как это сделать, не знаем, никогда такого не было… Пришли в город посоветоваться. А нам говорят: «Что ж, приглашайте. Только знаете японский обычай: позвал гостя – обязательно к столу веди. Смотрите, не подкачайте!». Ну, мы честь честью на пароход. Пригласили. Человек двадцать съехали на берег. Почти все – молодежь. Познакомились через переводчика. Устроили соревнования по волейболу. Выиграли. Потом японцы нам свою игру показали, в мяч. Погуляли – пригласили в ресторан. Японцам больше всего печенье понравилось, хворост, знаете? Так наши шахтеры тут сразу соорудили несколько пакетов хворосту и отправили вместе с моряками на пароход.
Собравшись в дальнейший путь, останавливаемся на площади им. 15 мая. Много перевидела она: каторгу, революционные бои, оккупацию, провозглашение Советской власти. Сейчас она вся в лесах. Идет реконструкция. Площадь окружат новые двухэтажные жилые дома, универмаг, интернат для детей народов Севера. А посредине будет разбит сквер шириной в 65 метров, с клумбами, фонтаном и асфальтовыми дорожками.
Снова – перевал. Снова – Кировский район. Сворачиваем на север. По обеим сторонам проселка поднимается лес, какого не увидишь на юге.
Под вечер любуемся новым предприятием лесной промышленности района – лесоучастком «Горки», раскинувшимся на гигантской вырубке.
В поселке мы познакомились с девочкой Галочкой. Она родилась четыре года назад в палаточном городке. Ее родители, как и все, кто в это время жил здесь, были первыми строителями леспромхоза.
Девочка и поселок росли вместе. Когда в «Горках» прокладывали первую улицу, Галочка училась ходить. А сейчас вместе с другими ребятишками она бегает по поселку. На месте тайги поднялось более двухсот жилых домов. Бульдозеры продолжают расчистку улиц, которые еще не получили имен. Их называют просто: «Первая», «Вторая», «Третья»…
В поселке продолжается интенсивное строительство. Здесь есть гидроэлектростанция, клуб, три магазина, спортивные площадки. Приходят телеграммы по новому адресу: «Кировский район, почтовое отделение «Горки». Строится двухэтажная школа-десятилетка, в которую через три года пойдет учиться и Галочка.
Уже два года работает в «Горках» лесоучасток Адо-Тымовского леспромхоза. Нынче лесники отправили вниз по Тыми девять тысяч и дали строителям поселка шесть тысяч кубометров древесины. Но это только почин. Экономисты подсчитали, что запасов леса здесь хватит даже при усиленных разработках по крайней мере на двадцать пять лет. С решением транспортной проблемы поблизости от «Горок» будут выстроены новые крупные леспромхозы.
Интересно, в какой из них придет работать, лет через пятнадцать ровесница поселка Галина Васильевна Кислицына?
На Тыми
Полноводная Тымь. – Парашютисты идут на цель. – Чудесные старики. – Птицеводство – большое дело! – Москвичи в «Ныше». – Археологические находки.
Блестит сквозь зелень серебро. Река сверкнет на мгновенье ослепительным отблеском солнца и снова спрячется за деревья. Нужно долго ехать вдоль нее, среди пышного кустарника, прежде чем откроется вольный речной простор.
Тымь!
Это самая крупная река Сахалина. Она начинается высоко в сопках, бурным горным потоком низвергается на равнину и плавно несет свои воды к Охотскому морю через сотни километров.
Необычайно красивы тымские берега, с синими пойменными лесами, скалистыми обрывами, плавными излучинами. Красота бывает коварной: от Кировского до устья – около ста порогов и перекатов.
На берегу реки в селенье Потово живут люди, которые могут считать себя самыми исконными сахалинцами, представителями небольшой северной народности – нивхи.
Об этом необычайно гостеприимном, мирном народе опубликовано немало этнографических трудов. Создалась даже теория о «загадочном» характере нивхов – «детей тайги».
«Нынешние хозяйственные формы гиляков требуют сохранения природы в неприкосновенности, и всякое энергичное культурное вторжение наносит им ущерб, заставляет отодвигаться в менее тронутые места», – эти непродуманные слова написаны одним исследователем в двадцатых годах. Он посетил тогда Потово, увидел жалкие землянки, пропахшие сыростью и дымом, летники на сваях, юкольники, кишащие червями. Он не увидел ростков нового, а только записал свои поверхностные впечатления. Бегло упомянул о необычном для него эпизоде: гиляки на общем собрании постановили просить ревком построить школу. Решение было вызвано тем, что единственный грамотный гиляк на Тыми забастовал. Протокол собрания председатель районного Сонета Пларгин попросил написать русскую учительницу из соседнего села.
Этнограф оказался неправ. Эпизод, показавшийся ему курьезным, не остался без последствий. Это было началом быстрого возрождения нивхов в советские годы.
Нивхи из Потово чтут светлую память пламенного коммуниста Елисея Матирного – организатора и парторга первого на острове нивхского сельскохозяйственного колхоза «Чир-Унвд». Он учил их сажать картофель и доить коров, объяснял преимущество русской бани, боролся со знахарями-шаманами и прививал доверие к врачу.
Ломка шла не без борьбы и эксцессов. Но религиозные верования и многовековая сила привычки, которые еще по сей день сохраняют амулеты и могилы – с кучками дров, бересты, фаянсовыми чайниками, – были подорваны.
Маленькие нивхи пришли в школу. Им, нивхским детям Сахалина, отвечал в 1933 году из далекой Италии Алексей Максимович Горький.
«Вы очень хорошо сделали, написав мне. Ваше письмо – подарок, которым я горжусь, как орденом. Я получал письма от детей европейцев, конечно, их письма тоже радовали меня, но не так глубоко, как ваше письмо, дети гиляков, тунгусов, орочен. Ведь неудивительно, что дети европейцев грамотны, удивительно и печально, что среди них есть безграмотные. А вы – дети племен, у которых не было грамоты, ваших отцов избивали, грабили русские и японские купцы, двуногие звери, ваших отцов обманывали и держали в темноте шаманы.
…Желаю вам, дети, бодрости духа и неутомимости в труде постижения грамоты!».
Жизнь создала в «Чир-Унвде» своих героев. Один из них – Борис Тамайка – повел первый трактор по целине. Нивх-тракторист! – это стало символом возрождения народа.
Умер от тяжелой болезни Елисей Матирный. Он погиб как солдат, на боевом посту. Лучшим памятником коммунисту осталось новое Потово, раскинувшееся на берегах Тыми,
Наверное, одни старики помнят о тех временах, когда в стойбище не было ни одного русского дома. Вдоль прямых улиц выстроились рубленые избы, у самой дороги поднялась большая школа.
В садике у школы – детская площадка: качели, грибки, горки песка. С утра до вечера возятся здесь малыши под присмотром няни.
Кто-то из старших очеркистов, кажется Дорошевич, удачно сравнил сахалинскую тайгу в среднем течении Тыми с храмом. Молча стоят на огромных пространствах деревья-великаны, бурелом не дает ходу охотнику, ни зверя, ни птицы вокруг…
Когда-то так и было. А в наши дни «храм» непрерывно оглашается ревом лесовозов. Могучие «мазы» Адо-Тымовского леспромхоза тащат на прицепах хлысты необычайных размеров. Медленно ползут они по лежневым дорогам, доставляя лес с участков на склады. Нашей мотоколонне то и дело приходится замедлять движение, уступая им путь.
Остановка. В тишине слышится нарастающее комариное пение. Поднимаем головы – над тайгой, поблескивая на солнце крыльями, летит маленький биплан «АН-2» со знакомым номером на борту.
Этот самолет часто можно видеть на аэродроме в Южно-Сахалинске. Он принадлежит «лесным пожарным» – парашютистам лесной авиации.
Пожары пока еще остаются одним из самых страшных бичей островной тайги. Поэтому трудно переоценить роль экипажа этого маленького самолета: они тушат более половины всех очагов огня в лесу.
Под самолетом разворачивается гигантский лесной ковер, усеянный голубыми зеркальцами озер, пересеченный ленточками дорог. Сопки расцвечены желтыми, красными, малиновыми пятнами. Среди них потерялись отметины лесных пожаров – рыжие подпалины, усеянные обгоревшими стволами.
Наметанный глаз «лесного пожарного» различает их без труда. Наблюдение за землей ведут одновременно летчик-наблюдатель Николай Беловицкий и командир корабля Иван Нестратов.
В пассажирской кабине, откинувшись на дюралевых сидениях, отдыхают парашютисты. Свободное пространство занято грузовым парашютом, ранцевыми лесными опрыскивателями, продуктовыми мешками, пачками листовок.
Самолет держит курс на северо-запад, к тем местам, где четверке парашютистов уже пришлось провести много дней в тайге.
Тогда в Южно-Сахалинск тревожный радиосигнал пришел из Кировского от летчика-наблюдателя Валентины Кабановой: «Обнаружен крупный очаг пожара, срочно требуются парашютисты».
Через три с половиной часа после взлета «АН-2» вышел к месту пожара.
На много километров вокруг леса затянуты синеватой дымкой. Над самым очагом застыли желтые облака, словно над устьем вулкана. Самолет лег в вираж. В восьми километрах обнаружили еще один очаг пожара.
Разведка показала: удобной площадки для приземления парашютистов нет. Придется прыгать на лес. Выбрали большую марь, покрытую сухостоем. После сигнала сирены первым от самолета отделяется рослый Алексей Сысоев. Вслед за ним покидают кабину Иван Яковец, Василий Сотников и Владимир Шубин.
Летчик и командир корабля волнуются, как в первый раз: все ли сумеют удачно приземлиться? Сверху видно, что два парашютиста повисли на деревьях.
Наконец, купола вытягиваются на земле в белые стрелы. На языке «лесных пожарных» это значит: «Приземлились благополучно». Вниз летят мешки с продовольствием, бочка с химикатами. Вспыхивает в воздухе оранжевый купол грузового парашюта. Самолет покачивает крыльями и разворачивается на юг. «АН-2» уходит, а парашютисты остаются там, где никогда раньше не были и где, может быть, уже давно не ступала нога человека.
В минуту поставлена палатка. Около нее остается только дежурный, остальные уходят на несколько километров в тайгу, навстречу стене огня и дыма. Парашютисты снимают травяной покров, обливают землю раствором химикалиев, копают канавы, пускают встречные палы, сражаются с языками пламени на самой кромке пожара.
Не раз и не два прилетает самолет в тайгу, сбрасывает снаряжение и продовольствие, прежде чем дым над лесом рассеивается. Но вот все приведено к точной формулировке задания: «…до полной ликвидации пожара». Можно разогнуть усталые спины, перекурить, собираться домой… А до ближайшего селения, между прочим, восемьдесят километров, долгих километров по топям, марям, бурелому, через болота и реки…
К северу от Альбы и Иркира, за Дремучей тайгой и «Чертовым логом», долина Тыми разом меняет свой характер.
В синей дымке застыли кругом леса, бледное небо – в размыве облаков. Даже в разгаре лета долина дышит холодом. Здесь начинается территория Восточно-Сахалинского района. Здесь расположены земли самого северного сельскохозяйственного совхоза «Ныш».
Узкая песчаная дорога вывела нас из густого подлеска на вольный простор. Леса расступились в стороны, дав место долине, по которой струится полноводная Тымь.
Вдали, почти у горизонта, показались серые полоски крыш, очертания силосных башен. Даже издалека центральная усадьба совхоза производила впечатление крепкого, капитального хозяйства.
Нам пришлось, однако, долго покружить по ее пустынным улицам. В конторе – ни души, в сельсовете – тоже, магазин закрыт. Потом женщина, встретившаяся нам у отделения связи, подсказала:
– Да вы в клуб поезжайте. Там сегодня лекция. Все на нее и пошли… Это недалеко, в центре села, от магазина наискосок.
И в новом клубе мы нашли тех, кого искали. В зрительном зале – яблоку не упасть. Все здесь: доярки и полеводы, животноводы и механизаторы, старики, молодежь и даже ребята «начального» возраста.
Лектор, приехавший из Ноглик, вряд ли может пожелать лучшей аудитории. В зале полная тишина. Жадно ловится каждое слово.
В толпе людей, выходивших из клуба, встретили директора совхоза и почти сразу же узнали от него об интересном событии: нынче «Ныш» отмечает свое двадцатипятилетие.
В конторе, вытащив из стола толстую папку, директор нашел нужный документ.
– Взгляните… Я, собственно, сам недавно заинтересовался этим.
Листок из папки довольно точно рассказывал, каким был Восточно-Сахалинский район четверть века назад. 86 процентов его площади занимали леса; дороги и средства связи отсутствовали полностью. Районный центр и нефтяные промыслы не имели ни свежих овощей, ни молока, ни мяса.
В этих условиях была поставлена задача – за короткий срок создать в нескольких десятках километров от Ноглик, среди тайги, сельскохозяйственное предприятие.
В «Ныше» живут пенсионеры Майбарокша Давлетчин и Прокоп Максимович Гоголев, плотник Тарас Миронович Мерсанов. Они помнят, как на берегу реки появились первые домики, как начали раскорчевывать первую десятину.
– Чудесные старики! – говорит о них парторг совхоза. – Мы как-то не привыкли задумываться над тем, сколько может сделать за свою жизнь один человек. А вот когда уходила на пенсию телятница Екатерина Моисеевна Зиненко – рядовая труженица, отдавшая совхозному производству двадцать лет, – тогда и подсчитали. Цифра получилась выдающаяся. Оказывается, она за это время вырастила в «Ныше» две с половиной тысячи телят. Две с половиной тысячи! Золотые руки у Екатерины Моисеевны!
Неузнаваемо изменился за эти годы совхоз. На месте десятка домиков встал большой благоустроенный поселок с магазинами, мастерскими, фермами, парниковым хозяйством почти на три тысячи рам.
Когда-то в «Ныше» единственной тягловой силой были несколько лошаденок. Сейчас совхоз имеет 22 трактора и 12 автомашин. Только в этом году он получил два трактора «ДТ-54», два самоходных шасси, пять автомашин и передвижную ремонтную мастерскую.
– Если бы не условия наши… – вздохнул директор. – Читаешь весной «Советский Сахалин», обидно становится. Вечно «Ныш» стоит на самом последнем месте. Да что поделаешь! На юге уже отсеялись, а у нас еще дома по колено в воде стоят. Тымь как разольется – море!..
Упущенное время приходится наверстывать летом. Работники совхоза справляются с обязательствами. В минувшем году, например, вниз по Тыми для жителей Ноглик и катанглийцев было отправлено 250 тонн овощей и 430 тонн картофеля, 445 тонн молока и 26 тонн мяса. Получают продукцию из «Ныша» и нефтяники северной Охи.
Нам рассказали и о планах совхоза на шестую пятилетку. К концу 1959 года дойное стадо увеличится на 130 голов, ежегодная сдача мяса будет доведена до девяноста тонн.
Особое место в хозяйстве совхоза займет новая отрасль – птицеводство. Окрестности «Ныша» изобилуют мелкими водоемами и очень удобны для разведения водоплавающей птицы. Решили, впрочем, разводить и кур. Осенью прошлого года выстроили первую типовую птицеферму.
– О птицеферме ничего не будем рассказывать, – сказали нам в конторе. – Поезжайте сами, посмотрите…
Мы поехали в убедились, что ферма, действительно, очень хорошая. Командуют здесь бригадир Галя Жидан и птичница Лиля Исламова. Галю специально посылали на месяц в совхоз «Красная Тымь» практиковаться. Месяц она работала на инкубаторе.
– Ну и как, Галя, освоили?
– Пока еще не очень, – смущенно отвечает девушка. Сложная вещь – птицеводство и внове…
Почин для совхоза был нелегким. Яйца уток пришлось завозить из Свердловска, из десяти тысяч штук получили только тысячу утят. И из этой тысячи удалось сохранить всего 450 штук. Остальные погибли во время аварии с кунгасом на Тыми.
Сейчас ферма начинает крепнуть. К концу года она будет иметь 2500 несушек. Работники фермы поставили перед собой задачу – к концу пятилетки ежегодно сдавать на мясо двадцать тысяч голов птицы.
– Инкубатора нам своего очень не хватает, – жалуется Галя. – Обещают построить только к концу зимы.
– А вы довольны своей новой профессией?
Девушка смотрит удивленно:
– Конечно! Дело-то ведь какое большое!
Галя принадлежит к молодому поколению «Ныша». Молодежи здесь, пожалуй, больше, чем в любом другом совхозе. Кончая школу, юноши и девушки не отправляются в город искать профессию. В совхозе есть, где приложить силы, где проявить себя.
Здесь выросли такие замечательные передовики производства, как доярки Мария Фартусова, Рая Давлетчина и Гальдрихан Нардынова, трактористы Михаил Пономарев и Сергей Янкин, шоферы Тимофей Хрипко, Михаил Приходько и Петр Степанов.
Мы прибыли в горячую пору. Шла заготовка кормов. На центральную базу непрерывной чередой тянулись автомашины, нагруженные душистой зеленой массой. На заготовке силоса работали пять бригад, разбросанные друг от друга на десятки километров.
Машина привезла нас в одно из отдаленных звеньев первой бригады. Замелькали в воздухе вилы, и через пару минут над кузовом поднялась копна зеленой массы.
– Работает звено неплохо, – произнес бригадир. – Люди тут хорошие. Вон лучший косарь совхоза Мингали Исламов. За ним Толя Смердов идет, тоже паренек не из последних. Знаю, впрочем, не всех. Давайте лучше у звеньевого спросим. Леонид Петрович!
Звеньевой подошел, откинул с лица сетку накомарника, поздоровался.
– Вы давно работаете в совхозе, Леонид Петрович?
– Да как смазать… Третий месяц.
– А… откуда?
– Из Москвы!
– Ну, а товарищи ваши?
– Да больше половины – москвичи. Шофер, который вас привез, тоже москвич. Володя, покажись!
Из окна кабины высунулось улыбающееся лицо.
В нынешнем году «Ныщ» принял 21 семью переселенцев – главным образом, жителей Москвы и Московской области. Они работают сейчас на самых разных участках совхозного производства.
После работы, сидя на деревянном крылечке конторы, мы разговаривали с одним из бывших москвичей – строителем Захаром Семеновичем Готовчиковым.
– Это сразу не объяснишь: почему люди покинули столицу и двинулись за тридевять земель, – задумчиво говорит он. – Сколько семей – столько причин. У одних с жилплощадью на материке было туговато, другого к земле тянет, третьему просто хочется посмотреть, что это за штука – Сахалин, поискать счастья на новом месте.
Я, например, как приехал, сразу стал работать десятником. Жена моя, Ефросинья Ивановна, – телятницей. Дочь Дина шестой класс закончила, сейчас трудится в школьном звене. Нам и хозяйством легче обзавестись. Я вам так скажу: надо, главное, честно работать, тогда и жить будет хорошо. Что в Москве, что на Сахалине, – одинаково. А места здесь богатые…
Хороши вечера на Тыми! Приятно возвращаться после работы высоким берегом над мирно текущей рекой. На центральной усадьбе горят десятки огоньков, звучит радио. Газеты опаздывают в «Ныш» недели на две, но зато радиотрансляция ведется десять с половиной часов в сутки.
Захар Семенович встал, протянул руку.
– Извините, в клуб пойду. Обещал семейству – картина новая пришла.
За совхозом «Ньш» все дороги кончаются.
В таежном краю, где лес встает у реки стеной, где выходит рыбачить на берег «хозяин» здешних мест – медведь, мотоциклу дальше нет пути.
В Тымовском и Александровске мы так и не смогли узнать, проберемся от «Ныша» до Ноглик или нет.
«Дорога там отсутствует, можно идти только водой», «по воде не пройдете – река забита лесом; такие завалы, что хоть взрывай», «Тымь чистая, но обмелела сильно, проходит только почтарь, а он хорошо, если трех-четырех пассажиров возьмет» – вот, собственно, и все, причем весьма противоречивые мнения, которые довелось услышать.
– Пройдем!.. – говорит, улыбаясь, наш «капитан» Петр Гоголев – старшина совхозного катера «Речник». Стоя на палубе, он весело орудует тяжелой морской шваброй.
Катер ткнулся носом в крутой берег, по которому цепочкой разбежались рубленые дома совхоза.
Петр – представитель необычной для здешних мест «морской» династии. Он потомственный речник совхоза. Его отец плавает сейчас «по глубокой Тыми», то есть в низовьях, на большом катере. А подняться по обмелевшей реке к центральной усадьбе может только «Речник».
Мотоциклы удобно разместились в деревянном кунгасе. Катер по-автомобильному загудел, натянул буксирный трос, и пошла разворачиваться бесконечная панорама тымских берегов.
Здесь, ближе к низовьям, река почти пустынна.
Непрерывной чередой тянется по Тыми лес. Лишь изредка пройдет, лавируя между плывущими бревнами, почтовый катер или буксир протянет кунгас с тракторами, бочками, рыбным туком.
Наш кунгас немедленно получил название «плавучего дома отдыха».
Блаженно вытянувшись в коляске, попыхивая дымком папиросы, Иван Литвинов добродушно рассуждает:
– На каких только мотоциклах и как я не ездил!.. А так передвигаюсь впервые. И ничего – нравится!
Катер то плывет по серебристой глади, то стремительно рвется в бок, несмотря на то, что справа остается просторная полоса воды.
Много лет нужно прожить здесь, чтобы узнать все капризы Тыми.
«Руль!» – от этого крика все вздрагивают. Оказывается, нам встретился на пути коварный «мертвяк» – полузатопленное бревно.
Оно вырвало из гнезда руль кунгаса, прежде чем кунгасник – молодой парень в сдвинутой назад кепке – успел что-либо сообразить.
«Без руля и без ветрил» спускаемся дальше по Тыми. Кунгас свирепо бросает из стороны в сторону, вода будто стремится посадить его на мель.
К счастью, Борис находит квадратную железную скобу. Несколько сильных ударов, и руль становится на место.
Вот и первые встречные на Тыми. Рабочие в накомарниках катят баграми тяжелое бревно по песчаной отмели. Неподалеку виднеется брезентовая крыша палатки, выгоревшая от солнца, вьется дымок костра.
Это трудятся лесники, спасают лес, застрявший на берегах и отмелях во время весеннего разлива. Опираясь на багры, они машут нам вслед.
…Вечереет. Сталью начинает блестеть вода. Потемнел лес по берегам. Холодный ветер тянет над рекой. Ясно, что засветло нам в Ноглики не добраться.
Легла над рекой дымчатая теплая пелена. Петр ведет катер, видимо, по памяти, потому что вокруг, кроме темных расплывающихся полос берега, разобрать ничего невозможно.
Проходит еще несколько часов, и даже наш испытанный старшина Петр теряет ориентировку.
Трудно понять, как рискнул он идти через перекаты в полной темноте. Катер то и дело садится на мель, песок скрипит под днищем кунгаса.
Наконец, с катера доносится:
– Толик, где мы находимся?!..
В тумане голос звучит глухо, надтреснуто.
Кунгасник, озираясь по сторонам, отвечает:
– Правильно идешь, Петр! Вон слева островок, на котором экскаватор работал…
Обличьем своим районный центр Ноглики совсем не похож на поселки в южной части острова. Он четко распланирован, но крепко сшитые, главным образом одноэтажные дома далеко отстоят друг от друга, улицы широкие.
Так строили и, по всей видимости, будут строить на севере.
В Ноликах мы первым делом решили разыскать одного человека, известность которого распространяется за пределы не только района, но и области. Это не герой труда и не отставной моряк. Мы хотели встретиться с учителем местной школы Вениамином Ильичом Шилимовым.
Дом, в котором живет учитель географии, нам указал первый же встречный. Но хозяина не оказалось дома.
– К вечеру заезжайте, не раньше, – посоветовали нам. – Уехал на залив рыбачить, так что скоро не вернется…
Под вечер к резному крылечку подошел седой человек в зеленом брезентовом плаще, отставил в сторону весла, поднял загорелое лицо и взглянул на гостей светлыми, с лукавинкой глазами.
Мы были знакомы с учителем заочно и даже знали его биографию.
Приезд в 1937 году на Сахалин.
Работа библиотекарем на шахте Макарьевка.
Участие в боях с японскими захватчиками.
Снова работа – учителем в Ногликах.
Нет в Ноликах другого человека, который бы знал свой район так, как Вениамин Ильич. Это страстный краевед, пытливый и упорный, умеющий привить своим ученикам любовь к северному поселку, суровому морю и тайге.
Дальний это на Сахалине район, глухой, но сколько удивительно интересных вещей сумел здесь найти географ!
С помощью учителя ногликские ребята создали при школе настоящий краеведческий музей, в котором можно получить широкие сведения о флоре, фауне и истории района.
Особенно горячо взялись школьники за археологию. Находка каменного наконечника копья или топора была для них настоящим торжеством.
Пустяки, скажет скептик, забава для детей. И глубоко ошибется. Нынешним летом раскопками в окрестностях Ноглик занималась уже партия ученых-археологов.
По берегам рек Тымь, Ноглики, Имчин обнаружены древние поселения. По соседству с поселком Кирпичным раскопаны две землянки. Найдены древние каменные орудия нивхов – скребки, ножи, наконечники копий, топоры и посуда.
Слушая рассказ учителя об истории Ноглик, мы невольно думали о том, насколько интереснее стал бы наш край, если бы в каждом сахалинском городе и поселке нашелся бы свой краевед Шилимов.
– Ноглики родились от культбазы… Да, от той самой культбазы, которая по сей день стоит в центре поселка. Случилось это тридцать лет назад, когда еще существовало так называемое «Туземное общество».
На реке тогда стояло нивхское стойбище, орочены из «Вала» пасли оленей неподалеку от устья Тыми. Для них и была создана национальная школа-интернат. Потом дом за домиком начал расти поселок. До 1952 года сюда приходил один пароход в навигацию, привозил все – от сосок до охотничьих ружей. Потом из Охи протянули линию узкоколейки. Сейчас в Ноликах жителей тысячи три с половиной…
В интернате идет ремонт. Отделываются заново учебные помещения и общежитие. В нем останавливаются гости из стойбищ, приехавшие повидаться со своими детьми.
Тридцать лет назад интернат принял двадцать детей, нынче его светлые комнаты займут сто юных посланцев национальных колхозов. Для многих из них здесь начнется тесное знакомство с русским языком, с большой культурой.
Сколько их было, маленьких нивхов и орочен, которые в этих стенах повторяли слова: «стол», «ружье», «печь», как далеко разбежались их пути! Нивх Владимир Санги учится в Ленинградском педагогическом институте имени А.И. Герцена, он будет географом. Орочен Владимир Соловьев готовится стать литератором. В этом году вернулась из Ленинграда в родной интернат преподавательница русского языка коммунист Ирина Нявлик.
Преподаватель географии, впрочем, не склонен рассматривать Нолики, как самое замечательное место в районе.
– Поезжайте в Катангли, – советует он. – Там найдете гораздо больше интересного. Есть очень своеобразная связь между этим промышленным поселком и районным центром…
…Среди болот и озер Катангли, подернутых пятнами мазута, берет начало и бежит на север речка, которую нивхи назвали «Ноглики», что значит «Плохая вода». Это название перешло к стойбищу, стоявшему у реки, а затем – к поселку.
Таким образом, тяжелая нефть «катанглийка» предопределила еще задолго до ее открытия название нынешнего районного центра.


