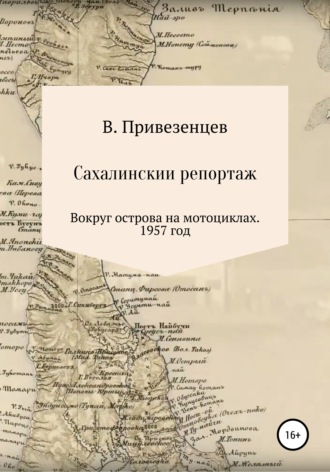
Владимир Андреевич Привезенцев
Сахалинский репортаж. Вокруг острова на мотоциклах. 1957 год
…Оглушительным грохотом наполнен новый огромный цех комбината. Его полностью занимают корообдирочные барабаны, длиной пять и диаметром четыре метра каждый. С навесной платформы летят в машину бревна. Барабан начинает вращаться, и через некоторое время бревна выкатываются из него, освобожденные от коры.
– Это не только повышает производительность труда, – продолжает разговор технолог. – Пуск цеха позволил резко снизить «укор» – отходы древесины при окорке…
Желтые, как масло, бревна подхватываются стальными крючьями и выносятся из цеха. Следуя за ними, следя за тем, как они постепенно превращаются в щепу, древесную массу и целлюлозу, а затем – в бумагу, нельзя не заметить, что на комбинате почти нет такого участка, которого бы не коснулись перемены.
На целлюлозном заводе введена в строй мельница для подмола целлюлозы перед отправкой ее на бумажную фабрику. Поставлены гребенчатые мельницы для переработки сучков. Заканчивается монтаж ролла непрерывного действия. На бумагоделателыных машинах № 6 и № 9 заменены узлоуловители.
… Непрерывной лентой обегает с сетки рыхлое бумажное полотно, ложится под огромные горячие цилиндры-каландры. Внимательно следит за ним сеточник Иван Еремин – один из лучших на комбинате.
Клавдий Иванович знакомит нас с бумажниками, которые ковали нынешнюю победу. Вот рольщица Зинаида Кулешова. Эта сдержанная, скромная двадцатитрехлетняя девушка одной из первых поняла преимущества новой композиции, стала «энтузиасткой древесной массы». Вот старший варщик Виктор Васильевич Есаулов – активный рационализатор, новатор целлюлозного производства.
Записываем в блокнот интересные цифры. Углегорцы в первом квартале перевыполнили план по выпуску бумаги на 240 тонн и получили экономию по себестоимости около 150 тысяч рублей. Они значительно перевыполнили план первого полугодия, в мае получили миллион рублей экономии.
Темп работы, взятый комбинатом, боевое настроение в коллективе говорят о том, что борьба за использование внутренних резервов, за культуру производства будет продолжена.
Перевернута еще одна страничка путевого дневника. Она начинается словами:
«Всему приходит конец, в том числе хорошим дорогам и хорошей погоде. За Углегорском слякоть надежно привязалась к нам. То ливень, то моросящий мелкий дождь сопровождают мотоциклистов в пути».
Дождь, дождь и дождь без конца.
Серая пелена нависла над берегом и придавила книзу крутые сопки. Колеса мотоциклов бегут по мокрой дороге. Справа мелькают лиственницы, изуродованные морским ветром, слева катит стальные валы семибалльный шторм.
Пролив в тумане. Только изредка за кисеей дождя и ветра пройдет пароход или буксир, тянущий тонкую нитку – сигару.
Трудно идти в такую погоду. Все молчат, укутавшись в непромокаемые костюмы, укрывая лица от холодных желтых струй, которые летят из-под колес.
Тому, кто проезжал по дорогам Лесогорского района, надолго запомнится своеобразная суровая красота здешних мест. Гигантские сопки теснятся у моря, надвигаются одна на другую. Узкая ленточка шоссе то круто проваливается в распадок, то бежит над обрывом, прижимаясь к голому, словно выстриженному, горному склону.
Чем дальше на север, тем чаще попадаются участки дороги с ровным черным покрытием. Это – уголь. Мощные угольные пласты выходят тут прямо на поверхность, разрушаются и осыпаются вниз, на шоссе. Машины укатывают угольную крошку, и дорога начинает местами походить на автостраду из гудрона.
Преодолев последний перевал, дождливым холодным полднем мы остановились перед поселком, который носит имя замечательного русского землепроходца, первооткрывателя сахалинского угля лейтенанта Н.К. Бошняка.
Внизу извивался узкий распадок с сотнями домиков, дымила высокая труба электростанции, деловито попыхивая паром, пробирался между угольными отвалами паровозик узкоколейной железной дороги.
Шахтерский поселок Бошняково в шутку называют «Сахалином на Сахалине». Шесть месяцев в году он оторван от всей области. За короткую летнюю навигацию сюда морем завозят лес, продовольствие, оборудование, машины – все необходимое для работы шахты.
С начала ноября до конца мая почти все время закрыт для движения перевал, связывающий поселок с районным центром. Только изредка проходят через него лыжники, доставляющие шахтерам коробки с кинолентами и почту.
Сказочные богатства таят в себе сопки, окружившие поселок. Толщина круто падающих пластов угля, залегающих в них, достигает двадцати метров.
Жители Бошняково – большие патриоты своего поселка, своей шахты. Рассказывая об этом, секретарь Лесогорского райкома комсомола советовал:
– Будете в Бошняково, непременно зайдите к учительнице Зое Константиновне Серовой. Замечательное дело она начинает.
Дело, действительно, оказалось интересным. Вначале, правда, Зоя Константиновна пыталась смущенно отговориться тем, что практически пока сделано очень мало, что крупными успехами похвастаться нельзя. Но когда мы коснулись краеведческих тем, она рассказала все, как было.
Вместе с ребятами она решила написать историю Бошняково. Толчком к этому решению послужили чьи-то разговоры о том, что замечательный сахалинский первооткрыватель лейтенант Бошняк похоронен неподалеку от поселка.
Найти могилу Бошняка! – этой мыслью загорелись дети шахтеров – русская девочка Галина Прокопьева, украинец Валерий Ромейко, кореец Анатолий Лем, латышка Нелли Клок и многие другие пионеры. Расспрашивали старожилов. Но нет – пока ни один человек не мог похвастаться, что видел могилу собственными глазами. Тогда ребята взялись за книги по истории Сахалина. Вот что им удалось узнать.
…Зимой 1852 года капитан Невельской обследовал устье Амура. Здесь он впервые услышал от нивхов, что по ту сторону пролива есть целые горы «черного мягкого камня».
Замечательное известие требовало немедленной проверки. 20 февраля сподвижник Невельского двадцатидвухлетний лейтенант Бошняк пустился в дальний путь на легких нартах. Его сопровождали казак Перфентьев и переводчик – нивх Позвейн.
Из скудных запасов экспедиции лейтенанту были выделены сухари, сахар и чай только на 35 дней. «А главное, – писал Бошняк, – крест капитана Невельского и ободрение, что если есть сухарь, чтобы утолить голод, и кружка воды – напиться, то с божьей помощью дело делать еще возможно. Вот все, что действительно мог только дать мне капитан Невельской».
Невероятно трудными были условия путешествия. Морозы, метели, голод. Захворавшего Позвейна пришлось оставить, в нивхском поселке. Сменив упряжку, молодой лейтенант пустился дальше. Он обнаружил мощные залежи угля в Мгачи, Дуэ, между рекой Виахту и заливом Уанды.
Перевалив через Камышевый хребет, Бошняк по Тыми направился к Охотскому морю. Продовольствие кончилось, путешественники питались только вяленой рыбой и гнилым нерпичьим мясом.
Через два с половиной месяца Бошняк вернулся в Николаевск-на-Амуре. С нарывами на ногах, оборванный и голодный. С мешком «мягкого камня».
Юных краеведов постигло разочарование. Выяснилось, что маршрут лейтенанта Бошняка пролегал значительно севернее, что он не дошел до тех мест, где сейчас встал поселок. Но подвиг землепроходца заронил искру в сердца ребят. Они побывали на шахте, поговорили с начальником, взяли образцы угля, совершили поход до Воздвиженки, познакомились с работой геологоразведчиков.
Желание написать историю поселка не пропало, а стало еще сильнее. Пионеры пришли к выводу, что он носит имя замечательного землепроходца все-таки не без оснований.
Совершив экскурсию на шахту, мы были вынуждены согласиться с пионерами.
– Сейчас мы разрабатываем семь пластов толщиной от полутора до десяти метров, – сообщил начальник шахты. – И если по числу продуктивных пластов наша шахта не выделяется среди остальных, то по другим горным условиям она занимает видное место. Трудно найти шахту, которая бы имела такие огромные запасы угля, как наша. А по качеству бошняковокие угли можно сравнить лишь с александровскими. В десятиметровом пласте, например, зольность угля колеблется от четырех до шести процентов…
Много лет бошняковские угли хищнически разрабатывали японские предприниматели. Они выхватывали лишь наиболее продуктивные участки пластов, а затем бросали разработку. Вскрытый уголь самовозгорался, и еще сейчас над сопками поднимаются фонтанчики дыма.
До сих пор с подземными пожарами ведут борьбу, бурят скважины, закачивают через них пульпу, локализуют отдельные очаги. Культурная разработка бошняковских углей началась после освобождения южного Сахалина.
– Если пионеры смогут написать историю поселка, – говорит начальник шахты, – это будет очень интересно. Работать здесь трудно, не каждому по силам. Рабочих не хватает и под землей, и на поверхности. Весной и летом обновляется почти треть состава. Что-то не додумано с оргнабором. Слишком много еще гастролеров, способных только киоски подпирать. Некоторые любители длинного рубля успели побывать в Бошняково по три-четыре раза…
И в этих условиях на шахте все-таки сложился замечательный коллектив тружеников, подлинных энтузиастов своего дела.
Одним из первых пришел в Бошняково Георгий Павлович Буркаль. На первых порах ему пришлось исполнять обязанности и начальника шахты, и коменданта поселка. Сейчас он – горный мастер.
Передовым вторым участком, одним из крупнейших на Сахалине, командует женщина – горный инженер Лидия Николаевна Павлова. Она работает в Бошняково уже восемь лет. Нам рассказывают о депутате областного Совета, знатном навалоотбойщике Валентине Косанине, о проходчике Иване Шкоре, горном мастере Василии Яноше, механике Вениамине Лубочкове и многих других шахтерах, для которых далекий поселок стал родным.
Они могут гордиться своей работой. Уголь, добываемый в Бошняково, пользуется большим спросом и в области, и на иностранном рынке.
…Почти полтора километра катятся шахтерские вагончики по крытой галерее к устью шахты.
– Без галереи мы вообще не смогли бы работать, – объясняет заместитель главного инженера шахты, выпускник горного факультета Владивостокского политехнического института Владимир Самойленко. – Зимой снег переметает распадок, и галерея превращается в тоннель.
Вот и устье. Здесь в шахту не спускаются, а въезжают. Навстречу по транспортерной ленте бежит тускло мерцающий поток угля.
На втором участке, куда мы попали, по штольням и штрекам можно проходить, не сгибая головы.
– Метро! – смеются горняки.
Но чем дальше, тем ниже становится «потолок», журчит в темноте под ногами вода. Местами приходится пробираться ползком. На листке из блокнота инженер при свете шахтерской лампочки рисует систему выработок.
Почти полтора часа пробыли мы под землей, после чего по вентиляционному штреку поднялись на поверхность, на участок № 4 открытой добычи.
Вдоль речки Угольной экскаваторы вскрывали мощный восьмиметровый пласт. Здесь из общего запаса в миллион двести тысяч тонн нынче шахтеры возьмут одну шестую часть.
Рельеф здесь такой, что добытый на поверхности уголь приходится спускать под землю и уже оттуда транспортировать к устью шахты.
– Вот в этой выемке мы взяли пятьдесят шесть тысяч тонн. Самого высококачественного, – говорит Самойленко.
Он нагибается, берет кусок угля, чиркает спичкой. Уголь загорается.
– Почти чистый углерод!
Из этих черных, похожих на пластмассу кусков местные умельцы изготовляют чернильные приборы, портсигары…
– Дальше разработки вести нельзя: пласт горит. Вдоль старой японской штольни оставлено сто тысяч тонн угля. Высококачественного – зольность не превышает трех-четырех процентов. Но он не пропадет: здесь будет основан один иэ первых на Сахалине участков гидродобычи.
Вечером начальник шахты с энтузиазмом объясняет:
– Добыча угля водой повысит производительность труда в пять-шесть раз. Вы знаете, что существующий сейчас технологический процесс состоит из множества операций. С применением гидромонитора добыча будет складываться из двух операций – отбойки и транспортировки. Струя воды давлением в сорок-пятьдесят атмосфер будет разрушать пласт. Пульпу – смесь угля с водой – углесос выдаст на поверхность. Там по стальным трубам она направится на склады для обезвоживания. Уголь останется на складах, а вода вернется в шахту.
У нас очень подходящий для этого вида добычи уголь – трещиноватый. Поэтому производительность гидромонитора может достигать восьмидесяти тонн в час. Есть еще одно обстоятельство, которое делает гидродобычу в Бошняково весьма перспективной. Мы предполагаем подавать в шахту морскую воду. Как известно, она замерзает при более низкой температуре, чем пресная. Таким образом, для складирования, может быть, не потребуются даже утепленные помещения.
По чеховскому маршруту
26 часов за рулем. – «Тут даже местность похожа на Россию». – Климатические чудеса. – Цифры роста. – Будущее Тымской долины. – Так начинался Сахалин. – В гостях у «дедушки Губина». – Старые комсомольцы. – Шахтеры принимают гостей из Японии. – Ровесники.
На следующий день, казалось, все говорило о том, что нам не следует лезть на Ками-Кетонский перевал.
Над Бошняково непрерывной чередой тянулись серые тучки, без устали поливали дождем крыши, дороги, и грязь становилась совершенно непролазной.
Дважды пришлось останавливаться на выезде из поселка. Сначала на одной машине пережало проводник, потом на другой заклинило кик-стартер.
Пока летучая бригада ликвидировала неисправности, рядом с нами «сел» МАЗ. Машина, которой нет сильнее, долго ревела, пытаясь выбраться из трясины.
Вдоволь намучившись, шофер вылез из кабины, сердито плюнул и, разбрызгивая сапогами грязь, двинулся на поиски тракториста.
Когда машины, гудя моторами, начали подниматься по распадку, у дороги, за высокой скалой, напоминающей крепостную башню, попался необычный, «двухэтажный» ключ.
Сверху по камню стекала чистая, как слеза, ледяная вода, ниже в нее примешивались струйки с сильным запахом сероводорода. Гранит покрылся беловатым, налетом серы.
В Бошняково нам сообщили, что есть два пути: один – преодолеть вброд две речки, другой – пойти в обход по крутому склону сопки. О первом говорили уклончиво: «Может быть, пройдете…», о втором категорически: «Не пройдете!».
Разумеется, мы выбрали первый путь.
Не будем утомлять читателя описанием дорожных злоключений – их было вдвое, втрое больше, чем на пути к Невельску. Машины переносили на руках через речки, почти на руках выносили на сопки. Шли едва по двести-триста метров в час. Головокружительные спуски чередовались с тяжелыми подъемами, утомительными переходами по болоту. И большая часть этого пути – ночью.
В конце перехода кто-то из нас под общий смех заявил:
– Если мне потом окажут, что здесь мотоцикл проходил, – не поверю!
Когда-нибудь и на этом участке перевала будет хорошая дорога, а сейчас надо идти той, которая есть. И мы спешим вперед, туда, где когда-то бывал Антон Павлович Чехов.
…Хмурое утро застает нас уже за перевалом. Рассвет приходит не сразу. Сначала пятнами начинают вырисовываться кусты, кроны деревьев. Потом темными тучами пробиваются из тумана сопки.
Машины тонут, захлебываются в грязи. Через каждые несколько метров один за другим мотоциклы приходится тащить из трясины.
Еще десяток километров, другой – и мы в Победино.
Дорога – не из лучших, но после перевала машины легко набирают скорость шестьдесят километров в час. Отдельные препятствия проходили теперь даже с некоторой лихостью.
Иногда водители вздрагивали от коротких ударов в бок: сидя в колясках, мотаясь из стороны в сторону, их напарники… спят! Да, спят, и в это не трудно поверить: под Онорами истекли сутки, как мы в пути.
Над Палевскими высотами дождь прекратился. Среди облаков показались голубые окна. Вот она – залитая солнцем, тихая и ласковая долина Тыми!
Рассказ о штурме перевала в центральной части Камышевого хребта будет, пожалуй, неполным, если не упомянуть об одном комичном эпизоде.
В Тымовском из гостиницы нам навстречу вышел неизвестный человек в пижамных брюках. Он обвел мотоциклы понимающим взглядом и безаппеляционно заявил:
– Да, досталось бедным! Но это еще ничего. Вы бы попробовали сюда от Победино проехать… Мы вчера чуть вместе с автомашиной на дороге не остались. Там вы, пожалуй, не пробрались бы…
Ребята переглянулись. Незнакомец не мог и предположить, где лежал наш путь. Борис сердито ему ответил:
– От Победино, дяденька, сюда не дорога ведет, а асфальт!
Села и поселки, расположенные в долине Тыми, навсегда связаны с именем Антона Павловича Чехова. Здесь путешествовал замечательный русский писатель, собирая материал для книги «Остров Сахалин».
«Тут даже местность похожа на Россию, – писал он о долине Тыми. – Это сходство очаровательное и трогательное, особенно заметно в той части равнины, где находится селение Рыковское, административный центр Тымовского округа. Здесь равнина имеет до шести верст ширины, с востока слегка защищает ее невысокий хребет, идущий вдоль Тыми, а с западной стороны синеют отроги большого водораздельного хребта. На ней нет холмов и возвышений, это совершенно ровное по виду обыкновенное русское поле с пашнями, полосами, выгонами и зелеными рощами».
Томик Чехова мы получили в районной библиотеке. Попытались раздобыть и другие сведения о сахалинской каторге, но девушка-библиотекарь покачала головой:
– Кроме Чехова у нас ничего нет… Хотели недавно исторический вечер провести, так и не получилось: ни каторжан не разыскали, ни документов…
Снова пришлось перелистать «Остров Сахалин». Село Рыковское (ныне Кировское) Антон Павлович назвал «серой русской деревней без каких-либо претензий на культурность». Мы же увидели очередь у кинотеатра, среднюю школу, детский дом, больницу.
Тщетно мы пытались проводить исторические параллели, искали связи настоящего с прошлым. Зеленый томик захлопнули, добравшись до слов: «Больше половины жителей Дербинска были голодны, оборваны и производили впечатление ненужных, лишних и мешающих другим жить…».
Вернули книжку библиотекарю и вышли. Вышли на центральную улицу бывшего каторжного села – прямую магистраль, по обеим сторонам которой выстроились двухэтажные дома. По улице тянулась колонна тяжелых лесовозов.
Все здесь переменилось. Кажется, даже климат стал другим. Ведь утверждали же в свое время каторжане, что «климата на Сахалине нету». А сейчас – жара, голубое небо, легкий ветерок с севера.
В райисполкоме секретарь, вытирая платком потный лоб, кричит в телефонную трубку:
– Приготовьтесь! Сегодня ночью уже помидоры окуривали. Я сам знаю, что плюс двадцать восемь. А ночью метеостанция обещает минус два!
Закончив разговор, он весело сообщает:
– Так вот в августе всегда. В командировку поедешь, днем от жары деваться некуда, а утром встанешь – вся машина инеем покрылась. Еще говорят: «островной климат», «близость к морю». В Сибири мы живем, а не на острове!.. Сейчас только следи за полями да следи.
Кировский район в основном сельскохозяйственный. Он отправляет свою продукцию и на юг, и на север. Картофель, овощи, сметану, мясо из Тымовской долины получают строители Южно-Сахалинска, рыбаки Поронайска и Рыбновска, нефтяники Охи.
Первым хозяйством Кировского района является совхоз «Красная Тымь». Он был создан в 1925 году на месте «государственной опытной фермы» – явно неудачного примера «колонизаторской деятельности» царских властей. За шестнадцать лет своего досоветского существования ферма освоила несколько гектаров земли. В ее распоряжении были четыре домика, два с половиной десятка лошадей да несколько деревянных борон.
Необычайно трудными были первые годы существования совхоза. С 1929 года, когда на поля вышли тракторы, полученные с материка, совхоз пошел в гору, привлек симпатии батраков и беднейшего крестьянства. Кулаки пробовали поднять поденную плату для батраков – не помогло.
Год великого перелома был в Кировском районе годом ожесточенной классовой борьбы. И здесь слышались выстрелы кулацких обрезов. «Крепкие хозяева» боролись до последнего. В селе Андрей-Ивановское кулаки зверски убили и бросили в прорубь председателя комитета крестьянской взаимопомощи батрака Степана Мироненко.
Весь Александровск провожал Мироненко в последний путь. Два трактора, украшенные революционными лозунгами, везли устланные хвоей сани, на которых стоял обитый кумачом гроб. За тракторным поездом в колонне шли сотни людей.
Убийство батрака обнажило звериное лицо сахалинского кулачества. В 1930 году батраки, бедняки и середняки кооперировались повсеместно. Образцом и примером для товариществ по совместной обработке земли был совхоз «Красная Тымь», открывший вскоре два новых отделения.
О переменах, которые произошли в районе, могут поведать тысячи кировчан.
– Как-то для доклада мне пришлось собирать материал о довоенном и послевоенном хозяйственном и культурном строительстве района, – рассказывает инструктор промышленного отдела райкома партии Евгений Иванович Евграфов. – Весьма любопытные получаются сопоставления. Оказывается, в 1936 году в районе было всего 38 тракторов. А сейчас их около ста пятидесяти. Автомашин в том же году насчитывалось 6. Трудно поверить, что многие работы выполнялись на конной тяге: сейчас район имеет более 250 различных машин, легковых и грузовых.
Многое можно рассказать о росте культуры. Совсем недавно, в 1939 году, в районе работало 80 учителей. Сейчас эта цифра увеличилась в четыре раза. Открыта первая в области школа-интернат.
Еще более разительный рост произошел за эти годы в медицинском обслуживании. До войны мы имели 27 врачей, фельдшеров и сестер. Сейчас в больницах и на медицинских пунктах работают 135 специалистов с медицинским образованием.
Вот еще один интересный пример. Вы были в нашей районной библиотеке. Хорошая, верно? У нас сейчас 17 библиотек, которые имеют более 60 тысяч томов. А в 1936 году район имел всего две библиотеки, а книжек – 460…
Интересные, хорошие цифры! Тем более интересные, что район продолжает набирать темпы.
Долина Тыми богата лесом. Здесь расположены основные сахалинские лесные массивы. Преобладают хвойные породы – ель, пихта. Сейчас два леспромхоза – Тымский и Абрамовский – дают области ежегодно до четырехсот тысяч кубометров.
Дальнейшее развитие лесной промышленности связывает транспорт. С продвижением железной дороги на север здесь будут открыты новые леспромхозы.
Овощи и картофель, молоко и мясо, лес – главное богатство плодородной долины. Нельзя не упомянуть и о таком промысле, как охота. Ежегодно в Тымовское из разных поселков съезжаются десятки сахалинских охотников-промысловиков. Они привозят с собой связки шкурок драгоценного соболя, лисицы, выдры, белки. Богаты «мягким золотом» сахалинские леса, настоящее приволье в них для хорошего охотника. А таких в долине Тыми немало. В Воскресеновке, неподалеку от районного центра, живет семья известных охотников Малыгиных. Под Онорами добывают зверя участники ВСХВ братья Илларион и Арсентий Юрковы. Знатный добытчик Василий Белоусов обосновался в дальнем поселке Катангли.
Многих притягивает хлебородная долина. В таких вот районах Сахалина, по словам Антона Павловича Чехова, «богатство воды, разнообразный строевой лес, баснословное изобилие рыбы… предполагают сытое и довольное существование целого миллиона людей». Растет и районный центр. За год на жилищное строительство здесь израсходовано почти два миллиона рублей, только ремонтно-строительная контора сдала полторы тысячи квадратных метров жилья.
На плане поселка появились новые улицы, где ведут строительство индивидуальные застройщики. Мы прошли по одной из них – широкой, залитой полдневным зноем.
– Как называется эта новая улица? – спросили мы.
– Так и называется, – ответили нам, – «Новая»!
Проехать из Тымовского в Александровск совсем не трудно. Извивающейся лентой пролегло через отроги Камышевого хребта хорошее шоссе. Оно напоминает дороги Крыма или Кавказа. Крутые виражи, буйная зелень, небо голубое до синевы.
Жара. Навстречу потоком движутся грузовые машины и автоцистерны, доставляющие грузы из Александровского порта в соседние районы.
За каждой из машин тянется пыльный хвост, похожий на добрую дымовую завесу. В Нижнем Армудане, сверкая зубами на прокопченных лицах, шофера пьют у ларька ледяную воду с сиропом.
Жарким полднем с перевала открывается панорама Александровска, мыс Жонкьер, серебристые полосы крыш, сопки под лоскутным одеялом огородов, синий, как небо, пролив. Отчетливо, словно нарисованная, видна окала «Три брата» – своеобразный символ Сахалина.
«Так начинается Сахалин: бухта, затопленный в 1905 году военный транспорт «Михаил Архангел» и скала «Три брата», – писал когда-то журнал «СССР на стройке».
Да, долгие десятилетия Сахалин начинался именно здесь. До 1905 года сюда приходили морские транспорты с измученными каторжанами. На площади у бревенчатой тюрьмы, называемой «кандальной», тюремные кузнецы «венчали» людей с тачками. «Велика изобретательность человеческая по части преступлений, – писал известный фельетонист В. Дорошевич, – но до сих пор не изобретено такого преступления, которое заслужило бы такой каторги, как Сахалинская».
В Александровске есть старый деревянный одноэтажный домик. Не сразу заметишь на его фасаде небольшую мемориальную доску:
«В этом доме в июле 1890 года жил великий русский писатель-патриот Антон Павлович Чехов 1860–1904 гг.».
В городе сохранились с каторжных времен некоторые здания. Есть в Александровке и живые свидетели каторжной старины.
– Познакомьтесь с Губиным Георгием Ивановичем, – посоветовал нам секретарь горкома. – Интересный старик. У нас его все зовут «дедушкой Губиным». Забивает он ваших метеорологов, по части прогнозов…
Познакомиться же было очень просто: съездить в колхоз «Труд». Георгия Ивановича мы повстречали на полпути с главной усадьбы в колхозный сад.
– Верно, – согласился крепкий седобородый человек. – Меня «дедушкой Губиным» кличут… Да как не знать! Вся жизнь наша здесь прошла…
Георгий Иванович приехал на Сахалин в 1889 году четырехлетним мальчиком вместе с отцом-каторжанином. В юности «вольный поселенец» был свидетелем всех ужасов «острова слез».
Но Губин гораздо охотнее вспоминает о других временах. Он гордится тем, что является старейшим колхозником на острове. В 1930 году он вместе с шестью товарищами организовал в Корсаковке товарищество по совместной обработке земли. В 1931 году на базе этого товарищества был создан первый сахалинский колхоз «Труд».
Четверть века трудится в этом колхозе Георгий Иванович. Тринадцать лет он работал животноводом. В довоенные годы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке был награжден золотой медалью. С годами перешел на более спокойную работу, был кладовщиком, приемщиком. После войны колхоз установил Георгию Ивановичу пенсию.
Но старейший колхозник не ушел на покой. Когда в 1960 году в колхозе были посажены первые яблони, Георгий Иванович стал садоводом. Сейчас на его попечении 150 яблонь, 400 кустов крыжовника, 175 – черной смородины.
– Близкое это мне дело, – задумчиво говорит Губин. – Вот и синоптиком поэтому зовут. Мальчишкой еще, когда грамоте научился, наблюдать стал, погоду записывать. Много лет до сих пор веду записи. Поэтому мне и перемены погоды угадывать легче.
Интересный человек Георгий Иванович! Его память хранит много воспоминаний из истории Александровска – города сахалинской революционной славы.
Вот некоторые странички истории. Начало марта 1917 года. На Сахалин пришла весть о февральской революции. Власть вице-губернатора фон Бунге свергнута. Создан комитет общественной безопасности, а затем Совет рабочих и солдатских депутатов, Советы крестьянских депутатов.
В стране победила Великая Октябрьская социалистическая революция. На северном Сахалине трудящиеся под руководством большевиков самоотверженно борются за победу Советской власти, преодолевая ожесточенное сопротивление буржуазии, меньшевиков, эсеров, колчаковцев. В январе 1920 года в Александровске колчаковцы были разгромлены, власть перешла в руки ревкома. Вскоре состоялся островной съезд Советов, он вынес решение о передаче всей власти на северном Сахалине в руки Советов. Избранный на съезде исполком телеграфировал Совнаркому РСФСР об установлении на севере Сахалина Советской власти и своей готовности выполнять директивы Советского правительства.
А на северный Сахалин уже рвутся японские захватчики. В апреле на рейде встали японские военные корабли, в Александровск высадился десант. Начался тяжелый пятилетний период японской оккупации.
Японская военщина зверски расправлялась с революционерами. Были схвачены Цапко, Кондрашин, Чумаков и другие. Арестованных увезли на крейсер и там замучили.
Но сахалинцы верили, что освобождение придет. И весной 1925 года японцы были вынуждены начать эвакуацию своих войск с северного Сахалина. 19 марта на собачьих упряжках с материка прибыла специальная комиссия, созданная Советским правительством. 14 мая северный Сахалин покинул последний японский солдат, а 15 мая на бывшей Кандальной площади состоялся торжественный митинг.
На северном Сахалине началась пора обновления, освоения, строительства. Остров, богатый нефтью, углем, лесом, рыбой, после неудавшейся каторжной «колонизации», после пятилетней «экспортной» деятельности интервентов был дик, лишен промышленности, почти безлюден. Необходима была большая сила, энергия неслыханной концентрации, чтобы вдохнуть жизнь в суровый и богатый край.
Этой силой была коммунистическая партия и ее верный помощник – комсомол. В 1929–1930 годах по призыву краевой комсомольской организации, по мобилизации ЦК ВЛКСМ двинулись на Восток молодые москвичи, ленинградцы, харьковчане, ставропольцы, волжане, хабаровчане – «100», «1200», «500».
В Александровске живет Петр Иосифович Подвысоцкий, седоголовый и веселый человек с порывистыми движениями – старый комсомолец из «1200». Нам довелось присутствовать при встрече Петра Иосифовича с Михаилом Михайловичем Малагаджи – «тысячедвухсотником». Пожилые люди хлопали друг друга по плечу, называли «Петькой» и «Мишкой» и без устали повторяли:
– А помнишь…
… Штормуя до месяца в море, пробивались на Сахалин будущие лесорубы. Больше всего молодежь раззадорило постановление окружкома: «Комсомол должен взяться за совершенно неосвоенный участок и тем самым предупредить возможные толкования, что пришли на готовенькое».
На пустынном берегу Татарского пролива родился Агневский комсомольский комбинат имени 16 МЮДа, где от директора до лесоруба все были комсомольцами. Борясь с бушующим морем, девственной тайгой, они строили балочные и ледовые дороги, бараки и конюшни, добывали лес. Весной 1931 года подвели первые итоги – леспромхоз заготовил и сплавил 36000 кубометров первосортной древесины.


