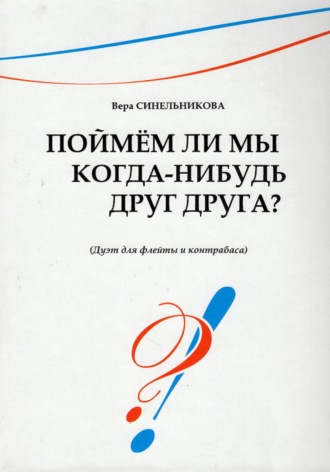
Вера Георгиевна Синельникова
Поймём ли мы когда-нибудь друг друга?
Помнишь, после поездки на Холодное озеро я заболела, и ты оставил меня в Пригороде, а сам уехал в общежитие в Славгород? Как-то вечером я сидела в уголке дивана, закутанная в одеяло. Софья Алексеевна реставрировала какую-то одежду. На гвоздике у двери висело твоё старое, видавшее виды пальто на все сезоны и давно вышедшая из моды огромная кепка. На книжной полке, попирая Мелвилла, Достоевского и Блока, стоял взлохмаченный смешной чертёнок с длинным хвостом, а за окном шёл дождь…И я поняла вдруг, что мне ничего на свете больше не нужно. Что ты не просто любимый, а единственный. Мой человек. О том, что ты вообще где-то есть на планете, я знала всегда. Только раньше это было что-то неопределённое, как все на свете грёзы – не то былинный герой, не то Иванушка-дурачок – большой, белокурый и синеглазый. Когда я училась на втором курсе, я встретила парня моих грёз. Я готова была поверить в чудо. Но скоро поняла, что это не он, то есть не ты. Для него я была обыкновенной девушкой, он не узнал меня. Потом выяснилось, что он женат. А однажды я была смертельно влюблена. В Серёжу Смыслова, своего однофамильца. Только это тоже быстро прошло. И вот что я скажу тебе: как бы там ни было, между собой и этим другим человеком я всегда ощущала стену. Так было даже с моим школьным рыцарем Антошей и, конечно же, с Реней. Стена – иначе я не могу сказать об этом. Я отлично сознавала, где кончается этот другой человек, и где начинаюсь я. А с тобой я не ощущаю этой преграды. Как будто ты – моё продолжение. Или начало. Или море, в котором я плыву. Или небо, в котором я растворяюсь. Я, может быть, не всё в тебе понимаю, но сердцем чувствую тебя верно – в этом я убедилась. Помнишь огромные серые замшелые валуны на берегу Холодного озера? Я подумала о них, когда читала твоё письмо. Прогреть бы тебя на солнышке, обвеять ветерком, поставить под тёплые ливни радости, и вся эта пёстрая смесь из презрения, жалости, отчаяния и неверия осыплется, как мох, обнажая гладкую и крепкую поверхность гранита. И ещё я подумала: просто невероятно, до чего мы с тобой похожи! Как будто созданы из одной порции материи. Но при этом, до чего мы всё-таки разные! Совсем, как озеро и облака. Не раз, читая твоё письмо, я восклицала: ты прав, о да, конечно же, ты прав. Прав во всём. Кроме того, разумеется, в чём ты абсолютно не прав.
Жизнь – океан, и страсти неизменны! Да всего лишь миллион лет назад те, о ком ты судишь сегодня так сурово, глодали косточки своих соседей и причмокивали от удовольствия, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести.
Нет, не океан, а поток, начавшийся у родничка первой мысли, первой улыбки, и постепенно набирающий силу.
Монтень, бесспорно, мудрец, но к какому разряду причислишь ты Сент-Экзюпери, Уолта Уитмена? Послушай-ка!
Какое поразительное восхождение! Из расплавленной магмы, из того теста, из которого слеплены звёзды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы, люди, и поднимались всё выше и выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия… Это вечное чувство неутолённости возникает потому, что человек в своём развитии далеко не достиг вершины, и нам ещё надо понять самих себя и Вселенную…
Антуан де Сент-Экзюпери
Сегодня перед рассветом я взошёл на вершину горы и увидел кишащее звёздами небо и сказал моей душе: когда мы овладеем всеми этими шарами Вселенной и всеми их усладами, и всеми их знаниями, будет ли с нас довольно? И моя душа сказала: нет, этого мало для нас, мы пойдём мимо и дальше.
Уолт Уитмен
Это не просто удачные цитаты в подтверждение моей правоты, а точное отражение моего внутреннего состояния, ощущения жизни, как восхождения, как полёта к цели далёкой, но непрестанно зовущей и направляющей подобно огню маяка.
Я не рассчитываю, что бастион «почти равнодушия» падёт после первой атаки, но верь мне, придёт время, и над ним взовьется белый флаг. Вот увидишь, так и будет. Всё ещё будет! Твои странствия, поиски, разочарования – только прелюдия. Впереди – жизнь. Одна на двоих. И как ни думай об этом, всё нее могло быть и не будет иначе. Мы не могли разминуться. Найти то заветное, что мы оба ищем, можно только вместе. Твоей мудрости достаточно, чтобы отрицать, сомневаться, отсеивать ненужное, раскладывать по полочкам приобретённое. Чтобы двигаться вперёд, чтобы побеждать, нужна вера, из которой я, по утверждению Рени, состою на 99,9%. Скажу тебе по секрету: хоть я обожаю свою мамулю – чистого ангела, ты сам в этом убедишься, – по сути своей, по крови я всё же отцовское дитя. От него, пробившегося из деревенских плотников в большую журналистику, я унаследовала несокрушимое упорство и веру, что будет так, как задумано. Он очень хотел сына и, наверно, поэтому воспитывал меня, как мальчишку – пел мне казачьи песни, играл со мной в городки, разрешал лазить по деревьям и вообще предоставлял полную свободу, что и закончилось весьма плачевно. Вопреки родительской воле я покинула Малгородок и уехала, чтобы встретиться с тобой. И вот теперь я снова на взлёте. Мамуля тайком утирает слёзы. Папка ворчит, конечно, но по-настоящему сердиться не может – слишком любит меня. Только время от времени приносит какую-нибудь банку с вареньем и пытается пристроить её в чемодан или баул. Я потихонечку вытаскиваю её, и уношу в подвал, но, тем не менее, багаж катастрофически растёт, и этот процесс сопровождается потоком причитаний, наставлений, предостережений и пр. Всё время выясняется, что о чём-то забыли, что-то не уложили, чем-то мудрым не напутствовали. Скорей бы в дорогу! Яблоками, грушами, виноградом я уже объелась – насытилась витаминами на всю предстоящую зиму, с соседками и друзьями уже попрощалась. Вот обнять бы ещё тебя! Крепко-крепко. Какое это было бы счастье! Небывалое, невообразимое.
Ну, пока.
Твоя.
_ _ _
7.09. 1963г
Михаил
Славгород
Моя Данусь!
Рука храбро выводит эти слова, но сердце ещё не скоро привыкнет к тому, что ты – моя, Данусь. А от боязни разочаровать тебя я не излечусь, пожалуй, никогда. Всё время мне будет казаться, что я говорю и делаю что-то не то. В данную минуту я чувствую себя ослом, который то и дело упирался, когда его пытались вывести из мрака на божий свет, и лишь теперь сообразил, как много потерял из-за своей глупости и упрямства.
Ведь всё могло быть иначе, Данусь! Но, может быть, ещё не поздно?
Сейчас я соберусь с духом и скажу тебе одну вещь, которую мучительно обдумывал двое суток. Давай поженимся, Данусь! Только не смейся надо мной! И не отказывай сразу! Подумай! Не потому я прошу тебя об этом, что не могу обуздать свои страсти. И не ради штампа в паспорте – синюю птицу в силках не удержать. Но великоградская прописка даст тебе право не ехать на Север, который, клянусь тебе, не самое лучшее место для выверки жизненных принципов.
Вначале я не собирался предлагать тебе столь скоропалительное замужество. Бросить всё и махнуть с тобой на Север – такова была моя первая реакция на твоё письмо. Но заболела мать, и это меня осадило. Не уверен, сможет ли она вынести такой удар. Всё, чего она хочет сейчас от жизни – это видеть меня с дипломом. Отцу, когда тот уходил на фронт, она пообещала вырастить меня человеком, и сейчас сосредоточена на одном: дожить до того дня, когда я закончу ВУЗ.
Есть ещё одно обстоятельство, Данусь, которое делает меня несвободным. Это Белов. Он расценил бы моё бегство, как предательство, и был бы, пожалуй, прав. Тут, видишь ли, какая штука? В детстве, когда мать, уходя на работу, запирала меня в доме на целый день, я всегда что-нибудь мастерил. Шрам на моём лице, кстати, – след неумелого обращения с ножом. Постепенно привычка стала характером. Если в мои руки попадает деревяшка, обрывок провода или лоскут кожи, я почти непроизвольно оцениваю, на что это сгодится. Причём, взявшись за дело, я не могу успокоиться, пока не доведу его до конца. Эту особенность заметил Кривицкий, наш завкафедрой. Он-то и «продал» меня Белову, которому, чтобы закартировать предсказанные и открытые им самим рудоносные гранитоиды в Восточно-Забайкальском прогибе, нужна высокоточная аппаратура. Собственно, я мог отказаться и нормально поехать в поле, как все ребята-геофизики. Но я же не отказался, чёрт меня подери. Белов сейчас в Забайкалье – строит разрезы, отбирает образцы, выколачивает информацию у тамошних геологов – готовит плацдарм для решающего наступления в будущем году. Во мне он не сомневается – контроля нет никакого. Как же я могу сбежать, Данусь?
Вот я и подумал …. Подумай и ты, прошу тебя. Разве моя идея такая уж безумная или дурацкая? Тебя же пока ничто не связывает с Севером. Работу, полагаю, мы тебе найдём. Жильё наше тесновато, но этот район пригорода в скором будущем идёт под снос, и есть надежда получить квартиру. Ну, что ты скажешь, я, Данусь? Мне не хочется отпускать тебя одну. Не обижайся, но Реня прав – что-то есть пионерское в твоём характере. Или, может быть, не в характере, а в складе мыслей. Твои рассуждения кажутся то слишком примитивными, то слишком наивными, но глубина их искренности такова, что вместо усмешки они вызывают зависть. И всё же, восхищаясь тем, с какой несравненной грацией и лёгкостью, обойдя подводные камни сложностей и противоречий, ты уложила меня на обе лопатки по части диалектики и прошла сквозь частокол вопросов, я не спешу признать себя побеждённым. Не из самолюбия, а из приверженности истине. Вера, Данусь, как сказал один мудрец, – всего лишь разновидность заблуждения. Можно ли на эту карту ставить всю жизнь? И потом, во что ты веришь? И куда летишь? Может быть, перед тем, как безоглядно устремиться куда-то, полезно остановиться и поразмыслить? Да и вообще, Данусь, кто знает достоверно, что важнее – царствовать или выращивать капусту? Относясь вполне уважительно к профессиональным заслугам и жизненным достижениям твоего отца, я отнюдь не уверен, что смог бы когда-нибудь последовать его примеру, то есть подчинить жизнь определённой идее. Меня, признаться, смущает утверждение насчёт общности цели. О каких поисках идёт речь, я что-то совсем не понял, прости мне мою бестолковость. Если захочешь, объясни подробнее. Твоим спутником я хочу стать потому, что люблю тебя. Мне хочется заботиться о тебе, защищать тебя, хоть я и не очень уверен, что гожусь для этого дела. Запутался я, однако. Но чутьё подсказывает мне, что тебе лучше остаться. Не искушай судьбу, Данусь!
Правда, представить себе, что со мной будет, когда ты вдруг встанешь на моём пороге, я не могу. При мысли об этом меня охватывает неудержимое волнение. Данусь, Данусь! Если бы я сказал, что всю жизнь мечтал о такой девушке, как ты, это была бы просто красивая фраза. А точнее – чистая ложь. Потому что до встречи с тобой я и вообразить не мог, что такие девушки существуют. Ты не чудачка, Данусь. И не белая ворона. И не редкий цветок. Ты – одна. Таких больше нет. Живи с этим ощущением, какой бы долгой ни была твоя жизнь. С тех пор, как я узнал тебя, я только и делал, что натягивал поводья, чтобы ничем тебя не отпугнуть. Я думал, ты пройдёшь мимо и растворишься во времени, как растворяется всё другое. Но ты приблизилась. Нет, ты вошла в меня. Ты во мне поселилась. И это такое странное, такое ни с чем не сравнимое ощущение, такое необычное состояние, что я не узнаю себя. Стою на перроне – улыбаюсь. Здороваюсь с Кривицким, говорю: «Не правда ли, прекрасный сегодня день?» Он смотрит на меня подозрительно. Приятели же прямо спрашивают меня: «Что с тобой случилось?» Где логика, Данусь? Пока я был мрачен и угнетён, пока не мурлыкал целыми днями (ужасно, впрочем, фальшивя), никто не интересовался, что со мной. Но лишь только я стал жизнерадостен, мир счёл это отклонением от нормы. Что же будет, Данусь, если перемены будут происходить в таком темпе и дальше? Боюсь, ничего хорошего это мне не сулит. Нос мой может выпрямиться, волосы, чего доброго, закудрявятся, уши не будут торчать, исчезнет моя неуклюжесть, и в голове зароются весёленькие мыслишки. Ты перестанешь узнавать меня, Данусь. Да что там? Ты разлюбишь меня. Нет уж, надо быть поосторожнее. Я и так забрался слишком высоко. Как гляну вниз – дух захватывает. А уж как подумаю, что от сюда можно свалиться, мурашки пробегают по коже.
Ну, Данусь, наворотил я, страшно перечитывать. Оправдание у меня одно – я люблю тебя. Я люблю тебя, дорогой мой крылатый человек, моя синяя птица. Прилетай!
Твой навсегда
_ _ _
16.09.1963г
Дана
Малгородок
Да! Да! Да!
Ты не понял ещё? Ты – мой единственный. За кого же мне ещё выходить замуж? По правде говоря, я уже чувствую себя твоей женой, и это создаёт вокруг меня мощную зону таинственной силы и радости. Допустим, приходит к нам сосед. Он разговаривает со мной и думает, что я просто вот такая девчонка – Дана Смыслова, и не понимает, что это во мне так светится, и почему я улыбаюсь, словно получила в подарок целый мир. Ему невдомёк, что во мне и вокруг меня и всюду, куда ни бросишь взгляд, – Ты.
Рассказать об этом невозможно даже родителям. Им я просто объяснила, что существует некий молодой человек, исключительно и сугубо положительный. Большой, умный и очень добрый очкарик. Им это понравилось. Но насчёт женитьбы я – ни звука, прости меня. Если скажу, будет драма – лишний повод не отпускать меня на Север. А с Севером всё решено. И я знаю, ты меня поймёшь. Только жаль, что мы не увидимся.
Если б ты знал, как я надеялась, что ты будешь хоть немножечко сумасшедшим и на пару минуточек прилетишь ко мне. На каждый стук калитки я словно кукушка выглядывала в окно мансарды, готовая кубарем скатиться вниз и броситься тебе на шею. Почему я не сделала этого раньше? Узнали б мои девчонки в общежитии, что мы с тобой ни разу не целовались, они бы поумирали со смеху. Я вынуждена была им чуточку завирать, но искренне считала, что у меня есть для этого основания. Помнишь тот случай восьмого марта? Ты тогда со свойственной тебе деликатностью заметил, что у меня сине-фиолетовый нос, и мы зашли в подъезд погреться. Мне так захотелось прижаться к тебе, и я категорически потребовала, чтобы ты меня обнял. Ты подчинился, но так, словно тебе грозило отсечение головы. И потом больше никогда не вспоминал об этом. Я сердилась на тебя и ничего не понимала. Но сейчас-то! Сейчас! Я так ждала. В последнем письме я даже намекнула, как мечтаю о нашей встрече. Но поехать к тебе не могу. Ждать тебя – тоже. Билет на руках. Чемодан, баул и рюкзак подтянутые, застёгнутые на все замки и ремни, вместившие целое дорожное состояние, ждут у двери завтрашнего старта.
И это только кажется, что всё, как ты говоришь, могло быть иначе. Что я могла бы распаковать багаж и, сообщив готовым к путешествию вещичкам, что так, мол, и так, маршрут отменяется, забыть о Севере…
То есть в каком-то смысле ты, конечно, прав. Могло быть иначе. К примеру, я могла остаться в Малгородке, стать врачом или журналисткой, как хотели того моя родители. Или модельером, как иногда хотелось мне. О, какие бы я придумывала блузы, какие сочиняла вечерние наряды! Я любила гимнастику и могла бы уйти с головой в спорт. Или в науку. Одно время я просто болела петрографией, не могла оторваться от микроскопа, читая зашифрованные в тонких прозрачных пластинках пород удивительные истории о том, как наступали и отходили моря, вырастали и рушились горы…
А как я люблю танцевать! Ритмы молдаванясок, краковяков, русских плясовых обжигают, закручивают меня. Танцевать бы всю жизнь…
Вот если бы только не этот сгусток в моём сердце, совсем крохотный, можно сказать, точка из неё беспрерывно исходят повелительные импульсы, которым я подчиняюсь почти машинально, так что мне иногда кажется, что я думаю не головой, а сердцем.
Я никогда никому не рассказывала об этом, может быть, даже не могла рассказать, не очень понимая, в чём дело, но всегда знала, что главное в моей жизни – именно эта точка. Прислушиваясь к тому, что происходит у меня внутри, я становилась временами жутко рассеянной. И это с тех пор, как я себя помню. В детстве не было ничего определённого, просто настойчивый влекущий зов. Мои сны часто повторялись. Я шла куда-то по знакомым и совсем незнакомым местам, шла долго, преодолевая немыслимые препятствия, И, наконец. достигала края земли – крутого обрыва с гнёздами ласточек и стрижей, за которым простиралась сияющая золотом и синью бесконечность. Я без всякого страха шагала в неё, и меня подхватывало на лету лёгкое обволакивающее облако тепла…. А иногда я оказывалась на солнечной лесной поляне с флейтой в руках и начинала играть так свободно, словно сама была музыкой и это во мне, в моих клетках поднимались и стихали волны звуков. Чистая рассыпчато-звенящая мелодия сливалась с пением птиц и шорохами леса…
В дневной реальной жизни сладостные видения моих снов рассеивались, как туман в горах, оставляя не иссякающее чувство восторга перед окружающим миром, состояние безотчётного счастья и всё возрастающее желание найти, услышать наяву.
Может быть, поэтому бродяжничать я начала, чуть ли не с пелёнок. Для меня не было зрелища более волнующего, чем дорога, уходящая за горизонт. Волшебство заключалось в том, что дороги нигде не кончались – от шоссейных ответвлялись бесчисленные просёлочные, которые, поплутав по лесам и лугам, ныряли вдруг в уютные деревушки, сплетали там кружева из улочек и переулков, а затем, выбравшись на простор, бросались врассыпную. Не помню, чтобы когда-нибудь я испытывала страх. Я доверялась дорогам и не блуждала никогда. То неосязаемое, неуловимое, невыразимое, что таилось в моём сердце, каким-то удивительным образом выводило меня безошибочно из любой дорожной путаницы. Антоша, который присоединился ко мне в пятом классе, когда мы уже гуляли на великах, говорил, что я могу путешествовать с завязанными глазами. Отец тоже доверял моему чутью, и если мне случалось задерживаться, уверял мамулю, что смысловская порода не подведёт. Он был прав, я всё успевала, и четвёрок в моём дневнике почти никогда не было.
По-настоящему бесстрашной сделал меня Антоша. С ним я и впрямь рискнула бы отправиться на край света. Он был сильный, собранный – никогда не отправлялся в путь, не подготовившись, таскал с собой рюкзак с аптечкой для велосипедов и для нас, на всякий случай брал карту и компас, разжигал одной спичкой костёр и классно запекал в углях картошку. Он собирался стать геологом, с упоением рассказывал мне о камешках, которые мы собирали по берегам речек, и о далёком прекрасном городе, в котором есть институт, где учат понимать язык гор. Но самое потрясающее было то, что он никогда мне не мешал. Может быть, именно в этом проявлялось его рыцарство, которое я принимала, как должное – без удивления, без особой благодарности. Просто он был своим. У нас дома – тоже. Часто оставался обедать, делать уроки, а когда мы собирались очередной раз в путь, отец говорил Антоше строго: «Ну, смотри там, чтобы всё было в порядке!»
Какое это было время! Может быть, лучше и не бывает?
Всё кончилось в один миг. Антон на моих глазах подорвался на мине в зарослях алычи.
Между прочим, мне запомнилось, что в этот день я не хотела никуда ехать, но Антон уговорил меня, сказал, что я увижу нечто необыкновенное.
Я до сих пор не знаю, как описать, как объяснить, что произошло, с чем сравнить. Может быть с землетрясением, когда почва, незыблемость которой мы воспринимаем, как абсолютную заданность бытия, вдруг разверзается, поглощая всё, с чем связано наше существование.
Я помню, солнце клонилось к горизонту. Его лучи пробивались сквозь ветки, то и дело выхватывая рыжие вихры Антона, беспечно звучал его хрипловатый ломающийся голос… Последнее, что было в той счастливой стране.
Я сразу лишилась всего: прошлого – сознание не справлялось с тем, что действительно был Антон, который вечно надо мной подтрунивал и совершенно не умел без меня обходиться; настоящего – во мне не было иных ощущений, кроме боли; будущего – у меня не было сомнений, что так теперь будет всегда. Всё меня раздражало – жалость родителей, необходимость обедать, ходить в школу. По ночам вместо золотых облаков мне снились развешанные по веткам куски мяса и окровавленные обрывки клетчатой рубахи.
Но я не сошла с ума, как мать Антона. И спас меня, как мне кажется, этот живой недремлющий комочек в моём сердце – мой диктатор, надзиратель и утешитель одновременно.
Мама отвезла меня к тётке на юг – так посоветовали врачи. Там я дни напролёт проводила наедине с морем – у безлюдных скал, к которым разве что аквалангисты изредка подплывали. Море было разным – то разливалось бирюзой, то становилось свинцовым, то бурлило, словно гневалось и на скалы, и на меня, и на хмурое небо, сдавливающее его со всех сторон, то снова успокаивалось и будто виновато лизало берег. Я любила, примостившись на каменном карнизе, смотреть, как дышит море. Я сливалась с ним, забывая обо всём, словно опустошаясь, но это была не пустота, а наполненность морем.
Однажды вечером, уже возвращаясь к тётушкиному дому, я вдруг, совершенно неожиданно услышала голос. Он исходил не от другого человека, не с небес и не из моря, а прямо из меня, из моего сердца, как голос флейты в моих детских снах.
– Почему?– услышала я и остановилась. Я ждала, но больше не было ни звука. Одно только слово. Но оно стало звучать во мне как колокол, и подобно многократному эху возникали «почему?» второй, третьей, четвёртой, н-ной волны. Почему погиб Антон? Почему такое могло случиться? Почему именно со мной? Почему сейчас? Почему? Почему? Почему?
Я словно пробудилась от летаргического сна. Знаешь, что я сделала, вернувшись в дом тётушки? Еду, которую она мне предложила на ужин, я смела в мгновение ока и, к её изумлению, потребовала ещё. С этого дня мои косточки стали обрастать мышцами и жиром к великому удовольствию тётушки, писавшей подробные отчёты в Малгородок по поводу «состояния ребёнка». В доме тётушки я стала приглядываться к тому, на что прежде совсем не обращала внимания. Во-первых, к самой тётушке – она оказалась совсем как мамуля. Во-вторых, я обнаружила уйму книг – настоящую библиотеку, оставшуюся от репрессированного тётушкиного мужа дворянского происхождения. Книги занимали целую комнату и были чётко распределены по сериям: философия, история, справочники и энциклопедии, книги о природе, художественная классика…. В нашем доме тоже есть библиотека, но в ней преимущественно современные издания. Очень много политической литературы, публицистики. Я всегда находила то, что нам полагалось по программе, но чтение не увлекало меня, я больше любила где-нибудь бродить или просто болтаться в гамаке под яблоней и глядеть сквозь ветки в синее небо. У тётушки я набросилась на книги, как голодная акула – на проплывающих мимо рыбёшек.
Почему ко мне вернулась радость? Почему мне снова хотелось жить?
Мне кажется, нет, не кажется, а именно тогда из предчувствия, которое с самого раннего томило меня своей неизвестностью, невыразимостью, вдруг проклюнулся росток ясной мысли и различимой цели. Искать и найти ответ. Все силы мои, прежде сосредоточенные на одной только боли, от которой я даже боялась отвлечься, считая это кощунством, направились в другое русло, туда, где можно и нужно было что-то делать – читать, размышлять, узнавать, и это не было предательством или забвением Антона, а напротив, служило его памяти. И это было интересно. И важно. Отсюда та лёгкость, с которой я перешла из одного состояния в другое, из отрешённости и отчаяния – в окрылённость.
Тётушка моя, конечно, ничего не понимала. Она поглядывала на меня с опаской и не спешила отправлять домой. Родители тоже боялись, что в Малгородке всё повторится сначала. Учебный год был упущен, и было решено, что зиму я проведу на юге. Мои чистые беззаботные мозги, не испытывавшие большого напряжения от школьной программы, подверглись серьёзному испытанию. Винегрет из военно-исторической литературы, Махабхараты, Бунина, Уэллса, Данте, Гомера, Гашека, Толстого, Свифта, Шоу, Тагора и многого другого был слишком тяжёлой пищей для моего по сути детского ума. Из прочитанного я усваивала мизерную толику, если вообще усваивала хоть что-нибудь, но ложное ощущение, что надо спешить, заставляло меня глотать всё подряд, и с той поры у меня выработалась ужасная привычка пробегать страницы по диагонали.
Поверхностное, необузданное, бессистемное чтение привело к тому, что я «объелась» и когда вернулась в Малгородок, почти перестала обращать внимание на книги. Но я стала другой. Не внешне, а внутренне. Вместо неясных детских грёз мне уже виделась совершенно отчётливая линия судьбы. Где-то вдали мерцает маяк, и мне нужно до него доплыть, долететь, доползти. На всё происходящее у меня сформировался особенный взгляд, как если бы он улавливал только то, что хотя бы силуэтом, тенью попадало в луч этого маяка, или я в тёмной комнате отыскивала бы с фонариком предметы, необходимые для путешествия: вот это нужно, это может пригодиться, без этого никак не обойтись, а это даже не заслуживает внимания. У меня появилась уйма записных книжек, которые я до сих пор таскаю за собой, – в них отражались мои наблюдения, размышления, переживания. При этом нужно было сохранять тайну. Не объявлять же во всеуслышание о том, что я вознамерилась найти ответ на вопрос, почему бывают войны и как их можно искоренить. Разве не показалось бы это странным? Хотя никому не казалось странным, что готовится новая война. Газеты пестрили сообщениями о нацеленных на нас ракетах, об огромных запасах биологического и химического оружия. На занятиях ПВО нас учили шить «намордники» и ложиться в простенки между окнами при атомной бомбардировке.
Я не замечала, чтобы кто-нибудь горевал по этому поводу. Все жили как ни в чём ни бывало – занимались своими делами, строили планы на будущее… Мы дурачились на переменах, устраивали маскарады, играли в лапту и в волейбол…. Это было ещё одно «почему?». Агрессивность неискоренимо свойственна нашей природе? Но почему? И где искать конец ариадниной нити? В литературе? В философии? В политике?
Я долго не знала, куда подамся после школы. Помогла мне определиться, ты удивишься, математика.
В девятом классе к нам пришла Эмилия Карловна, и с нами произошла метаморфоза: в предмете, который мы считали самым сухим и неинтересным, нам вдруг стала слышаться музыка, видеться изящество, точность и красота. Пока у нас преподавала директриса, самым занимательным было пересчитывать бородавки на её массивном подбородке и разглядывать непонятно как держащийся на макушке крендель. Она щедро расточала оскорбления, полагая, что мы тупы безнадёжны. На внешность Эмилии Карловны, которая не уставала восхищаться нашей одарённостью, мы не обращали внимания. Как только она входила в класс, мы оказывались в царстве увлекательных игр. Да, именно такое у меня осталось ощущение от этих уроков. Мы играли. Забирались в какие-то лабиринты и потом отчаянно старались найти выход, возводили сооружения, простые или невероятной сложности, которые либо рушились, либо, к нашему восторгу, оставались прочными. Любопытно, что главным мотивом моих сновидений с тех пор стало строительство – я проектирую, переделываю, приобретаю или стремлюсь приобрести дворцы, замки, кварталы или даже целые города.
Я погрузилась в математику настолько, что стала фантазировать о формуле счастья, лаконичной, простой и совершенной, как сама Гармония или может быть, как «тонкий луч», который хотелось найти тебе.
Через год вернулась директриса.
Костёр любви к математике погас. Но уроки Эмилии Карловны остались, как мне кажется, для всего нашего класса самым тёплым и радостным воспоминанием о школе.
Во мне же решение сложных задач, которые я находила в разных немыслимых сборниках, не входивших в программу, воспитало совершенно новое качество, необходимое моей генетической почти беспочвенной вере. Я научилась логически мыслить и чувствовала себя, как пахарь, который неожиданно вместо мотыги получил трактор. Учиться мне стало совсем легко, и проблема выбора профессии не ставила меня в тупик.
Я представила себе зёрнышко Истины, которое собираюсь отыскать, и огромную, как Джомолунгма, гору всего, что было написано, надумано, открыто человечеством за всё время его существования, и сразу вспомнила кота Фикулькевича – персонажа из польской сказки. Он очень любил тишину, а его друг-пёс, имени которого я не помню, обитал этажом ниже и сидя на подоконнике, без конца бренчал на гитаре. Как-то вечером Фикулькевич спустился к приятелю по водосточной трубе и задал ему три вопроса:
– Почему дождь падает не снизу вверх, а сверху вниз?
– Из чего сделаны коровьи хвосты?
– На каком дереве растут перчатки?
Пёс впал в раздумье и забросил гитару.
Я тоже задала себе три вопроса:
– Возможно ли вообще пропустить через мозг, постичь имеющуюся гору знаний?
– Если это даже возможно, способна ли на это именно я?
– Есть ли в горе то зёрнышко, которое я ищу?
Ответив сразу на два первых вопроса «нет», я призадумалась и стала рисовать графики. На одном – рост общего объёма человеческих знаний, на другом – увеличение количества и «качества» оружия на Земле. Интересная получилась картинка! Где-то в записных книжках она наверняка сохранилась. Как раз на пике научно-технического прогресса мы приобретаем… возможность самоуничтожения. Можно, конечно, спорить, что литература и философия и вообще культура не являются частью научно-технического прогресса (сейчас я думаю, что это не так), но тем хуже для литературы и философии. Достигнув точки, где мы в состоянии собственными силами превратить планету в пустыню, мы ведь не останавливаемся, мы упорно и, не снижая темпов, движемся в том же направлении, и оказываемся в зоне, где в каждый данный момент мы можем быть, а можем и не быть.
С колебаниями по поводу профессиональных занятий какой-либо наукой было покончено.
Осторожно я попробовала поговорить с моим отцом, который, конечно же, надеялся, что я пойду по его стопам. «У тебя, хозявка, слог хорош» – говаривал он мне – Ты меня перещеголяешь.» Я не рассчитывала услышать от него истину в последней инстанции – всё-таки он ортодокс. В его голове прочно засела мысль, что наша революция семнадцатого года не просто одна из революций и даже не просто Великая революция, а перелом, смена эпох. До неё – «стихия», «иллюзорные надежды и безумные утопии», «ощущение трагической сущности мира, его абсурдности», «круг таинственных блужданий, смутных предчувствий и обречённых попыток», после неё – «осознанный рывок к цели заветной, светлой, выношенной тысячелетиями». Вся его журналистская деятельность – беспрерывная война с «тупоголовым начальством», «неприкрытыми безобразиями», его лишали наград, выгоняли из партии, снимали с должностей, потом всё восстанавливали, но если бы даже нет, он всё равно говорил бы подобно Мартину Лютеру: «Здесь я стою и не могу иначе».



