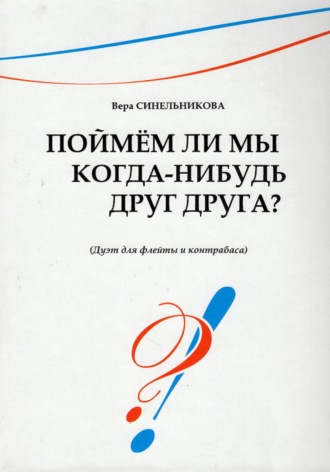
Вера Георгиевна Синельникова
Поймём ли мы когда-нибудь друг друга?
Моему сыну Иваниву Алексею Фёдоровичу
Глава первая
(Переписка Даны и Михаила 1963-1964гг)

21.07.1963 г
Дана Смыслова
Малгородок

Здравствуй!
В общем, так. Я решила написать всё начистоту. А там – будь, что будет. Если то, чем полно моё сердце – мираж, пусть он исчезнет. А если правда …. О! Если это правда!
Твоя немногословность всегда действовала на меня, как магнит. Но понять, почему ты молчишь сейчас, я не в силах. И не только это. Ещё в тот день, когда ты провожал меня в аэропорт, я спросила себя: а может, ничего не было, и нет? Ведь ты почти не смотрел на меня. Ты был сосредоточен на страшно важном деле – выпускал дым в окно автобуса. Потом вдруг вспомнил о какой-то старой фотоплёнке, и всё порывался найти её, усердно выворачивая карманы. На вопрос, писать ли тебе, ответил: как хочешь. И, в конце концов, пожал мне руку!
Я ревела всю дорогу. А потом стала думать: нет, тут что-то не так, нелепость нашего расставания, наверное, мучает его самого, он обязательно напишет, и всё прояснится. Пять дней – такой я установила срок ожидания. Потом накинула ещё пять на нелётную погоду. И ещё пять – на твою замедленную реакцию. Но напрасно я терзала крышку нашего фанерного почтового ящика …
Если бы что-то случилось с тобой, я бы почувствовала сразу. А то ведь знаю: сидишь, как обычно, целыми днями на кафедре, отвлекаясь от своих железяк лишь затем, чтобы проглотить пару холодных сарделек.
Но скажи: неужели ты не вспоминаешь обо мне? Неужели у тебя не болит душа? Отзовись же! Я жду.
Я сама не верю, что отправлю это письмо. У меня такое чувство, какое бывало в детстве, когда я, поспорив с мальчишками, ходила в полночь купаться на пруд за городским кладбищем. Я знала, что водяной не схватит меня за ногу и не утащит в подводное царство, но дыхание перехватывало от ощущения жуткой тайны. Так и теперь. В глубине души я не сомневаюсь, что ты ждёшь моего письма и будешь ему рад. Но мысль «а вдруг» заставляет замирать сердце. А вдруг ты не ответишь, вдруг ничего не поймёшь? Не поверишь?
Но неужели моё сердце обманывает меня?
_ _ _
30. 07. 1963г
Михаил Глыба
Славгород
Ты не ошиблась, Данусь! Твоё письмо обрадовало меня. Но и озадачило порядком. Не скрою, два дня я скакал телёнком. Но теперь, когда ко мне вернулась способность хоть немного соображать, меня неотступно преследуют вопросы и сомнения. И это не потому, что я не понимаю тебя или тебе не верю. Просто, может быть, ты и сама не представляешь себе всей сложности или даже недосягаемости того, что ты надумала, к чему прикоснулась.
Сегодня я прошёл все семь наших любимых маршрутов, искурил, бог знает, сколько папирос, думал о своей жизни, о нас с тобой и, разумеется, ни к чему мудрому не пришёл. Пытался я рассуждать более или менее здраво. Что из этого вышло, судить тебе. По крайней мере, не сомневайся в искренности моих признаний.
Встреча и дружба с тобой были для меня полнейшей неожиданностью. В сущности, я уже ничего не ждал и не искал. Сказать, что я чуждаюсь людей, было бы слишком сильно и, пожалуй, несправедливо, но всё же я предпочитаю одиночество. Я приучил себя к мысли, что не следует ждать от жизни подарков, кроме, разве, мелких житейских радостей. Я не отрицаю жизнь. Нет. Просто не могу уже пить её с прежней жаждой, всякий раз предчувствуя тяжкое похмелье.
Радость, которую дала мне ты, была выше всех моих ожиданий и надежд. Ничего чище и светлее судьба мне не дарила. Но если у меня и возникал когда-нибудь соблазн удержать эту радость, я убивал его в зародыше. Почему? Всякий ответ, Данусь, будет приблизительным. Счастье, радость эфемерны по своей природе. Можно ли продлить цветение черёмухи? Но дело не только в этом. Тебя, пожалуй, удивит моё признание, но я не только не роптал, а даже считал своей удачей то, что в твоей жизни есть Реня. Существует странная закономерность, которую я не могу объяснить – могу только обозначить. В каждом общении заложено зерно разлада и не прорастает оно лишь при очень коротком или протяжённом во времени, но поверхностном знакомстве. Мы ищем в человеке не то, что в нём есть, а то, что нам нужно. Мы обманываем себя, позволяем разыгрываться своему воображению, льстим себя необоснованными надеждами, а потом, найдя совсем не то, на что рассчитывали, кричим «караул!». Так что, если не хочешь терять человека, не стоит подходить к нему слишком близко. Я даже благодарил судьбу, что между нами стоит Реня, о соперничестве, с которым нечего было и помышлять – поэт, красавец, именной стипендиат! Случалось, правда, кулаки мои чесались, когда я видел вас вместе, но всякий раз меня удерживал мой собственный эгоизм. Я рассчитывал, что ты скоро уедешь, и мне удастся сохранить монолитным, без единой трещинки, огромный кусок радости. Простившись с тобой в аэропорту, я поздравил себя с выдержкой. А потом с головой ушёл в работу – это здорово спасает от тоски.
Сейчас, видя, с какой отчаянной решимостью ты идёшь мне навстречу, я не знаю, радоваться мне или плакать. Не могу не задаваться вопросами, чем же был и что есть для тебя Реня, что найдёшь ты во мне, и что ждёт нас обоих?
Тебя привлекает моё немногословие. Я не стал бы это качество причислять к бесспорным достоинствам. Нетрудно в век лицемерия, беспримерного и всеобъемлющего, когда лозунги опошлены, идеи скомпрометированы, искренность высмеяна, научиться не придавать значения словам. Если бы я не был столь неуклюжим и в такой же степени немузыкален, (это касается способности к воспроизведению – с восприятием у меня всё в порядке), я бы выражался посредством балетных «па» или виртуозных пассажей – в танце и в музыке, по крайней мере, почти невозможно солгать, сфальшивить. Втайне я надеюсь, что придёт время, когда люди научатся понимать друг друга без слов.
По отношению ко мне, Данусь, ты слишком доверяешь своему воображению. Я не чудовище, но наверняка не то, что ты обо мне думаешь, и уж точно не ангел. Было бы жаль, если бы ты не приняла моих предупреждений всерьёз. Из того, что ты, насколько мне известно, высоко ценишь в людях, я в себе не нахожу ничего. По утрам я не занимаюсь гимнастикой. При наличии повода не отказываюсь выпить и плотно закусить. Я не умею танцевать, дарить женщинам цветы. Предпочитаю хорошую русскую баньку всем политическим дискуссиям, вместе взятым. Не склонен к борьбе за «лучезарное будущее» и т.д. и т.п.
И я говорю тебе: пока не поздно, улыбнись своей фантазии, не уверяй себя в том, что со мной ты много потеряешь, и я вполне примирюсь с участием тех, кто постепенно стирается в памяти …
Но всю жизнь я буду признателен тебе за дни, проведённые с тобой, за искреннее твоё ко мне участие, за нашу дружбу.
Мир павшим.
_ _ _
7. 08. 1963г
Дана
Малгородок
Ну, здравствуй, не чудовище и не ангел!
Обходиться без слов! Да разве можно представить себе немую Землю? Землю без стихов, без песен, без сказок?
Поселись на необитаемом острове, воздвигни вокруг своего жилья стены, закрой наглухо ставнями окна – от чего ты не сможешь укрыться в этом оплоте одиночества? От тоски по слову – живой нити, связующей нас с людьми. Рука сама потянется к книжной полке.
Представь себе, что не было на Земле верных рыцарей Слова. Что Гомер, Блок, Лермонтов, Есенин унесли с собой открытые ими тайны красоты и печали мира. Что было бы с нами? Мы были бы нищими и копались бы в пыли будней, отыскивая зёрна истин, которые сегодня у нас в крови.
А твоё письмо! Если бы не оно, разве был бы напоен радостью воздух? Разве я чувствовала бы за спиной лёгкие сильные крылья?
Скажи, ты летаешь во сне? У меня это обычное дело. Я давно верю, что умею летать. И летала бы уже наяву. Но каждый раз в тот момент, когда остаётся только легонько оттолкнуться от земли, кто-нибудь обязательно всё испортит. Вот сегодня. Всё утро меня подмывало что-нибудь сотворить, и разговаривая в саду с мамой, я ни с того, ни с чего сделала переворот и чистенькое сальто. Без разбега и почти без напряжения. Ещё бы чуть-чуть, и я взлетела бы над садом. Но мама! Она посмотрела на меня с таким отчаянием! Она всплеснула руками и воскликнула:
– Господи! И когда ты, наконец, повзрослеешь?!
Девчонки в общежитии тоже нередко задавали мне этот вопрос. Интересно, что они имели в виду? Что в их понятии – повзрослеть? Избавиться от радости жизни? Перестать мечтать?
О да! Я фантазёрка! Но скажи, разве так не бывает на свете, что человек мечтает о чём-нибудь страстно и сосредоточенно, и мечта его сбывается? Кто-то кого-то очень ждёт, и кто-то к кому-то, наконец, приходит?
Кроме того, господин Скептик, иногда скачущий телёнком, но чаще рассуждающий слишком здраво, позвольте доложить Вам, что всё же по части фантазий вы перещеголяли меня. Чего стоит одна изящная теория, объясняющая, почему Вы не поцеловали меня в аэропорту. Какая прозорливость! Какая несравненная, неземная логика! Потерять, чтобы не разбить! Отдать, чтобы сохранить подольше!
Скажи, неужели ты действительно не знал, в кого был влюблён Реня все студенческие годы? На осенних фотовыставках нашего факультета всегда было несколько стендов, посвященных Ей. Она стоит у окна. Улыбается. Грустит. Задумалась. Плачет. Сдаёт экзамен. Когда в университетской газете появились Ренины стихи, ни для кого не было секретом, кому они посвящены. Как он любил её! И любит, наверное, до сих пор. Когда они были рядом, казалось, нет людей, в большей степени созданных друг для друга. Почему она его отвергла? Почему вышла замуж за обжору-хоккеиста? Вот драма сердца и загадка для ума. Но я в этой драме не играла главную роль.
Я была для Рени громоотводом. Он изливал передо мной душу и читал предназначенные Ей стихи. Нас часто видели вместе, и, наверное, это очень походило на роман. Он водил меня в театр, в филармонию, в тир. Даже на футбол т на заседание ЛИТО. Он достал мне велосипед, и мы ездили вдвоём за город. Зная моё пристрастие к цитрусовым, он тратил на них добрую половину своей стипендии. «Что-то запахло апельсинами, кажется, твой папаша идёт», – говорили мои девчонки. Реня из-за моего маленького роста и «пионерского» характера называл меня дочкой. Трудно сказать, чем бы закончилась наша апельсиновая дружба, если бы однажды на выставке Родена я не встретилась взглядом с тобой. Я сразу поняла тогда, что это неспроста, и меня наполнило предчувствие продолжения. Ты стал появляться на танцах. Ненадолго. Молча стоял у двери. Я не смотрела в твою сторону, но всегда безошибочно определяла твой приход. Исчезновение тоже. К тому времени, как ты заговорил со мной впервые, мне казалось, что мы знакомы сто тысяч лет. Я догадывалась, что любимое твоё занятие – бродить в раздумьях по набережной Вольной реки, что никакая пропаганда не в силах привить тебе любовь к утренней гимнастике и что мне надо привыкать обходиться без цветов. Только всё это, можешь себе представить, ничуточки меня не пугало. А сейчас я угадала в тебе то, что несравненно дороже спортивной подтянутости или изысканных манер и что ты не смог замаскировать отрезвляющими приёмчиками своего послания. Пока ты разглагольствовал о собственном эгоизме, выдержке и пренебрежении к словам, я по шаткой лесенке из корявых букв пробралась прямо к твоему сердцу и обнаружила в нём доброту и любовь к людям. Скажи, зачем ты прячешь эти сокровища так глубоко, в скорлупе скепсиса и недоверия к жизни? Ты всё равно не помещаешься в своём укрытии – хвостик торчит снаружи. Считай, что тебя застукали, и выбирайся поскорее на белый свет. Объясни мне себя. Расскажи, откуда эта нерешительность, эта непроглядная тьма. Расскажи мне всё. Я пойму.
Что касается твоих предупреждений, считай, что я приняла их совершенно всерьёз. Я не стану требовать от тебя букетов, в субботу сама буду отправлять тебя в баньку, а после – выдавать тебе ма-а-ленькую рюмочку напитка под названием горилка. На большее можешь не рассчитывать. Вот теперь и прикинь, кому из нас следует глубже задуматься, стоит ли продолжать общение.
Пока
Дорогу мечтателям!
_ _ _
21. 08. 1963г
Михаил
Пригород
Данусь!
Неделю таскал я в кармане твоё письмо, перечитывал его в метро, в электричках, на кафедре. Отвечать не решался, да и сейчас берусь за это дело со страхом – не знакомое мне до сих пор ощущение близости счастья борется во мне с опасением разочаровать тебя своими признаниями.
Ты просишь рассказать о себе. Ты ещё не знаешь, что неудачников и людей, много перенесших, не стоит расспрашивать об их прошлом. Но мне хочется отвечать на твои вопросы! Во-первых, я доверяю тебе безгранично. Это какая-то слепая, стихийная вера, возникшая чуть ли не с первых минут нашего знакомства. Во-вторых, честно говоря, мне давно уже хочется «выплакаться» – слишком невыносимо быть постоянно наедине со своими сокровенными мыслями. Возможно оттого, что я не пишу стихов и недостаточно общителен, чтобы использовать громоотводы, напряжение во мне иногда поднимается настолько, что я физически чувствую, как выгораю изнутри. Но «как сердцу высказать себя?» И будет ли тебе интересно? С чувством неуверенности и надежды начинаю я свою исповедь.
Что-то во мне ты и впрямь угадала, Данусь! Спасибо тебе! Но, пожалуй, самое главное ты видишь не таким, как оно есть. Наверно, я невольно сгустил краски, но, по крайней мере, ни о какой непроглядной тьме я не говорил и не следует присочинять. Я люблю жизнь. Люблю свет и тепло. Люблю птиц, грозу, розовые вечера. Люблю восход – он всегда бодрит, освежает, дарит надежду. Люблю слушать стариков – спокойных, примирённых с прошлым. Если продолжать список, вряд ли хватит бумаги.
Но люблю ли я людей? Если да, то, во всяком случае, не так, как думаешь об этом ты. Многие твердят о любви к людям, даже не задумываясь над этим. «Люблю» – и всё тут. Сегодня они любят, завтра ненавидят, послезавтра опять любят. Я не знаю, возможно ли здесь цельное последовательное чувство. В себе я не нахожу его, поэтому на словах отрёкся от этой любви. То есть я не мог убить её в себе целиком, просто она приняла другую форму. Любить абстрактно всё человечество, пожалуй, нехитрая штука. Гораздо труднее любить конкретных людей, у каждого из которых свои слабости, своя «философия», то есть мера вещей и понятий, в большинстве случаев не совпадающая с твоей собственной мерой, своя доля доброты…. К примеру, о своих товарищах по комнате я мог бы сказать много хорошего – отличные, в общем, ребята. Но всё же отдай я им свою душу, они растерзали бы её, не задумываясь. От непонимания. Ради развлечения. От природной жестокости, в конце концов. Зная это, я отгораживаюсь от них, замыкаюсь в себе, делаю себя, насколько это возможно, неуязвимым, и только в таком плане могу любить их – по-приятельски, не больше. В прочем, человек, Данусь, храбр только на словах. Вот я пишу, что делаю себя неуязвимым. Если бы это удавалось! Я знаю, как сделать, чтобы не было больно жить. Надо не принимать людей всерьёз. Какой это простой выход! И как трудно, почти невозможно им воспользоваться. То и дело возникает соблазн поверить, полюбить, понадеяться. Снова и снова мы обрекаем себя на боль, и она медленно разъедает нас, делая, в конце концов, неспособными к вере, любви и надежде.
Но что означает способность к любви? Что лежит в основе этого чувства, о котором мы столь часто и охотно толкуем? Мне кажется, из всех теорий, пытающихся объяснить феномен любви, ближе всего к истине теория человеческого эгоизма, любви к самому себе. В самом деле, в чьем сердце найдёшь ты подлинное бескорыстие? Разве что в сердце матери, да и то далеко не всегда. Сколько детей появляются на свет для того лишь, чтобы служить утешением матери, не говоря уже о диких плодах сладострастия. Возьми самое безобидное и, казалось бы, самое бескорыстное из проявлений любви – любовь к природе. Если ты говоришь, что любишь парк, ты ведь подразумеваешь, что тебе в нём хорошо. На лоне природы мы глубже понимаем и лучше чувствуем себя, нас она поит и кормит и даже создаёт иллюзию нашего всемогущества. Тут всё – эгоизм. И если сейчас мы спохватились и стали говорить о её охране, то лишь потому, что знаем: без неё – гибель. А отношения между мужчиной и женщиной! Вот двое. Они страстно любят друг друга. Но кто-то из них, допустим, он, охладел и покидает её. В эти минуты, забыв, что ещё вчера она так сильно его любила, она кричит: «Ты-эгоист! Ты-себялюбец! Ты во всём виноват!» А если изменила она, разве реакция будет иной? НО ведь если ты любишь не себя, а другого человека, разве ты не должен отпустить его в тот момент, когда ему становится с тобой скучно или плохо?
Я не решусь утверждать, что бескорыстие невозможно. Но это редкие, исключительные случаи. В жизни, честно говоря, я такого не видел, только читал об этом в книгах. И во мне бескорыстия, пожалуй, не больше, чем в других. Я был уверен, что люблю людей. Я продолжал их любить, когда они причиняли мне боль. Но когда раны стали нестерпимы, я готов был их возненавидеть. Правда, этого не случилось. В себе я не нахожу злобы. Но любовь моя, как я уже говорил, приняла совсем другую форму. Это не цельное безоглядное чувство, а пёстрая смесь из презрения, жалости, нежности, великодушия, иронии, отчаяния – оттенков, меняющихся в зависимости от того, каким боком ко мне поворачивается жизнь.
Каких людей мы любим, Данусь? Каких выбираем в друзья? Тех, кто понимает нас, кто нам сочувствует. Мы сочувствуем им тоже и пока уверены в их привязанности, легко прощаем им их слабости и недостатки. Но стоит им покинуть нас, мы готовы обвинить их во всех смертных грехах. Приходится признать, что наши разочарования так же непоследовательны, как и наши привязанности, и что в основе их лежит любовь к самому себе.
В этом принципе любви к самому себе всё хорошо, если самому быть человеком. Но именно в этом человеке заключена главная трудность. Очень много тумана, разных мелочей, которые не должны пострадать. Много противоречий, которые трудно или невозможно разрешить. Тебе, по-видимому, легче в этом отношении, потому что, насколько я понял, ты витаешь в мире фантазий и идей, и мелочи легко просеиваются сквозь сетку твоих логических построений. Между тем, самые замысловатые идеи и фантазии легче укладываются в схемы и выстраиваются в закономерности, чем самые простые бесхитростные чувства, которые, тем не менее, составляют, на мой взгляд, основу жизни. Но их, этих чувств, такая мешанина, и бывают они столь контрастны, что порой исключают друг друга, а иногда столь нелепы, что никак не согласуются с устремлениями разума … Право, не знаю, может ли кто-нибудь с уверенностью сказать, что в нас лишнее, а без чего обойтись невозможно.
Впрочем, глядя на скульптуру Родена, я иногда проникаюсь верой. Что можно найти золотую середину, где сливаются душа и тело, найти тот тонкий луч, по которому, легко балансируя, можно пройти по жизни, не содрогаясь от боли и не причиняя боли другим. Но, должен признаться, я даже не представляю, где вести поиски.
Вот видишь, сколько я нагородил вокруг того, что казалось тебе очевидным. Нет ясности в душе моей, Данусь! Зато в избытке есть другое, что уловила ты своим чутким сердцем – жажда взаимопонимания и тепла.
Иногда, оглядываясь назад, я удивляюсь, как мало, в сущности, из прожитого отстаивается в нашем сердце. Каких-нибудь два-три события резкими штрихами рисуют нашу судьбу, определяют наши характеры. И даже не сами события и не память о них, а оставленные ими следы.
Из своего безотцовского детства я вынес ощущение несбыточности желаний, насмешливости судьбы и саднящее, как рана, непреодолимое, как голод у переболевшего дистрофией, чувство одиночества. В годы отрочества и юности это чувство почти растворялось в надежде, что вот-вот, за следующим поворотом, на следующем витке судьбы, я найду нечто, против чего не будет ощетиниваться всё моё существо, что сделает мою жизнь ценной и необходимой в глазах других. Но всегда я оказывался обманут и, в конце концов, пришёл к твердому убеждению, что каждый из нас ужасающе одинок на земле, независимо от того, задумываемся мы об этом или нет. Эта истина, увы, непреложна, Данусь. Человек всегда одинок, как бы он ни открывал душу другому и как бы искренне ни пытался другой в неё проникнуть. В определённой обстановке удаётся слиться на миг, а затем всё становится на свои места. Дружба, любовь – глоток воды в пустыне. Лучше знать об этом, чтобы избавить себя от лишних страданий. В школьные годы внезапное отдаление, отчуждение моего единственного друга надолго обескровило меня, хотя, в сущности, я до сих пор в долгу перед судьбой за три года нашего общения. Мой друг, в общем-то, уже вполне взрослый, превратил меня из закомплексованного сопляка в сознающего свою глубину, уважающего себя человека. Кроме того, именно благодаря ему мне было куда уходить. Он подарил мне Кента, надолго ставшего моей опорой, моим кумиром. Даже когда я поостыл, избавившись от юношеского пламенного преклонения, главное, что я увидел в полотнах и книгах, во всей могучей личности этого удивительно цельного человека, осталось со мной. В той мере, в какой это было возможно, я впитал стремление выразить себя во всей полноте, без ужимок и лицедейства в угоду обстоятельствам и молве, не сковывая себя рамками ложных стандартов. Выразить себя со всем напряжением сил – как мужчина, как пловец, который бросается в бурный поток, чтобы либо выплыть, либо погибнуть.
У меня нет, Данусь, какого-нибудь определённого дара, таланта, который хотя бы обозначил направление пути, поэтому мне пришлось ориентироваться на свой характер. Главная моя черта – склонность к анализу и самоанализу, и я решил – это была моя сверхзадача – столкнуть себя в качестве орудия самопознания с жизнью. Бросив после третьего курса Политех, куда я поступил по настоянию матери, и, избежав по зрению армии, я решил следовать воздвигнутым мною принципам и ринулся в Сибирь. Контурными линиями я обозначил вехи своей будущей биографии: два десятилетия, насыщенных пёстрыми событиями, а затем подведение итогов, возможно, в форме книги, подобной урокам французских моралистов. Всё выглядело очень заманчиво, и я не понимал, отчего так убивается моя мать.
С бесстрашием неведения спешил я навстречу безжалостной громаде жизни. Бросил в рюкзак пару любимых книг, взяв ружьецо для охоты, и с этим нехитрым скарбом колесил по России без малого четыре года. Во мне было много настойчивости и физической силы, и если что-нибудь опрокидывало навзничь мои надежды, я упрямо шёл дальше. Я работал шофёром, лесорубом, плотником, ходил со старательской артелью, с геологами, плавал с рыбаками …
Я не жалею о тех годах. Когда с тебя сдирают кожу иллюзий, нельзя сказать, что это приятная процедура, но, по крайней мере, потом обрастаешь спасительной «скорлупой скепсиса и недоверия».
Больно было видеть разоряемую землю и настойчиво отлучаемый от правды, сбитый с толку словоблудием и ложной патетикой народ. Но поразило меня, признаюсь, другое: то, что в людях я ничего не нашёл нового, будто они сошли со страниц Еврипида, Бомарше, Гоголя или Бальзака. Если убрать колорит и каноны, присущие тому или иному времени, остаётся та же канва, та же суть.
Общался я с людьми, пожалуй, всех слоёв общества, за исключением самых высоких, к чему, впрочем, и не стремился. Рискуя быть не понятым, даже обруганным, всё же скажу, что самое большое удовольствие получал от общения с бродягами. Они, по крайней мере, лишены предрассудков. Наибольшее отвращение, даже омерзение внушали мне номенклатурные деятели всех масштабов. Между двумя этими категориями – бродягами и ура-патриотами, между минимумом и максимумом фальши – всякая публика. И славная, и скверная, и безликая, не оставившая в памяти и следа. Общая же схема отношений стара, как мир: сильный попирает слабого, наглый – робкого, хитрец старается обвести вокруг пальца простака, на каждую ложку ума по-прежнему приходится бочка самой, что ни на есть, беспросветной глупости, а подлинная честность одинока и смешна. Я улыбнулся невольно, прочитав твои слова об истинах, которые у нас в крови. Люди, Данусь, те же, что были на заре цивилизации. Такие же владеют нами страсти. Такие же совершаем мы ошибки. Тысячелетия опыта стоят за нашей спиной бесполезным грузом.
Ты можешь возражать мне, Данусь, но станешь ли ты спорить с Монтенем? Открываю наугад:
Ухищрения ли человеческого ума или природа заставила нас жить с оглядкой на других, но это приносит нам больше зла, чем добра … Нас не столько заботит, какова наша настоящая сущность, что мы такое в действительности, сколько то, какова эта сущность в глазах окружающих…
Причины и пружины наших даже самых жестоких волнений смехотворно ничтожны…
…но нам, почему я и сам не знаю, свойственна двойственность, и отсюда проистекает, что мы верим тому, чему вовсе не верим, и не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем…
Монтень
Не о нас ли это сказано, Данусь? А между тем, Монтень учился у Плутарха и Сенеки, Лабрюйер не писал бы «характеры», не будь «характеров» Теофраста. В персонажах древнегреческой драматургии мы узнаём самих себя, а Достоевский для нас скорее будущее, чем прошлое.
Мы говорим: меняются времена. Но это меняются лишь его внешние приметы. Меняются формы проявления добра и зла, но общее их соотношение – не остаётся ли оно более или менее постоянным? Оглянись на прошлое. Рабство было с успехом заменено инквизицией и крестовыми походами. Когда не стало страшных эпидемий, появился динамит. Злодеяния фашизма перекрыли все достижения человечества. А какие запасы зла таятся в недрах нашего времени, мы можем только догадываться.
Мы так гордимся собой – тем, что оделись в синтетику и нашпиговали атмосферу спутниками, что отреклись от бога и что земля не кажется нам таинственной и необъятной. Но разве мы стали другими – более мудрыми или менее беспомощными? Социальный прогресс стремителен, но почему же так больно жить? Что давит нас с такой неослабевающей силой? Почему люди так жестоки по отношению к природе, к животным, друг к другу? Ты видела, как мальчишки бросают кошек в кипящую смолу? Ты ощущала горечь оскорблений, предательств, незаслуженных обид? Если нет, то тебе просто везло.
Есть много вопросов, Данусь, на которые невозможно ответить, если считать, что люди – совсем иные, чем те, что жили в прежние времена. Приходится признать, что жизнь – тот же океан, сотрясаемый бурями и ураганами, но, в сущности, неизменный.
Легко ли жить с сознанием тщетности своих усилий? Конечно, это мука. Но и облегчение, признаюсь, немалое. Вверить судьбу времени, встречая события и неожиданности на своём пути, как старых знакомых – вот и вся премудрость, которую я для себя вывел. Не бывает всё сплошь печальным. Чёрное всегда перемежается с белым. Где-то сердце оттает от хорошей песни, когда-то выпадает прекрасный солнечный день, неожиданно столкнёшься с благородством, с чистотой. Всё не так уж плохо, Данусь. Самое главное – быть честным с собой и с жизнью, остальное придёт само.
Выражение «строить свою судьбу» – не более чем гипербола. Удача, увы, не зависит ни от степени постижения мира, ни от личных достоинств и добродетелей. Ты можешь твёрдо усвоить правила уличного движения, а какой-нибудь пьяный дурак собьет тебя в самом неожиданном месте. И ещё: не следует слишком сильно стремиться к чему-либо. Судьба наказывает за такие вещи, подсовывая вовсе не то, что рисовало нам наше разгорячённое воображение.
Придя к таким выводам, я решил больше «не куролесить», как говорила моя мама, и снова пошёл учиться. Ребята, с которыми я подружился во время своей сибирской одиссеи, затащили меня в геофизику, и этим обстоятельством я доволен. Во-первых, я питаю пристрастие к тому, что ты называешь «железяками», во-вторых, в нашей профессии всегда к чему-то стремишься: зимой – в поле, летом – домой. А перемена мест и напряжённая работа избавляют от скуки.
Ну вот, Данусь, рассказал я тебе о своей, с позволения сказать, философии, о своих плутаниях. Что ещё? О чём умолчал? О любви?
Тут всё у меня было бестолково и стихийно, как, впрочем, и должно было быть. Самым сильным было последнее чувство. Объяснить его, разумеется, невозможно. Я отчётливо сознавал, что она – просто кукла, очень красивая, но без характера и мысли. И всё-таки она была для меня дороже всего на свете. Я готов был слепо повиноваться ей, выполнять любую её прихоть. Порой я сам поражался, глядя на себя: неужто можно так сильно любить человека? Да, да, понимаю, и тогда понимал, что нельзя позволять страсти так овладевать собой, нельзя делаться её рабом. Но чего стоят эти сытые бюргерские рассуждения, когда при одной мысли о ней кружится голова и покачивается под ногами земля? Год назад, когда я был в поле, она вышла замуж. Не знаю, может быть, она была права, что так поступила. Её избранник в самом деле более соответствует эталону надёжного семьянина – спокойный, деловой, без всяких рефлексий. Я не корил её. Я вообще ничего ей не сказал. Но душа моя после этой потери стала бесчувственной, словно окаменела.
Нет, я не возненавидел мир за то, что оказался не таким, каким мне хотелось его видеть. Я не проклял судьбу, считая себя самым горьким из неудачников. Я старался не пропитываться злобой и не захлебнуться жалостью к себе. Но я утратил энтузиазм в своих желаниях и принципах. Я стал почти равнодушен, Данусь. Наверное, «повзрослел». Горько признаваться в этом, но меньше всего мне хотелось бы вводить тебя в заблуждение.
Итак, я раскрыл свои карты, Данусь. Перед тобой я таков, как есть – не лучше и не хуже. Бедняк из бедняков. Из моего жизнь почти ничего не оставила.
Всё, Данусь. Конечная остановка. Здесь мне выходить. Я почти уверен, что исповедь моя тебя оттолкнёт. Да и странно было бы, если бы случилось иначе. Что я могу предложить тебе? Чем могу утешить?
И всё-таки, – какова логика, Данусь? – я не могу сказать, что во мне нет надежды. На что? На то, что ты – это выход, это жизнь. Прости мне мою слабость. Есть в тебе что-то такое, чему ум мой сопротивляется, а душа жаждет поверить.
Только ты не жалей меня. Вот этого мне бы совсем не хотелось.
Будь уверена – я выживу. И всегда буду считать, что дружба наша – самый солнечный, самый светлый отрезок моего пути.
Пусть жизнь щадит тебя, Данусь!
Попутного ветра!
С глубоким и искренним уважением
Михаил Глыба
_ _ _
28. 08. 1963г
Дана
Малгородок
Глупый ты мой медведь!
Страх разочаровать, неуверенность и надежда, готовность утратить …
Да я люблю тебя, слышишь? Люблю!



