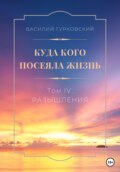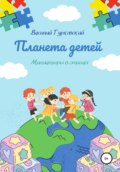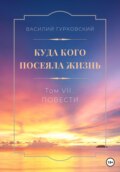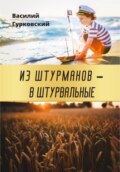Василий Гурковский
Чтобы что-то вспомнить – надо это пройти
В принципе, «долг платежом красен». Где-то перед утром, часа в четыре, когда от бессонницы голова раскалывается, смотрю, спят мои «коллеги». Один вол лежит, другой стоит, а братья (а они таки были братьями) спят в повозке на зерне. Я остановился, с помощью монтировки с трудом поднял лежащего вола и заставил их идти вперед. Метров через пятьсот дорога, огибая поле, выходила прямо к степной плотине, с помощью которой сберегалась до осени талая вода. Обычно возле плотин делались стоянки для скота. Волы на плотину не повернули, они просто вошли вместе с повозкой и зерном в воду, остановились, попили и остались так стоять до утра.
Утром один из ездовых очнулся, сонный сполз с повозки и, очутившись по одно место в воде, с перепугу заорал не своим голосом. Второй от этого рева вскочил и вывалился на другую сторону. Упал плашмя в воду и начал орать, что, мол, тонет, так как не умеет плавать. Ну и так далее. Все это выяснилось гораздо позже из их же рассказов. А в то утро и до самого обеда, я был не рад, что это сделал, так как мне пришлось отдуваться за все и обеспечить работу всех трех агрегатов. Хорошо, трактористы выделили по одному сеяльщику, чтобы быстрее грузить зерно, и мы вышли из этого положения.
Никто не знал, куда подевалась повозка с братьями. А часов в восемь, мы как раз заканчивали пересменку, в приятных апрельских лучах восходящего солнца, можно было наблюдать если не идилличе-скую, то уж очень милую для моего сердца картину: из-за бугра выбежала пара огромных волов в ярме, без повозки, а за ними бежали и лупили их, чем попало, братья-семеновозы. Они гнали их еще километров семь до колхозного двора и часа через два вернулись, но уже с другими волами. Всю вину за нарушение рабочего цикла они возложили на волов и рассказали, что и как получилось (по их версии). Я тоже выразил сожаление по поводу случившегося, а они поблагодарили меня за то, что выручил их с подвозкой зерна. На этом данный инцидент был исчерпан.
Но жизнь в бригаде продолжалась. После окончания основной посевной кампании, по ночам уже не работали. Вечером все уезжали домой, оставались только мы с дедом Иваном. В бригаде мне нравилось. Это тебе не квартира у Байеров. Постоянно свежие газеты, батарейное радио, приличное питание, которое для нас с дедом было усиленным, так как лучшее из того, что оставалось за день, кухарка, племянница деда, оставляла нам на ночь. После первого месяца изнурительной работы, с переходом на выполнение отдельных поручений бригадира, я чувствовал себя прекрасно. Не омрачало мое состояние и косвенное напоминание об уничтоженном окороке – в бригаде появился новый водовоз, и им оказался небезызвестный дядя Вася (так звали по-русски моего прежнего хозяина Байера). «Раз он молчит, – думал я, – значит до «моего» окорока очередь не дошла. Ну и хорошо».
Сторож, дед Синица, потомственный оренбургский казак, принимал участие еще в русско-японской войне 1904 года, затем в – первой мировой и гражданской войнах. Перед глазами у него прошло очень многое. Конечно, он, рядовой казак, воспринимал и передавал все события с точки зрения своего уровня, но мне было интересно его слушать по вечерам, когда мы оставались одни. Иногда он повторялся, но я его не перебивал, а старался слушать, даже думая о своем. С ним мы ставили и проверяли капканы на сурков и лисиц, дискутировали по поводу отдельных газетных статей, которые я ему читал. В общем, весь май жили, как дед с внуком. Даже первую в своей жизни оплеуху я получил именно от деда Ивана.
Проверяли мы как-то капканы. Хитрые сурки не попадались, а в одном оказался еще живой хорек. Ему прижало задние лапы, и когда дед попытался разжать капкан, зверек ухватил его за средний палец. Дед взвыл от боли и закричал: «Робы шо-ныбудь, бо вже сылы нэма тэрпить». Я, долго не думая, достал перочинный нож и резанул по челюсти хорька с обеих сторон, снял его с пальца и тут же получил от деда оплеуху за то, что испортил шкурку. Я и не мог по-другому, хорь извивался, как змея, ну и напоролся боком на нож.
В общем, жизнь у меня вроде бы начала налаживаться. Конечно, в бригаде было скучновато, но я с удовольствием работал, много читал – всю поступающую к нам прессу до последней строчки, слушал радио, радовался за наш кишиневский «Буревестник», который уверенно играл в классе «Б» и даже в тот год стал там победителем. Все вроде было нормально, но однажды, где-то к середине мая, бригадир говорит: «Цепляй сегодня плуг двухкорпусной и пойдешь в распоряжение полевого бригадира, ён хоча картошку коло бригады посадить, для нас же».
Картошку для нужд бригады решили посадить на пяти гектарах рядом с полевым станом. Привезли целую бригаду женщин-чеченок разных возрастов и машину картофеля на посадку. Женщины перебирали картофель, который был прямо из подвала, да еще гнилой наполовину. Крупные картофелины по приказу полевого бригадира разрезали на несколько частей – «на глазок», а клубни помельче – сажали после каждого моего прохода двухкорпусным плугом. Середина мая, тепло, рядом с пашней по целине море разноцветных тюльпанов, работа несложная, что еще надо молодому трактористу! Но смотрю, что-то с некоторыми женщинами странное происходит – сажают, сажают, а потом подбирают ведро самого крупного картофеля, высыпают в борозду и втыкают какую-то палочку. Странная технология посадки, ну, бригадир-то рядом, может, так и положено, по наивности думал я. На том и остановились мои размышления. К концу дня посадка была закончена.
Вечером того же дня я остался в бригаде один, дед Иван что-то занемог и уехал в село, а больше никто и никогда не оставался на ночь в бригаде. Тишина, техника стоит, тепло, при свете керосинового фонаря лежу в будке – читаю.
Только стемнело, слышу – мотоцикл где-то гудит рядом. Полевой стан был довольно далеко от автомобильной трассы, поэтому в бригаду мог заехать или заблудившийся, или кто-то специально. Вышел из будки. Мотоцикл подъехал к картофельному полю, недалеко от полевого стана и остановился. По звуку это был ИЖ-49, один из первых послевоенных советских мотоциклов, довольно простой, но мощный и удобный для пользования. Звук его двигателя с другим не перепу-таешь. На таком мотоцикле ездил на работу наш Ахмед, вызывая у меня хорошую зависть. С мотоцикла слезли двое мужчин и направились к картофельному полю. Я не мог сперва понять, что они хотят делать, но через несколько минут все стало ясно. Стало ясно, зачем женщины днем высыпали в борозду картошку и ставили палочки, как бы отмечая место.
Два мотоциклиста, видимо хорошо зная, где, что и как;, с помощью электрических фонариков быстро находили палочки-знаки, выгребали картофель и буквально минут за десять, набрав пару мешков, отъехали. При развороте луч света от мотоциклетной фары осветил меня, стоящего у входа в будку, на мгновение на мне остановился, и мотоцикл двинулся дальше. Через время «сборщики» подъехали еще раз, а потом еще, но уже с другой стороны поля. Я не спал, потому что обещал деду Ивану подменить его и охранять бригадное имущество, ведь на полевом стане много чего находилось. Охрана полей в мою «компетенцию» не входила. Да и какой я был охранник! Такой же, как и семидесятилетний дед Иван. Раньше охранников ставили не для охраны, а чтобы было в случае чего, на кого вину свалить.
Прошло недели две. На картофельном поле появились всходы. Так как поле было рядом с полевым станом, то все, в том числе и бригадиры, колхозный и от МТС, Рубцов, поняли, что картофеля нам не видать. Огромные черные проплешины зияли по всему полю, а там, где картофель взошел, торчали хилые листочки.
Рубцов подождал еще дня два, а потом на очередной утренней летучке с матом напустился на меня: «Ты, профессор, твою мать, что ты тут насажал?» Он понимал, что я тут не при чем, но на ком-то надо было пар выпустить, и он добавил: «Цепляй плуг, быстренько перепаши этот кусок, а потом возьмешь Ахмедову сеялку, и с Асланом засейте пшеницей. А ты на завтра семян привези, там ешо с полмашины осталось на складе», – обратился он уже к полевому бригади-ру. «Та я казав агроному, шо ця картопля нэ зийдэ, а вин – ничого, мол, пойдет. Вот и пишла!» – сокрушался полевой бригадир.
Весь этот разговор слышали члены бригады. Я выполнил приказ Рубцова, и на второй день поле было засеяно пшеницей. На том, как говорится, официальная часть была закончена. Я не знал, кто приезжал за картофелем ночью, только догадывался. Но дня через два, к вечеру, в бригаду на мотоцикле приехал Ахмед. «Садысь», – показал он мне на заднее сидение. «Куда?» «Садысь, тебе говорят!» В бригаде больше никого не было, спорить с Ахмедом, зная коекакие горские обычаи, было бесполезно, и я поехал с ним в село. Как правило, выселенные с Кавказа чеченцы, в большинстве мест их проживания, в Казахстане и Сибири, жили обособленно. В том же селе Джусалы, о котором идет речь, за пересыхающей речкой была целая чеченская улица с двумя рядами бескрышных мазанок. Там жили только чеченцы. Ахмед привез меня к себе домой, усадил на расстеленную на полу кошму и вышел. В его отсутствие я рассматривал довольно большую светлую комнату. Меня поразило в ней обилие часов. Двое, разных, видимо старинных, висели на стенах, одни, настольные, стояли на окне, другие – на столе. Я сидел на кошме возле спинки большой кровати с панцирной сеткой. На спинке этой кровати, прямо у меня за спиной, висели на желтой цепочке красивые карманные часы. Я взялся за них, чтобы повернуть к свету и лучше рассмотреть. В это время в комнату вошел с деревянным подносом Ахмед. На подносе были вареное мясо, хлеб, соль и бутылка водки с одной рюмкой. «Что, нравытся?» – спросил Ахмед, показывая на часы. «Я просто хотел посмотреть», – смутился я. «Раз нравытся – бэри», – прогремел Ахмед, снимая часы с кровати. «Да не надо, зачем?» – пытался протестовать я. «Бэри, тебе говорят» – опять пробасил хозяин и положил их рядом со мной. Налил мне рюмку водки, сам не стал ни пить, ни есть и предложил покушать, как он выразился, «очень хорошее мясо». Мясо было конское, холодное, но кушать было можно. Я выпил рюмку, немного поел и поблагодарил. «Еще пить будэшь?» – спросил Ахмед. Я сказал, что нет, и кушать тоже больше не хочу. «Тогда раздевайся и ложись на кровать, здесь спать будэшь» – приказал Ахмед и унес поднос.
Ну, думаю, только этого мне не хватало. Никто не знает, где я и как меня искать. Да и кому я в принципе нужен. Зашел Ахмед: «Ты чего не раздеваешься?» «Мне надо в бригаду, – сказал я, ни на что не надеясь, – я деду Ивану слово дал, в бригаде же никого нет». Ахмед был из понятливых. «Тогда поехали», – бросил он мне. Пока доехали к полевому стану, совсем стемнело. Ахмед высадил меня и уехал, ни слова не сказав больше, а я обошел полевой стан, зашел в будку и до утра читал книжку, так как заснуть не мог – в голову лезли всякие мысли. Немного жалко было подаренных Ахмедом часов, которые так на кошме и остались. Забыл я их просто.
Через несколько дней, вечером Ахмед приехал опять, уже вдвоем с братом. «Василь, – медленно проговорил Ахмед, – дай мне свой трактор, хотим съездить на нем на 305-й разъезд, дэло есть». «Да вон он стоит вместе с повозкой – я как раз сегодня перетяжку сделал, заводи и езжай», – говорю.
Они уехали, а я влез на крышу будки, забросил туда постель и устроился на ночлег. Там одному безопасней, и сверху все видно. Рядом со мной огромный гаечный тракторный ключ, как оружие обороны, так что можно быть спокойным.
ДОЛГО не спал, уже не от беспокойства, а от интереса: дело в том, что назавтра вызывали в МТС. По рации передали, что пришла партия самоходных комбайнов, сажать на них особо некого, с людьми в то время было и так не густо вообще, а с комбайнерами тем более. Диспетчер МТС сказал по рации, что приказом я перевожусь во 1-ю бригаду колхоза «Красное поле», вместе со мной туда направляют новый самоходный комбайн, так как там ни одного такого нет и даже прокосы делают сенокосилками. А так как до уборки осталось меньше двух месяцев, то я буду пока работать на других работах и одновременно готовить к уборке комбайн. Он хоть и с завода, но работы с ним еще много.
Лежу и думаю: «Вот три с лишнем месяца прожил в этом колхозе, уже привык… Даже к этой груде черного металла, моему мучителю-трактору и то привык. А дед Иван, как же он без меня теперь будет? Мы с ним, как родные, дед с внуком стали». Он напоминал мне чем-то моего деда Гаврю, оставшегося в Слободзее. Такой же степенный, неторопливый, ответственный и вообще хороший.
Слегка попереживал за то, что отдал трактор Ахмеду на ночь, ведь я еще не сдал его по акту. Ну, Ахмед парень серьезный, – подумал я, засыпая. Проснулся от выпавшей перед восходом солнца росы. Первым делом – где трактор? Стоит он, миленький, на своем месте, вместе с повозкой, значит, все нормально.
Утром я передал помощнику бригадира трактор, поблагодарил всех за помощь, так как каждый из трактористов, да и бригадир, никогда от меня не отворачивались, кто крутнет, кто толкнет, кто покажет, кто подскажет, кто пошутит или в чем-то поддержит. Плакала, глядя на мой узелок с вещами (а все мое было при мне) пожилая повариха. Слава Богу, что не было деда Ивана, я не знаю, как бы мы с ним расставались. Перед самым моим уходом на трассу подошел помощник бригадира. Там, говорит, в повозке книга лежала, наверное, твоя, забери. Книга была библиотечная, из МТС, толстая такая, «Фрегат «Паллада». Я ее понемногу читал месяца три. Сунул книгу в сумку, а сам думаю: «Как же книга в повозке оказалась, ведь Ахмед брал трактор вместе с повозкой, а книга была в будке?».
Еще больше я удивился, когда уже в общежитии МТС, сдавая книгу в библиотеку, чтобы не тащить с собой в другое село, машинально полистал ее (нет ли там старых писем) и обнаружил в середине аккуратно сложенную большую еще 50-х годов, сторублевку…
Года через два, когда чеченцам разрешили выезд на Кавказ, я встретил на вокзале в Орске младшего брата Ахмеда, он с семьей уезжал в Чечню. Разговорились, Ахмед, оказывается, со стариками уехал раньше, все чеченцы до единого из Джусалы выехали. И брат разоткровенничался. Когда брали у меня трактор, вчетвером действительно ездили на 305-й разъезд. Из Орска на Кандагач шла одна колея, и поезда разъезжались только на таких специальных «разъездах». Так вот, за 20 минут, пока поезд стоял в ожидании встречного, они успели снять с нового комбайна «С-6» двигатель (хороший был двигатель, с приводным шкивом, хоть воду качай, хоть пилораму включай или еще что-то подсоединяй и работай). До утра эта четверка успела продать двигатель одному из колхозов соседнего района за 2000 рублей, а к утру трактор вернулся на место. Скорее всего, вложенная в книгу сторублевка была моей «долей».
Во всей этой обычной жизненной истории было еще и продолжение.
В 1967 году, райцентр нашего Ленинского тогда района, перенесли в поселок Батамшинский. В силу необходимости, я, уже главный экономист и парторг колхоза, был вынужден ездить туда очень часто. И каждый раз мой путь пролегал через село Джусалы. Оно как раз стояло между селом, где я жил, и райцентром. И всякий раз я проезжал мимо дома тех Байеров, где квартировал много лет назад, в период моих первых самостоятельных рабочих шагов. И каждый раз меня мучила мысль о злосчастном окороке, уничтоженном по нужде в то далекое время.
Как-то я все-таки решился к ним заехать. Хозяина не было дома. Поседевшей хозяйке я почти полчаса объяснял, кто я такой, пока она с трудом меня вспомнила, как будто у них были сотни квартирантов. Я понял, что заводить разговор с такой «памятливой» хозяйкой о случае многолетней давности – бесполезно. Она не пригласила меня в дом, и я не стал больше задерживаться. Правда, через некоторое время, в случайной беседе с племянником моих Байеров, Вильгельмом, который работал агрономом в одном из колхозов нашего района, мы заговорили о его родне из села Джусалы. Я спросил, не слышал ли он что-либо о пропавшем окороке, может, какой-то разговор был. Вильгельм сказал, что слышал о чем-то подобном много лет назад. У дяди крысы или хорьки полностью съели один окорок. Только шкура и кость остались. (Наверное, мои палочки-распорки к осе
ни выпали при сжатии кожи). У меня отлегло от сердца. Значит, на мне обвинение не висит. Ну, и ладно. Может, это и было справедливым завершением того мелкого случая.
Водка
Это даже не слово – название, не просто понятие, это глыба какая-то раздавливающая род человеческий, сшибающая с ног, лишающая многих разума, это источник многих бед и в то же время зависимо-привлекательная влага, способная согреть и возбудить, собраться и объединиться, забыться и отключиться. И все это она – водка. Наша русская водка. Слово это без перевода знают во всех странах мира, и ассоциируется она тоже везде с именем Россия. Ну что тут поделаешь, такие уж мы удачливые в этом деле. И никакие там шнапсы, виски и джины, рисовые, бамбуковые и иже с ними «водки», не идут ни в какое сравнение с нашей водкой, так как они годятся в лучшем случае на полоскание горла (не нашего) или ступней ног.
Должен поделиться многолетними наблюдениями и собственными выводами – пока даже в России была одна водка (максимум две – одна почище), то и была водка. Как появились многие десятки видов, водки настоящей не стало. Не стало потому, что государство, явно не бесплатно, отдало свою монополию на производство водки в частные руки, в большинстве своем, руки мошенников и фальсификаторов. И ему, государству, если мы хотим иметь настоящее государство, эту монополию надо будет вернуть себе обратно. Не придумывать идиотские «сухие законы», а делать хорошую водку, но без посредников. Если уж есть в этом бизнесе прибыль, то пусть идет в наш общий карман. Справедливее будет – все пьем, а потом тоже все накоплениями и пользуемся. А то, как лечить последствия водки – так государству, а как барыши иметь – так частному водочнику.
Ну, это тема для высоких инстанций. В нашей стране, которую считают пропитой насквозь, где люди пьют во много раз чаще от горя, безысходности и невостребованности, есть что рассказать, связанное с водкой. Перестанут пить – вспомнить будет нечего, да передать потомкам. Недавно два мужика стоят в баре, пьют, один другому говорит: «Слышал, опять водка подорожает», второй отвечает: «Да, нам-то что, мы уже попили, детей жалко!» Не пугает нас ни цена, ни отрава – все равно, живешь – пить хочется, выпьешь – жить хочется!»
Покажу для истории, одно невеселое фото (случай) из ащелисайской, жизни, прошлых лет, связанный с этой темой – Водка.
31 декабря 1957 года. Предновогодняя ночь. Все общественное кругом закрыто. Открыта только наша сельская столовая. Собственно, кухня не работает, открыт только буфет, но там брать нечего. Все помещение столовой забито людьми. Люди эти – мужчины нашего села Григорьевка. Почти все мужское население села, без детей до 14 лет и стариков старше семидесяти.
В столовой негде повернуться, на улице страшный буран. А в селе нет водки. Нет водки абсолютно, и уже неделю. Да и вина тоже. Хотя кто там в наших краях, вино будет пить, под Новый Год? больные какие-нибудь, но и вина нет. Нет в магазинах даже никакого одеколона. В общем, Новый Год, а мужикам, да и всему сельскому люду, хоть ложись и помирай или переноси праздник. Буран бушевал уже несколько дней, люди никуда не выезжали, никаких запасов питья не делали. Кто думал, что к Новому Году такая беда случится? Утром по селу прошел слух, что на станцию Ашелисайская (7 км) пришел вагон водки, и туда выехала сельповская машина. Эта радостная весть и заставила мужчин села собраться в столовую, после работы, часам к пяти вечера. Столовая вообще-то, работала до восьми.
За первые три часа посетителями было все выедено и выпито, делать-то нечего – на улице темно и страшный буран. Обычный и привычный предновогодний буран 31 декабря. Ежегодно по району в этот день замерзают в степи десятки человек, в основном молодые люди, школьники, студенты, которые из городов по железной дороге, пересекающей район, приезжают, а потом пешком пытаются к Новому Году попасть домой в села, а попадают совсем в другое место.
Водопровода в столовой тогда еще не было. Возбужденные ожиданием посетители заказывали чай, кофе, кисели всякие, пока не выпили весь запас воды на завтрашний день, кастрюлю такую четырех ведерную. Все буквально съели, что было на кухне. Потом кухня закрылась, ничего съестного не осталось. Внимание перешло на буфет. Были выпиты все соки в больших трехлитровых банках независимо от содержимого, даже соки детского питания в маленьких банках, пылившиеся на полках, наверное, со времен освоения целины. Буфетчица, она же заведующая столовой, не могла уйти не только потому, что была солидарна с наполнившими помещение столовой мужиками, она тоже ждала машину с водкой, могла бы взять сразу себе в столовую, может, даже всю машину. Изможденные ожиданием мужики, во-первых, обязательно выпили бы в столовой на розлив, а во-вторых, дали бы ей выручку за месяц вперед. Водка в буфете стоила дороже, да кто бы смотрел в тот день и в то время на цену!
А время шло, ползли какие-то слухи и новости, но машины не было. Никто не расходился. Так как в столовой уже ничего съедобного, кроме буфетчицы, не осталось, а от курева, пара от мокрой одежды и всего сопутствующего в такой обстановке, стало трудно дышать, начали на электроплитке в кастрюле растапливать снег и пить талую воду, потому что обстановка стала невыносимой. Уже девять, десять, уже одиннадцать часов, буран ревет, машины с водкой нет, а дома у мужиков стынут накрытые столы, а семьи и гости тоже в неведении, ждут. И нет ни у кого мобильного телефона (горькая шутка). Дома у мужиков уже не знают, что и думать – а может, взял водку, да напился и упал где-нибудь! Думай что хочешь. А в 12 часов ночи свет потушат, хотя вроде бы обещали дать Новый год встретить и на час продлить освещение. А в столовой напряженно ждали, это надо пройти, чтобы понять, как тогда, на каждый стук, на каждого вновь входящего, устремлялись сотни горящих глаз и тут же разочарованно затухали.
И наконец, где-то в половине двенадцатого в столовую ввалились два больших клубка снега. Один из них был завторг сельпо, Лынник Федор, второй – водитель той машины, что пошла за водкой, Николай Цокур.
Они рассказали, что водку получили, полную машину. Связи не было, чтоб в МТС попросить трактор, поэтому выехали сами, буксовали, копали, толкали и в конце концов застряли окончательно. Бросили машину в степи, где-то на полдороге от станции. Утром возьмут трактор и в селе будет водка. Пришлось всем расходиться.
На второй день погода успокоилась, завезли в магазин водку, и не одну машину. Инцидент подзабыли. Но, как выяснилось позже, в тот день не все пошли по домам. Двое ребят из общежития МТС таки пошли за водкой, надеясь набрать ее на халяву и – побольше. Перед этим, они в столовой заварили пачку чая в кружке и, подчифирившись, двинули на поиск машины. Одного нашли на второй день на сельском кладбище, рядом с его общежитием. Лежал он там долго, снег под ним растаял до грязи. Спасли его, обморозился здорово, но остался жив. А про второго никто и не знал. Да и тот, с кладбища, ничего толком сказать не мог.
В начале апреля, машинист паровоза, который возил по дороге Орск-Кандагач воду, увидел, что из горы снега, возле щитовых снегозаграждений, торчат черные валенки. Позвонил по ж/д связи, те в район, район – к нам. Нашли еще одного любителя, не попавшего на траверс машины с водкой, а буквально в метрах ста, прошедшего мимо. Привезли его как мерзлое бревно, несколько дней лежал он в пристройке сельской больницы. Оказался приезжим из Молдавии, но я его не знал. Всех земляков в районе знал, а его не пришлось.
Вот такой печальный финал водочного ожидания. Часто водка выступает в виде гири на весах жизни, где на второй тарелке весов, лежит сама жизнь. И не только по данному примеру, а и вообще.
Конечно, напиток наш, русский, и приятно иногда, под что-то, да с хорошим кем-то, поднять рюмку этого синтеза российской жизни. Ну так это ж, когда надо, а у нас, к сожалению, всегда надо, и – всегда надо – больше, чем есть. Ащелисай – и такое знает….