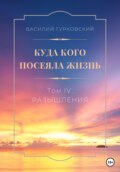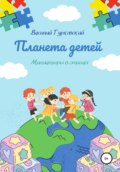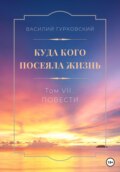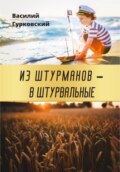Василий Гурковский
Чтобы что-то вспомнить – надо это пройти
Чтобы у читателя не возник вопрос, почему они меня так благодарили, в том числе и Утеген, когда вроде бы должен я их (его) благодарить за спасение. Это была давняя история. За пару лет до этих «волчьих» событий, я, как обычно, до уборки работал на тракторе. Как-то летом приехал в понедельник, после Троицы, в бригаду. Весь разбитый – мы в районе в волейбол играли, потом обмывали победу, потом я на своем уникальном однопедальном велосипеде 18 километров добирался до бригады. Ночь не спал. Думал: «Договорюсь со сменщиком, пусть до обеда поработает». А он оказался вообще не способным ни к чему. Что делать, пошел к трактору. Подходит Пономаренко (бригадир): «Я бачу шо тоби важко, так е така добра робота сьогодни. Там хлопци залеж хотилы пахать, ще з вийны нэ пахана, а на ней курай такый за стильки рокив сбывся, шо нэ можуть ничого зробыть. Плугы забываются враз, хоч зубамы выгрызай з ных той бурьян. Быры сцэпку своих борон, чипляй их на трос от волокуши и изжай туда, будэш стягувать и зразу палыть. Мы так ужэ робылы. Чисто як у хати получаеться. Там у тэбэ, правда, Генка трубку потиряв от бензобачка до пускача. Цэ чипуха, хай тэбэ Клим Питько товкнэ на С-80, завыдэш и до вэчира нэ глушы! Давай с Богом. А щоб вэсэлишэ тоби було, дам прыцэпщика-практыканта».
Так я и сделал. Завели меня буксиром, подцепил на трос сцепку борон в одну плашку (один ряд), и поехали поджигать. Конечно, зрелище! Идет трактор, метров 30 трос, затем сцепки с боронами, и гора курая (перекати-поля) горит! Как подует ветер в сторону трактора, так не надо на сковородку сажать. Сложности особой нет, только жарко и очень опасно.
Смотрю я на практиканта из училища, это как раз был сын «племянницы» Утегена – Уразбай. Такой юркий парнишка, почти мой ровесник. Я ему говорю: «Ты на тракторе ездить умеешь»? «Конечно, – отвечает, – уже год проучился, скоро экзамены и все». «Тогда, – говорю, – езжай до конца загона. А я несколько минут посплю, не могу, жарко, не спал, тяжело. А на краю – разбуди, я развернусь, и снова поедешь». Он с удовольствием поменялся со мной местами и запел какую-то песню по-казахски. Я осмотрелся кругом, вроде все нормально, и мгновенно заснул. Не знаю, сколько минут я проспал, но что-то подбросило меня. Очнулся – трактор стоит заглушеный, Уразбая нет, кругом огонь. Язык пламени выбивается из-под радиатора.
Первая мысль была мгновенной: «У меня же нет трубки бензобака, не заведу!» Прыгаю из кабины. «Бежать! Куда? А трактор?» В голове одно, а руки делают все сами: в стеклянном отстойнике есть бензин, снял отстойник, в кармане сложенная под табак газета, из нее – кулек, и в штуцер карбюратора. Туда же залил бензин. Выключил скорость, трактор заглох на скорости. Бендекс пускача вниз, выключил муфту. Шнура – нет. Ремень с брюк, резкий рывок – взревел пускач, через секунду завелся горячий и уже горящий двигатель.
В кабину. Надо сдать назад, ослабить трос. Не выходит палец прицепной серьги, там вместо обычного стоит палец гусеничный. Выбил его. Трос в руку толщиной, резко сжимается, бьет по ногам. Падаю. Горю. Нет сил встать. Доползаю до кабины. Не знаю, как влез. Включаю пятую скорость – и с места влево, на уже чистое поле.
Вышел на чистое, трактор горит, бегу рядом, на ходу монтировками, чем попало, сбиваю с него горящий бурьян. Через несколько минут потушил, успокоился и тогда вспомнил про Уразбая. А он стоит на другой стороне балки, я туда не могу перебраться, догнал бы, точно задушил. Оказалось, что когда он подцеплял трос, потерял заводской палец от прицепной серьги и вставил, что попалось под руку. Новый палец нагребал под себя курай до тех пор, пока не забился весь низ под трактором. Бурьяном выжало рычаг муфты сцепления, и трактор сам остановился.
Уразбай есть Уразбай. Вместо того чтобы меня разбудить, он заглушил трактор и убежал. Ветром огонь подогнало к трактору, еще минута-другая, и я бы эти строки не писал. Но есть Бог на свете, не допустил.
Я никому об этом не сказал, а Уразбай больше в бригаде не появился. Я уже и забывать стал об этом, но гора с горой не сходятся, а люди…
На следующий год МТС отправила меня в другую бригаду, в другом колхозе. В середине марта я еще с одним трактористом, выехал к новому месту работы. МТС могла направлять механизаторов в любую бригаду своей зоны. Конечно, живущих в селах семейных трактористов и комбайнеров никто не посылал на постоянную работу в другие села, а нас «незамужних» – посылали.
Выехали мы с попутным трактором С-80, вез он цистерну с горючим. Все было нормально. Снег таял, наст проваливался, по дорогам – снежная каша.
Нам не повезло. Сразу за селом трактор провалился с обрыва, уперся носом вертикально в дно балки – и заглох. Левее, метров через двести, другой трактор поменьше (ДТ-54) пытался переехать эту же балку в более пологом месте. Сзади у него были прицеплены большие пароконные сани, лежали какие-то ящики, колеса, стояло человек 5–6 людей. Трактор готовился к переезду, тракторист снимал ремень вентилятора, так как глубина воды или вернее снежной каши была приличной.
Мы закричали, чтобы нас подождали, они услышали. Каково же было мое удивление, когда за рычагами трактора я увидел… Уразбая! Он тоже меня узнал, но как выяснилось, не сразу. Мы прыгнули в сани. Надо было переехать две протоки. В первой сани вошли в воду (кашу) и мы стояли в ней почти по пояс Затем трактор поднялся на твердое место и начал медленно опускаться во вторую протоку. Судя по тому, как он вертикально «клевал» носом вниз, там было глубоко. Сани, прикрепленные к трактору, вздыбились, все, кто в них находился, разом вывалились на твердое место. Я же стоял, вцепившись в прут, стягивающий полозья саней. Трактор начал подъем и меня утопило вместе с санями. И в этот момент увидел, как что-то темное выпало из кабины.
Я судорожно ждал развязки. Трактор почти вертикально потихоньку поднимался вверх, вот-вот собираясь опрокинуться назад, на кабину, на сани, значит, и на меня. Я уже не мог отпустить руки и с ужасом ждал, не зная, чего. «Та-та-та», – захлебывался двигатель, но все-таки преодолел обрыв. Там под низом был камень – это спасло и меня, и трактор. Он упал на гусеницы, со страшной силой подбросив сани со мной вместе вверх, но я все равно удержался.
Трактор пошел вперед по снежному насту, но… в кабине никого не было. Оказалось, что Уразбай, когда трактор начал подниматься на обрыв, испугался и выпрыгнул из кабины. А так как глубина там была по шею, то он нырнул в это снежное месиво и там остался.
Что делать? Трактор едет сам, а Уразбай под водой. Бросаю сани. Снимаю полупальто и прыгаю за Уразбаем. Достаю его, с трудом вытаскиваю к людям на перемычку. Они там с ним занимаются, а я опять прыгаю в воду, перебираюсь через глубокую ямищу, выбираюсь на обрыв и бегу за трактором..
Я много раз по молодости бегал по разным причинам, но тот бег по проваливающемуся насту я запомнил навсегда. Я бежал и плакал, от бессилия. А трактор, потихоньку, на первой скорости шел себе, да шел. Догнал я его на середине поля. Упал в сани, а еще надо попасть в кабину, по насту это не так просто.
Чтобы не утомлять читателя, скажу – развернулся я, снова нырял трактором с санями в ту яму, забрал людей и снова чуть ниже переехал ту чертову, так называемую «широкую» балку. Доехал до соседнего села. Взяли водки, растерли Уразбая и меня, а утром наши пути разошлись.
Вот так Уразбай чуть не спалил меня, а я ему не дал утонуть. Поэтому долгое время и благодарили меня его родственники. Поэтому судьба, наверное, и послала Утегена мне на выручку.
Начало
«Есть, свидетельства», – мрачно отвечаю я и протягиваю ему две сереньких книжечки. Издевательский тон и ироническая ухмылка на лице бригадира выводили меня из себя, но я всеми силами старался сдержаться и, что называется, показаться. Так хотелось работать самостоятельно, не бегать в помощниках-подносчиках. Именно для этого всю зиму проучился. Прошлый сезон был на уборке помощником комбайнера, а когда узнал, что открываются курсы трактористов и комбайнеров при МТС, то записался сразу в обе группы. Мало того, пошел на зиму кочегаром в общежитие, где проходили занятия, чтобы все было при месте. Занимался и работал практически сутками. Закончил с отличием оба курса, получил свидетельства и, наконец, направление в бригаду № 2 колхоза им. Буденного – «на должность тракториста». Так было сказано в направлении. Я с трудом добрался на попутном тракторе за 18 километров в село Джусалы, где размещался указанный колхоз, нашел в мастерской бригадира – и вот теперь он надо мной издевается.
«Ды хто он такой, этот Голубь? – продолжает выступать бригадир, рассматривая подпись начальника отдела кадров на направлении. – Для мине- ён сват – Тимошкин шурин, с поля – ветер, с заду – дым. И чиго ён как раз тибе прислал?»
«Не знаю, – отвечаю я, – он сказал, что от вас была заявка на трех трактористов, вот меня и направили».
«Дык я ж давал заявку на трактористов, а ни на тибе, – бросает в сердцах Иван Рубцов, так звали бригадира. – Ну, куды я тибе дену? Да, было три места. Одного человека на новый ДТ, я нашел, осталось два этих самых места, да не про тибе. Колесник – СТЗ, ще довоенный, уже зиму стоит, да Ахмед на С-60, тоже довоенном, уже почти год сам отдувается. Ты знаешь, что такое ЧТЗ С-60?» «Видел». «Вот то-то и оно, што «видел», – опять в сердцах говорит Рубцов. – Ну, да ладно, пойдешь пока на ремонт, а там поглядим, куды тибе опридилим».
Бригадир не знал, что мне в августе будет только пятнадцать, что в отделе кадров, в связи с катастрофической нехваткой механизаторов, значительным поступлением новой техники и очень серьезными задачами по освоению новых земель по зоне нашей МТС уже в текущем году, мне просто приписали в личный листок два года. Благо, паспортов на селе в то время не выдавали, метрического свидетельства у меня не было, а большую массу архивных документов, в том числе и по году моего рождения, унесла война. Так что сверять данные было не с чем, да и никто в этом заинтересован не был. Пацан на вид крепенький, трактор и комбайн знает, курсы прошел, сезон отработал, что еще надо. Дописали пару лет в трудовую книжку, как было указано в комсомольской путевке, выданной в Кишиневе, чтобы с профкомом не было проблем – и за работу, молодой механизатор.
Сегодня иногда смотришь на 16—17-летних ребят – и своих, и чужих – и видишь, насколько они инфантильны или не подготовлены к самостоятельной жизни. Никому и в голову не придет вверить кому-то из них трактор, тем более комбайн. Вспоминаю, как встретил свое пятнадцатилетие за штурвалом комбайна, и никак не могу даже представить себе кого-то из нынешних сверстников в этой роли. Настолько изменилось время, и изменились люди. Не могу делать какие-либо выводы, лучше стало или хуже, просто фиксирую ситуацию, было – стало.
Так вот, ничего этого, тем более будущего, бригадир тогда не знал, а то не посмотрел бы ни на направления, ни на мои «дипломы» и просто не стал бы со мной разговаривать.
Ну и, слава Богу, что не знал.
Через колхозного бригадира полевой бригады, Рубцов нашел мне в селе угол. Напротив колхозного двора жила семья немцев – выселенцев с Украины. Муж с женой лет за тридцать и мальчик-дошкольник.
Полевой бригадир в моем присутствии довел до сведения хозяйки условия моего постояльства. Я буду у них ночевать, они мне будут варить еду и стирать постель. За это хозяйке станут начислять по полтора трудодня в день. Продукты можно брать за мой счет в колхозной кладовой. Время проживания – сколько будет надо.
С этого момента, собственно, и началась моя самостоятельная жизнь. Днем я вместе с другими механизаторами нашей бригады готовил к посевной технику, а ночевать приходил на квартиру. Дом у
Байеров (такой была фамилия моих хозяев) был, как и большинство сельских домов того времени, обычной глинобитной мазанкой без крыши, имел стандартную для степных буранных мест форму буквы «г», где стойку представлял сам дом, а перекладину – сарай для животных и птицы. Сараи в тех местах обязательно соединялись внутренней дверью с домом, чтобы во время снежных заносов не было проблем по уходу за скотом. Временами, в снежные зимы, такие мазанки задувало полностью, и не раз, блуждая в буран, въезжали на крыши-потолки и проваливались внутрь, как трактора, так и конные сани.
До пятидесятых годов большинство домов в старых степных селах были однообразными и небольшими – в две, максимум, три комнаты. Отапливались одной печью, хорошо утеплялись, так как морозы за сорок градусов, да еще с ветром, там были не в диковинку. Стояли в селах (в каждом по-разному) по несколько домов под крышами, как правило, жестяными. В таких домах в прежние времена жили наиболее богатые из сельчан. Еще до войнытакие дома были реквизи-рованы, и в них разместились конторы да учреждения. А если какие и использовались под жилье, то, как казенные квартиры.
В доме моих хозяев было всего две комнаты. Одна, поменьше, служила кухней-столовой-гостиной. В другой, побольше, собственно и жили хозяева. Мне выделили деревянный топчан на кухне. Днем он использовался как скамейка, а после ужина и мытья посуды на него стелили постель. Хозяева уходили к себе, а я оставался на ночь один. Словами этого не объяснить. Человеку надо вначале сделать очень плохо, а потом чуть-чуть улучшить ситуацию, и он будет доволен. Так и у меня. После общежития, где в одной комнате с тобой, живут еще десять храпящих и гремящих по ночам, разновозрастных мужиков, где воздух насыщен парами пота, перегара, запахами хрустящих портянок и взвешенных неароматизированных частиц, до такой степени, что хоть нарезай его пластами; где по ночам на голову падает невысохшая с осени штукатурка и ни один вечер, тем более в выходной, не обходится без драк, скандалов-выяснений, где по утрам в коридоре очередь к однососковому умывальнику, замерзшему наполовину, а без очереди можно умыться только снегом, где ни за что ни про что можно получить по голове пустой бутылкой или еще чем-то в полумраке длиннющего коридора, освещаемого одной тридпативаттной лампочкой и то лишь до двенадцати ночи, тихая кухня казалась мне райской обителью.
После обычных общежитейских «прелестей» тишина и спокойствие в «моей» комнате несколько первых дней даже не давали мне спать. Потом привык, зато появилось другое.
В первый же день хозяйка пошла в колхозную кладовую, получить для меня продукты. Как оказалось, кроме муки и соли, из съестного больше ничего. Столовой в колхозе не было, из приезжих – один я, люди в поле не работали, значит, и скот на мясо для хозяйственных нужд зимой почти не забивали.
Рядом с нашим домом находился небольшой магазин, там можно было купить какие-нибудь мерзлые консервы, но я зиму проучился, да еще проработал три месяца кочегаром, где зарплата еще ниже, чем на ремонте, так что денег у меня даже на курево, не хватало, что уж там говорить о дополнительном питании. Поэтому уже со второго дня пришлось перейти на супержестокую для моего растущего организма диету: хозяйка с утра варила мне трехлитровый казан постных бесформенных галушек. Вода, соль – и в этом растворе – галушки, без зажарки. Варила один раз. Вталкивал в себя эти галушки утром, продолжал есть в обед и доедал вечером. И так каждый день.
Я не хочу обидеть всех немцев. Многие из тех, с кем пришлось жить, работать и дружить, не были «жмотами». Но мои хозяева, к сожалению, заслужили такое определение.
Через неделю я стал почти членом семьи – утром чистил печь, вывозил навоз из сарая, убирал снег, если заметало, за километр ходил по воду, с двумя ведрами на коромысле, рубил дрова, то есть, делал все то, что мог бы делать один из членов семьи, к примеру, старший сын. Но ни разу, подчеркиваю, ни разу они не пригласили меня за стол. Кушали они тоже не так уж шикарно, но борщ, часто с мясом, соления, молоко, сметана были у них всегда.
Самым непонятным и обидным для меня было то, что когда они рассаживались за столом, я тоже находился в кухне и сидел рядом на топчане. Они ели, не замечая меня. Потом муж с сыном уходили, и тогда хозяйка накладывала мне мои галушки. Так продолжалось все время, пока я у них квартировал. Мою помощь по хозяйству они принимали как должное, не требующее какой-либо благодарности. Хозяин даже контролировал мою работу, правда, не делая никаких замечаний.
Позже появилась еще одна проблема. Был уже март, стало теплеть, поутихли бураны, и мои хозяева по воскресеньям начали ходить за 12 километров в бывшую свою резервацию, на рудник Батамшинский, молиться. Организовалась там какая-то секта, появился молельный дом. Да пусть бы ходили хоть в три секты, какое мне дело. Но. Не знаю, какие там у них ценности были, и не знаю, за кого они меня принимали, но, уходя с утра молиться, они запирали дверь на замок, оставляя меня на улице.
В первый раз ушли часов в десять. Я взял гармонь, пришли несколько ребят и девчат, поиграли, поговорили. Все хорошо. К обеду начало подтаивать, но после двух-трех часов потянуло холодом. Молодежь разошлась по домам обедать и греться, а мне-то идти некуда. Какая там гармонь – пальцы и на руках, и на ногах сводит! Даже ненавистных галушек не похлебаешь – замок. Хозяева пришли часов в пять, когда уже стемнело.
На следующий выходной – опять – то же, и на следующий – так же. И хотя я стал брать с собой на улицу хлеб, это не улучшало ситуацию – по выходным я оставался голодным и промерзал насквозь. Не хотелось говорить бригадиру – думал, скоро уже выйдем в поле, буду жить в бригаде, и все эти «концерты» закончатся. Однако весна затягивалась, уже было начало апреля, а холод не уходил. И меня, наконец, прорвало.
После четвертого молитвенного похода, я решил пожалеть себя и прекратить эти издевательства.
Жил я в квартирантах уже больше месяца, знал, где и что находится. По утрам, управляясь со скотом, набирал в закроме зерно и видел запасы сельских «деликатесов» моих хозяев. Над зерном вдоль стены висело восемь копченых окороков, задрапированных в марлю, а снизу на полке стояли десятка полтора кувшинов и банок со сметаной. Лампочки в закроме не было, свет едва проникал через вмазанное в стену стекло размером с ладонь, так что там и в самый светлый день царил полумрак. После месячной «галушкиной» диеты и пыток холодом по выходным, я стал все внимательнее поглядывать и на окорока, и на кувшины.
В один из очередных выходных, когда все мое существо буквально застыло, я решился. Дверь дома – на замке, а дверь сарая – на крючке, изнутри. Ножом открыл крючок, закрывающий изнутри дверь сарая, зашел в дом, немного отошел от холода и направился в закром. Выбрал в дальнем углу окорок, отрезал приличный кусок, налил кружку сметаны из кувшина, долил туда молока из неполной банки, очень оперативно все это оприходовал, полежал на топчане, а примерно за полчаса до обычного возвращения хозяев таким же путем вышел с гармошкой на улицу. И сразу показалось, что и жизнь хороша, и жить хорошо. Пришла к вечеру молодежь, даже потанцевали. Я и не заметил, когда появились хозяева, играл, пока меня не позвали на те самые злополучные галушки. Кстати, с тех пор, я галушки, а также клецки и прочая, не кушаю – я их видеть не могу. Так они меня достали.
Ну, а тогда, после моей первой вылазки в закром, в монотонной жизни появилось разнообразие. Каждое утро, ухаживая за скотом, я попутно отрезал кусок окорока, брал с собой хлеб и на обед не приходил. И зачем мне были те клейкие галушки, когда я имел кое-что получше. …..
К счастью, подходило к концу мое квартирование. Вот-вот бригада должна выйти в поле, и на вопросы хозяйки, почему не хожу на обед, я каждый раз находил какие-то отговорки. Так продолжалось еще некоторое время, но за две недели окорок закончился. Остались от него только темно-коричневая шкура, чистая белая кость и марля.
Для придания окороку видимой формы пришлось приладить несколько деревянных палочек-распорок. Обернутый марлей муляж внешне был очень похож на то, что раньше значилось окороком. По моим расчетам, очередь для его использования должна была подойти примерно к осени. Значит, время еще оставалось…
Хотя я заработал в этой семье не на один окорок, но этот случай преследовал и смущал меня долгие годы, пока, наконец, благополучно не завершился. Мы к этому еще вернемся, в конце этой были.
А в тот год, в середине апреля, мы, наконец-то, вышли в поле. Слава Богу, закончились унижения, переохлаждения и «галушкины» диеты. Настала пора определиться и с моим местом работы.
Как-то утром бригадир подозвал меня и повел на смотрины. «Вот они стоят, как раз рядом, наши гвардийцы: один колесник – СТЗ, другой – ЧТЗ, С-60, – показал рукой бригадир. – Мы их тут подлатали немного за зиму, будут робить». Возле гусеничного С-60 кружился чеченец Ахмед, парень лет тридцати, под два метра ростом, с иссиня-черной щетиной на лице и разбойничьим внешним видом. Мы с ним уже познакомились во время ремонта сельхозмашин. Ахмед, увидев меня с бригадиром, приветливо закричал: «Слушай, Василь, давай ко мне напарником, машина звер, еще на фронте тащила болшой пушка. А как поворачивает на месте! Пилотку земли в люк, где фрикцион, высыпешь, так он, как молодой крутится!»
«Ды ладно, ладно, Ахмед, – осадил его Рубцов, – не пойдеть ён к тебе, и ты знаешь почему. А ну, заведи свой тягач, пусть пацан посмотрит, как это делается» – добавил он.
Ахмед проверил, выключена ли коробка передач, взял с площадки довольно приличный лом и пошел с левой стороны заводить свой трактор.
Чтобы читатель представил себе эту технику, дам небольшую характеристику. Трактор Челябинского завода «С-60» был первым из серии тяжелых тракторов класса пятитонников. Имел четырехцилиндровый двигатель, работающий на лигроине – это горючее между керосином и бензином. Без кабины. Прямо возле тракториста, с левой стороны, крепилась двухсотлитровая бак-бочка с тем самым лигроином. Ходовая часть у этого трактора и система управления были удачными и практически неизменными переходили потом в другие модификации – уже дизельный С-65, затем С-80, С-100, и даже Т-130.
Но была у этого трактора одна (кроме прочих) очень неприятная особенность – он заводился ломом. Да, обыкновенным металлическим ломом Прямо в метре от сиденья тракториста находился открытый огромный маховик с отверстиями под лом. Тракторист вкладывал его и резким движением проворачивал маховик. Новых таких тракторов я не видел, а те, которые пришлось, никогда с первого рывка не заводились. Иногда приходилось десятки раз рвать руки и сбивать пальцы, пока двигатель, наконец, начинал реветь. Нередко, в силу различных причин, двигатель «бил назад», тогда лом, вырываясь из рук, летел смертоносным оружием в противоположную сторону, и горе было тому, кто вдруг мог оказаться на его пути. Как ни старался Ахмед показать мне класс при заводке, именно в этот раз лом у него из рук вырвало. Минут десять стоял он, сцепив руки и корчась от боли. При таком рывке руки сильно «сушит», это трудно объяснить, и пока сам не почувствуешь, – не поймешь.
Бригадир посмотрел на меня и понял, что больше ничего объяснять не надо. Помолчав, сказал; «Иди, принимай колесник, заправь его, цепляй конную повозку и езжай в бригаду».
Так я стал трактористом, полноправным членом тракторной бригады. «Стальной конь» мне достался уникальный даже по тем временам. В стране их выпускали два завода – Сталинградский (СТЗ) и Харьковский (ХТЗ). Первый работал, как правило, на Восток, второй – на западную часть СССР. Трактора обоих заводов были идентичны – из сплошного металла. Все узлы, колеса, рулевое управление и даже сидение для тракториста на жесткой прогибающейся стальной пластине – все было металлическое. Узлы и агрегаты были простыми, грубо связанными между собой, довольно крепкими и надежными. Двигатель был керосиновый и имел очень существенный недостаток – его шатунные и коренные подшипники были заливными, баббитовыми. Если снову это не было особо заметно, то на моем тракторе, который был на 5 лет старше меня, независимо от вида выполненных работ, приходилось через два дня на третий, обязательно делать «перетяжку». То есть, слить масло, снять поддон картера (чугун-ный на 32-х болтах), затем головки шатунов и убрать специальные латунные прокладки – одну, две и более, где сколько надо, на ощупь, при визуально-ручной проверке плотности посадки шатуна на шейку коленчатого вала. Если поленишься или прозеваешь, хоть на один день или на один стук двигателя – все, работа заканчивалась: в шатуне набивался эллипс, появлялся стук, и двигатель выходил из строя. Надо было или двигатель вести в МТС, или буксировать туда трактор – для заливки, шлифовки и подгонки шатунов. Это уже была целая история, и потеря массы времени. Процедура «перетяжки» была несложная, но препротивная своей частой периодичностью, грязью и необходимостью.
Сколько бы по времени не сливал масло из двигателя, все равно, когда снимешь тяжелый поддон, а затем головки шатунов, противное горячее черное, как нефть, масло, игольчатыми струйками затекает тебе то в глаза, то в уши, то в волоса и т. д. Пока сделаешь перетяжку – весь в масле. Летом еще ничего – можно раздеться, тело легче помыть, а в другие времена года это была хоть и не главная, но проблема. Кабины трактор не имел, а мой «пенсионер» вообще ничего не имел – ни генератора, ни фар освещения, просто более – менее оформленная груда металла.
Заводился, естественно, рукояткой. Конечно, это не лом, как на С-60, но приятного тоже было мало. Я, к примеру, делал это так. Для облегчения запуска двигателя каждый из четырех цилиндров имел специальные заливные краники, туда из бутылки заливался бензин, чтобы ускорить и усилить возгорание горючей смеси. Проворачиваю заводную рукоятку под «сжатие», где-то на положение под 45;, за-тем на свои сапоги одеваю обрезанные по передок сапоги Ахмеда (они были размера 45–46, я их подобрал в мастерской при выезде в поле), потом обеими ногами становлюсь на заводную рукоятку и делаю резкий толчок вниз. Если повезет, – двигатель зачихает, выпустит серию черных колец и заведется. Если не повезет, – получу при отдаче по ногам, или по чему-нибудь выше, или, что еще более неприятно, – отлечу метра на три. Тогда стараюсь быстро подняться, тихонько всплакнуть, чтобы никто не видел, и снова – бензин в краники, ручку на «сжатие», и все по новой, пока не заведу. А что делать – ты тракторист, хозяин трактора, не будешь же каждый раз звать кого-то. Бывало, Ахмед подойдет, чем-то я ему приглянулся, рванет ручкой снизу два-три раза, заведет и молча уйдет. Но это было редко. А так я старался не глушить двигатель целый день, да и некогда было его глушить.
Первая моя работа была примитивно проста, это если со стороны, конечно, смотреть. На одном из бригадных участков из нескольких полей, так называемых «кутов», работали три посевных агрегата, это три гусеничных трактора и девять сеялок. Бригадир поставил передо мной простую задачу – обеспечить подвоз семенного зерна к двум агрегатам, а третий агрегат обеспечивали на паре волов с такой же, как у меня повозкой, двое чеченцев среднего возраста – Аслан и Махмуд. Технология у них и у меня была примерно одинакова. Машина привозила семенное зерно из склада на полевой стан, ссыпалось оно на утрамбованную площадку по видам культур и сортам. Я должен был загрузить ведром повозку с наращенными бортами, чтоб хватило на дозаправку трех сеялок одного агрегата, подвезти семена за 2–3 километра и помочь сеяльщикам быстро пересыпать их в сеялки, потом так же быстро уехать назад, опять же засыпать, привезти уже ко второму агрегату и начать все сначала.
Рабочий день и у меня, и у моих коллег-чеченцев продолжался 24 часа в сутки. Задачи вроде бы одинаковы, но разница между нами была большая. И не только в том, что они вдвоем в два раза меньше меня грузили и выгружали зерна, а в том, что у меня был еще трактор. Они нагрузят зерно, ложатся в повозку и спят, пока волы не привезут к месту работы. Трактор с сеялками подъедет, их разбудят, и все нормально. Мой же конь, сам не ездил, этой грудой металла надо было управлять, делать ему технический уход при пересменах (агрегаты, работали по 12 часов и менялись утром и вечером в семь часов), на которые отпускалось по часу времени, каждый третий день делать перетяжку, о чем я уже говорил, и так далее. Темными ночами, мои коллеги-семеновозы, полагаясь на интуицию своих волов, так же спали при переездах туда-сюда, как и белым днем, а мне, без света, в кромешной тьме, по буграм и балкам надо было довезти неустойчивую повозку с зерном и, не дай Бог, его просыпать. Вначале я заикнулся бригадиру, когда же, мол, спать буду. Он, не раздумывая, выдал: «Ишо молодой, спать будешь на пенсии, подумаешь- какой-то месяц помотаешься, ничего с тобой не сделается. А спать будешь, пока агрегаты будешь ждать».
Ко всему привыкает человек. За время моей первой посевной я научился спать по 5—15 минут, мгновенно засыпая и мгновенно просыпаясь. Вначале, тело гудело от круглосуточной беготни с полными зерном ведрами, но постепенно втянулся в это однообразие. Иногда в обед, когда не надо было делать перетяжку, даже играл на гармошке по нескольку минут, ублажая своих коллег-чеченцев, страстно почему-то любивших русские песни, бригадную повариху и сторожа, старого оренбургского казака – деда Ивана Синицу.
За месяц мы отсеялись, без особых неприятностей. Был, правда, случай, когда я чуть не рассорился с Асланом и Махмудом, но все обошлось. В принципе мы мирно сосуществовали, но, честно говоря, был один момент, который меня раздражал. Дело в том, что уже после пересмены, перед заходом солнца, они стелили на одном и том же месте, у старого сурчиного холма, одеяло и молились, довольно долго. Я ничего не имел против, но в связи с этим нарушался общий ритм работы в поле, и мне приходилось делать лишний рейс в повышенном скоростном режиме. Пока они молились, «их» агрегат приходилось обслуживать мне. Посевная ждать не могла. Чеченцы относились ко мне, как к пацану, и считали мое старание в порядке вещей. Я тоже старался не придавать этим вечерним издержкам особое значение, но однажды они молились очень уж долго. Не знаю почему, но я уже сделал два рейса, весь, как говорится был в «мыле», а они все еще стояли на коленях. Проезжая мимо, я несколько раз специально «прогазовал» двигателем, чтобы хоть чем-то им досадить, и поехал дальше.
Ответ последовал уже ночью. Они подобрали момент, когда я ждал агрегат и, естественно, спал на зерне в повозке (тогда еще зерно не протравливали перед высевом). Собрали целую кучу сухого курая (перекати-поле), сложили его у повозки, рядом с моей головой, подожгли и поехали дальше. Курай горит как порох. Столб огня поднялся в два раза выше повозки. Я очнулся – огонь, с испугу прыгнул прямо в костер, загорелись мазутные брюки. Хотя быстро все потушил, но было очень неприятно. Сидел на пашне и слышал удаляющийся прямо-таки животный смех «воловиков».