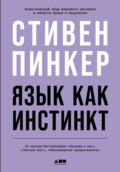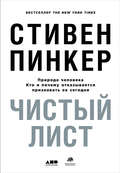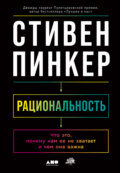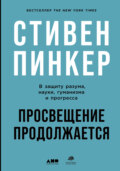Стивен Пинкер
Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше
~
Одна из технологий, продуктивность которой значительно выросла еще до начала Промышленной революции, – книгопечатание. До изобретения Гутенбергом в 1452 г. печатного пресса каждую копию книги переписывали от руки. Этот процесс был не только длительным (чтобы переписать 250-страничную книгу, требовалось 37 человеко-дней), но и весьма неэффективным в смысле использования энергии и материалов. Рукописный текст различать труднее, значит, рукописные книги должны быть большего формата и на них требуется больше бумаги. Переплет, хранение и транспортировка объемных фолиантов тоже обходились дороже. За два века после Гутенберга книгоиздание стало высокотехнологичным бизнесом и производительность изготовления бумаги и книгопечатания выросла более чем в 20 раз (рис. 4–8), опережая темпы роста всей британской экономики времен промышленной революции[496].


Новая эффективная технология издания книг привела к взрыву книгопечатания. На рис. 4–9 видно, что число книг, издаваемых в год, в XVII в. стабильно росло, а к концу XVIII в. взлетело до небес.
При этом книги не были забавой одних лишь аристократов и интеллектуалов. Как отмечает литературовед Сюзанна Кин, «к концу XVIII в. платные библиотеки с выдачей книг на дом уже были широко распространены в Лондоне и провинциальных городах и большую часть их книжных фондов составляли романы»[497]. С ростом доступности книг росло и желание читать. Сложно оценить уровень грамотности до эпохи всеобщего образования и стандартизированных тестов, но историки отыскали убедительные косвенные показатели, например процент людей, сумевших расписаться в книге регистрации актов о заключении брака и в судебных документах. Рис. 4–10 показывает пару временны́х рядов, составленных Кларком и позволяющих предположить, что в XVII в. уровень грамотности в Англии удвоился и к концу столетия большая часть мужчин Англии уже умела читать и писать[498].
Одновременно с этим рос уровень грамотности и в других странах Европы. К концу XVIII в. большинство французов умели читать, и, хотя по другим странам показатели грамотности за тот период недоступны, есть все основания предполагать, что в начале XIX в. в Дании, Финляндии, Германии, Исландии, Шотландии, Швеции и Швейцарии большинство мужчин были грамотными[499]. Читающая аудитория росла, но и это еще не все: люди начали читать иначе – изменение, которое немецкий историк Рольф Энгельсинг назвал «революцией чтения»[500].

Теперь читали не только религиозные, но и светские книги, читали не вслух, а про себя, читали актуальные памфлеты и периодику, а не многократно перечитывали несколько канонических текстов вроде альманахов, религиозных трактатов и Библии. По словам историка Роберта Дарнтона, «конец XVIII в. действительно кажется поворотным пунктом, временем, когда широкой публике становится доступно гораздо больше материалов для чтения, когда возникает широкая читательская аудитория, которая в XIX в. вырастет до огромных размеров – с промышленным производством бумаги, появлением паровых печатных станков, линотипа и практически поголовной грамотностью»[501].
И конечно, людям XVII и XVIII в. уже было о чем читать. Научная революция показала, что обыденный человеческий опыт – это лишь узкий сегмент знаний на шкале от микроскопического до космического и наш дом во Вселенной вовсе не центр мироздания, а огромный камень, обращающийся вокруг звезды. Благодаря открытию Америки, Океании, Африки и морских путей в Индию и Азию европейцам явились новые миры: стало известно о существовании экзотических народов, жизнь которых была совсем не похожа на жизнь европейских читателей.
Развитие письменности и грамотности кажется мне самым подходящим кандидатом на роль внешней причины, запустившей Гуманитарную революцию. Изолированный мирок деревень и кланов, постижимый с помощью пяти чувств и обслуживаемый единственным провайдером контента – церковью, уступил место феерии народов, мест, культур и идей. И в силу разных причин расширение границ мышления вполне могло добавить человеколюбия чувствам и убеждениям людей.
Рост эмпатии и уважения к жизни человека
Способность человека сочувствовать – это не рефлекс, который автоматически включается в присутствии другого живого существа. Как мы увидим в главе 9, люди всех культур склонны проявлять сочувствие к родственникам, друзьям и младенцам, но на страдания широкого круга соседей, незнакомцев, иностранцев и прочих живых существ они обычно реагируют сдержаннее. В книге «Расширяющийся круг» (The Expanding Circle) философ Питер Сингер доказывает, что на протяжении своей истории человечество расширяло круг существ, чьи интересы мы ценим как свои собственные[502]. Интересный вопрос: что именно увеличивает круг эмпатии? Отличный вариант ответа: грамотность.
Чтение – это технология принятия перспективы другого. Когда в голове у тебя мысли, принадлежащие другому человеку, ты смотришь на мир его глазами. Ты не только в красках ощущаешь то, что не можешь испытать лично, но как будто проникаешь в голову другого человека и на время разделяешь его чувства и реакции. Конечно, «эмпатия» в смысле умения стать на чужое место – это не то же самое, что «эмпатия» как ощущение сострадания к человеку, но первое может естественным образом привести ко второму. Становясь на точку зрения другого, ты понимаешь, что и он тоже обладает сознанием, непрерывно проживая поток ощущений в первом лице и в настоящем времени, – очень похоже на тебя, но не совсем так, как ты. Предположение, что привычка к чтению слов другого может приучить входить в мысли этого другого, ощущать его боль и радость, не такая уж большая натяжка. Стоит лишь на мгновение поставить себя на место человека, чье лицо чернеет в отверстии позорного столба, который отчаянно отталкивает руками горящие вязанки хвороста или бьется в конвульсиях под ударами плети, – тут уж поневоле задумаешься, должна ли вообще подобная жестокость обрушиваться на живое существо.
Способность смотреть на мир чужими глазами меняет убеждения и другим способом. Знакомство с мирами, которые может увидеть только иностранец, путешественник или историк, помогает превратить неоспоримые нормы («вот как это делается») в высказанные наблюдения («сейчас у нас принято делать так»). Подобное самоосознание – первый шаг к вопросу, нельзя ли делать это как-то по-другому. Кроме того, осведомленность, что в истории не раз первые становились последними и наоборот, приучает думать: «На его месте мог быть и я».
Силой поднимать читателя над его ограниченной точкой зрения обладают не только произведения, основанные на реальных событиях. Мы уже видели, как сатирическая литература, перемещающая читателя в воображаемый мир, откуда заметна глупость его собственного мира, может эффективно менять восприятие людей без обвинений и нравоучений.
Реалистическая художественная литература, в свою очередь, способна расширить круг эмпатии читателей, побуждая их думать и чувствовать так, как это делают люди, заметно от них отличающиеся. Студентов-филологов учат, что XVIII в. был переломным моментом в истории романа. Их чтение стало массовым развлечением, и к концу века в Англии и во Франции ежегодно выходило до 100 романов[503]. В отличие от ранних эпосов, перечисляющих подвиги героев, деяния святых или похождения аристократов, в этих книгах перед читателем представали чаяния и утраты простых смертных.
Линн Хант подчеркивает, что расцвет Гуманитарной революции, пришедшийся на конец XVIII в., был также и временем расцвета эпистолярных романов. В этом жанре история рассказывается от лица героя, его собственными словами, открывая его мысли и чувства в реальном времени, а не описывая их из отдаленной перспективы с точки зрения бесплотного рассказчика. В середине столетия неожиданно стали бестселлерами три мелодраматических романа, названных именами главных героинь: «Памела» (1740) и «Кларисса» (1748) Сэмюэла Ричардсона и «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо (1761). Взрослые мужчины рыдали, переживая запретную любовь, невыносимые насильственные браки и жестокие удары судьбы в жизни ничем не примечательных женщин (в том числе служанок), с которыми у них не было ничего общего. Армейский офицер в отставке изливал свои чувства в письме Руссо:
Благодаря вам я чуть не лишился из-за нее рассудка. Вообразите себе поток слез, который ее смерть из меня исторгла… Никогда я не плакал такими сладкими слезами. Это чтение так сильно на меня подействовало, что я думал, что и сам умру в эту возвышенную минуту[504].
Философы Просвещения превозносят способность романов заставлять читателя отождествлять себя с другим и сочувствовать ему. В своем панегирике Ричардсону Дидро писал:
Несмотря на все предосторожности, ты сам становишься участником событий, ты ввязываешься в разговоры, ты одобряешь, ты обвиняешь, ты восхищаешься, раздражаешься, чувствуешь негодование. Бесчисленное количество раз я, словно ребенок, впервые взятый в театр, восклицал: «Не верь, он тебя обманывает». ‹…› Его герои взяты из обыденной среды… страсти, которые он описывает, – те же, что снедают и меня[505].
Духовенство, разумеется, осуждало подобное чтение, несколько романов даже угодили в «Индекс запрещенных книг». Один католический клирик писал: «Откройте эти книги, и вы увидите, что почти в каждой из них попираются Божественная истина и человеческая справедливость, подрывается авторитет родителей, рвутся священные узы брака и дружбы»[506].
Хант предположила существование причинно-следственной связи: чтение эпистолярных романов о непохожих на тебя героях упражняет способность стать на место другого, что побуждает беспокоиться о жестоких наказаниях и прочих нарушениях прав человека. Как обычно, сложно исключить и иные объяснения этой корреляции. Возможно, люди становились более эмпатичны по другим причинам, которые одновременно сделали их восприимчивыми к эпистолярным романам и заставили беспокоиться об ущемлении интересов других людей.
Но эта гипотеза может оказаться не просто фантазией учителей словесности. Вот действительный порядок событий: новшества в технологии книгопечатания, массовый выпуск книг, распространение грамотности и популярность романов предшествовали гуманитарным реформам XVIII столетия. И в некоторых случаях популярные романы или мемуары наглядно показывали широкому кругу читателей страдания забытого класса жертв и подталкивали к политическим переменам. Примерно в одно и то же время книга «Хижина дяди Тома» пробудила аболиционистские настроения в США, «Оливер Твист» (1838) и «Николас Никльби» (1839) Чарльза Диккенса открыли людям глаза на ужасное обращение с детьми в английских работных домах и сиротских приютах, а книги Ричарда Генри Дана «Два года на палубе: рассказ о жизни в море» (Two Years Before the Mast: A Personal Narrative of Life at Sea, 1840) и «Белый бушлат» (White Jacket) Германа Мелвилла помогли положить конец поркам на флоте. В ХХ в. «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка, «1984» Джорджа Оруэлла, «Слепящая тьма» Артура Кестлера, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Ночь» Эли Визеля, «Бойня номер пять» Курта Воннегута, «Корни» Алекса Хейли, «Красная азалия» Анчи Мина, «Читая Лолиту в Тегеране» Азара Нафиси и «Секрет удовольствия» Элис Уокер (роман, рассказывающий об уродующем обычае женского обрезания) пробудили обеспокоенность публики страданиями людей, которые иначе могли бы остаться незамеченными[507]. Кино и телевидение охватывают еще большую аудиторию и обеспечивают впечатления практически из первых рук. В главе 9 мы узнаем об экспериментах, подтверждающих, что вымышленные истории способны пробудить в людях эмпатию и подтолкнуть их к действиям.
Был ли роман в целом и эпистолярный роман в частности важнейшим для расширения эмпатии жанром или нет, но распространение чтения, скорее всего, внесло свой вклад в Гуманитарную революцию, приучив людей менять узкую и ограниченную точку зрения. Помогало оно и по-другому: создавая очаги и рассадники новых представлений о нравственных ценностях и общественном порядке.
Государство словесности и гуманизм просвещения
В романе Дэвида Лоджа «Мир тесен» (Small World, 1988) профессор объясняет, почему он считает, что элитные университеты изжили себя:
В современном мире информация становится более портативной. А люди – более мобильными… За последние двадцать лет три вещи революционизировали академическую жизнь: реактивные самолеты, прямая телефонная связь и копировальные машины… Если у тебя есть доступ к телефону, ксероксу и грантам, считай, что ты подключен к мировому кампусу – единственному университету, который имеет сейчас значение[508][509].
Профессор Морис Запп знал, о чем говорил, но он преувеличивал значимость технологий 1980-х. Через 20 лет после того, как его слова были зафиксированы на бумаге, появились электронная почта и документооборот, веб-сайты, блоги, телеконференции, скайп и смартфоны. А за два века до сказанного им тогдашние технологии – парусные корабли, печатные книги и почтовые услуги – уже сделали информацию портативной, а людей мобильными. Результат был тот же самый: глобальный кампус, пространство общественной дискуссии, или, как это называли в XVII и XVIII вв., Государство словесности (Republic of letters)*.
Читатель XXI столетия, погрузившись в историю философии, не может не впечатлиться блогосферой XVIII столетия. Стоило книге выйти из печати, как она немедленно начинала активно продаваться, допечатываться, переводиться на полдюжины языков, возбуждала поток комментариев в памфлетах и переписке и стимулировала написание новых книг. Мыслители вроде Локка и Ньютона обменивались десятками тысяч писем; один только Вольтер написал их 18 000, что составляет 15 томов[510]. Конечно, такие обсуждения протекали, по нынешним меркам, очень медленно, растягиваясь на недели, иногда на месяцы, но со скоростью, достаточной для того, чтобы идеи могли формироваться, критиковаться, объединяться, отшлифовываться и попадать в поле зрения власть имущих. Характерный пример – труд Беккариа «О преступлениях и наказаниях», моментально ставший сенсацией и побудительным мотивом к отмене жестоких наказаний по всей Европе.
В условиях достаточного количества времени и последователей рынок идей мог не только распространять, но и изменять их состав. Ни один человек не может быть настолько гениален, чтобы придумать сразу все важное с нуля. Ньютон (отнюдь не отличавшийся скромностью) писал своему коллеге Роберту Гуку в 1675 г.: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Разум человека способен скомпоновать сложную идею в единицу информации, соединить ее с другими идеями в составную композицию, упаковать теперь уже эту композицию как часть еще более крупного сооружения и так далее[511]. Но для этого требуются непрерывные поставки дополнительных модулей и комплектующих, обеспечить которые может только сеть разумов других людей.
Глобальный кампус повышает не только уровень сложности идей, но и их качество. В полной изоляции расцветают все самые странные и токсичные идеи. Солнечный свет – лучшее дезинфицирующее средство, и, если неудачная идея открыта критике других умов, есть вероятность, что она завянет и засохнет. Предрассудки, догмы, легенды в Государстве словесности имеют меньший период полураспада, как и неудачные идеи о том, как контролировать преступность или управлять страной. Поджечь человека и посмотреть, загорится ли он, – идиотский способ установить его виновность. Столь же неумно казнить женщину за сношения с бесами и превращение последних в котов. И если вы не наследный абсолютный монарх, вы вряд ли позволите убедить себя в том, что наследственная абсолютная монархия – оптимальная форма правления.
Реактивный самолет – единственная технология «тесного мира» (small world) Лоджа, которая не устарела с появлением интернета. Это напоминает нам, что порой ничто не заменит живого общения. Самолеты помогают людям встречаться, но люди, живущие в городах, уже находятся вместе, города всегда представляли собой плавильные тигли идей. Космополитичные города концентрируют критическую массу разнообразных умов, а в их закоулках и углах всегда могут укрыться инакомыслящие. Век разума и эпоха Просвещения были также и временем урбанизации. Лондон, Париж и Амстердам стали интеллектуальными рынками, где в салонах, кофейнях и книжных лавках собирались интеллектуалы, чтобы обсудить животрепещущие идеи.
Амстердам сыграл здесь особую роль. В XVII столетии, ставшем золотым веком Нидерландов, этот город был шумным причалом, открытым потоку товаров, идей, денег и людей. Он дал прибежище католикам, анабаптистам и протестантам всех мастей, а также евреям, чьи предки были изгнаны из Португалии. Он приютил издателей, быстро богатевших на выпуске нашумевших книг и экспорте их в страны, где они были запрещены. Один из жителей города, Спиноза, подверг Библию литературному анализу и выдвинул теорию всего, в которой не осталось места для живого Бога. В 1656 г. еврейская община изгнала его: воспоминания об инквизиции были еще свежи, и евреи опасались прогневать соседей-христиан[512]. Для Спинозы это не стало трагедией, как могло бы, живи философ в уединенной деревушке; он просто собрал вещи и переехал в другой квартал Амстердама, а оттуда – в другой толерантный голландский город – Лейден. И везде он был доброжелательно принят в сообщество писателей, мыслителей и художников. Для Джона Локка Амстердам стал безопасным убежищем в 1683 г., когда его заподозрили в заговоре против английского короля Карла II. Рене Декарт тоже, как только обстановка накалялась, менял адреса, перемещаясь по Голландии и Швеции.
Экономист Эдвард Глейзер связал рост городов с появлением либеральной демократии[513]. Деспотичные автократы могут сохранить власть, даже если граждане их ненавидят, благодаря парадоксу, который экономисты называют социальной дилеммой, или проблемой безбилетника. В условиях диктатуры автократ и его подручные очень мотивированы оставаться у власти, но каждый отдельный гражданин не очень-то стремится противостоять им, поскольку от ответных действий диктатора пострадает конкретный мятежник, в то время как выгоды демократии достанутся поровну каждому в стране. А вот плавильный тигель города способен объединить финансистов, юристов, писателей, издателей и торговцев с хорошими связями, которые, сговорившись в пабах и ратушах, могут бросить вызов действующей власти, разделяя между собой усилия и риски. Античные Афины, Венеция эпохи Ренессанса, революционные Бостон и Филадельфия, города Нидерландов – вот где зарождались новые демократии. Да и сегодня урбанизация и демократия тоже, как правило, идут рука об руку.
Политические и религиозные деспоты никогда не упускали из виду потенциальную силу свободного перемещения людей и информации, способную пошатнуть любой трон. Именно поэтому они подавляют свободу слова, письма и собраний, именно поэтому демократии защищают эти каналы связи своими биллями о правах. В отсутствие городов и грамотности освободительные идеи с большим трудом рождались и взаимодействовали между собой, так что рост космополитизма в XVII и XVIII в. по праву может называться одной из причин Гуманитарной революции.
~
Собрать людей и объединить идеи еще не значит предопределить путь развития этих идей. Рождение Государства словесности и появление многонациональных городов само по себе не может объяснить, почему в XVIII в. получила развитие именно гуманитарная этика, а не всё более изобретательные обоснования пыток, рабства, деспотизма и войн.
По моему мнению, два этих изменения действительно связаны. Когда достаточно большое объединение свободных рациональных агентов обсуждает, как должно быть устроено общество, соблюдая логическую непротиворечивость и получая от внешней реальности обратную связь, их общее мнение будет продвигаться в определенном направлении. Нам не приходится объяснять, почему молекулярные биологи обнаружили, что у ДНК четыре основания: при условии что они добросовестно изучают биологию и что ДНК действительно имеет четыре основания, вряд ли они могли обнаружить что-то другое. Точно так же нет необходимости объяснять, почему просвещенные мыслители со временем начали выступать против рабства, жестоких наказаний, деспотических монархий, казней ведьм и еретиков. При достаточно тщательном изучении непредвзятыми, разумными и осведомленными мыслителями жестокие обычаи невозможно оправдывать до бесконечности. Вселенная идей, в которой одна идея влечет за собой другую, сама по себе является внешней силой, и когда сообщество мыслителей проникает в эту вселенную, оно вынуждено двигаться в определенном направлении, независимо от своего физического окружения. Я думаю, что этот процесс нравственных открытий был важной причиной Гуманитарной революции.
Я готов протянуть эту нить рассуждений чуть дальше. Такое значительное количество жестоких институций сгинули за такой короткий промежуток времени, потому что сразивший их аргумент принадлежит внутренне непротиворечивой и логически последовательной философии, возникшей в Век разума и эпоху Просвещения. Идеи Гоббса, Спинозы, Декарта, Локка, Юма, Мэри Эстел, Канта, Беккариа, Адама Смита, Мэри Уолстонкрафт, Мэдисона, Джефферсона, Гамильтона и Джона Стюарта Милля слились в мировоззрение, которое мы называем гуманизмом эпохи Просвещения (также его называют классическим либерализмом, хотя с 1960-х гг. термин «либерализм» приобрел и другие значения). Вот краткий обзор этой философии – приблизительное, но более или менее связное описание взглядов философов Просвещения.
Все началось со скептицизма[514]. История человеческой глупости, а также собственный опыт иллюзий и заблуждений доказывают, что мужчины и женщины могут ошибаться. А значит, чтобы поверить во что-то, необходимы убедительные доводы. Вера, откровение, традиция, догма, авторитет и экстатический жар субъективной убежденности – все это залог ошибки и не должно более считаться источником знаний.
Есть ли что-то, в чем мы можем быть уверены? Декарт дал нам не самый плохой ответ: наше собственное сознание. Я знаю, что я мыслю, благодаря хотя бы тому, что задаюсь вопросом о пределах своего познания, и я также сознаю, что мое сознание вмещает в себя несколько видов опыта: восприятие внешнего мира и других людей, различные болевые ощущения и удовольствия, как чувственные (еда, покой, секс), так и духовные (любовь, знания и созерцание красоты)
Кроме того, мы преданы разуму. Если мы задаемся вопросом, прикидываем вероятный ответ и пытаемся убедить других в его верности, значит, мы сами размышляем и тем самым соглашаемся с тем, что разум заслуживает доверия. Мы верим в истинность выводов, полученных в результате непротиворечивого рассуждения, например в процессе доказательства математических и логических теорем.
Хотя мы не можем логически доказать что бы то ни было, касающееся физического мира, мы по праву уверены в конкретных фактах о нем. Обобщения на основе рассуждения и наблюдения – вот что мы называем наукой. Научный прогресс и его блестящий успех в изучении и изменении мира показывают, что познание возможно, хотя всегда не окончательно и подлежит пересмотру. Таким образом, наука – это парадигма, в рамках которой мы обретаем знание. Это не конкретные методы и научные организации, но система ценностей, помогающая нам объяснять мир, объективно отбирать правдоподобные гипотезы и осознавать неопределенность и ограниченность нашего понимания в каждый конкретный момент времени.
Главенство разума не значит, что каждый отдельный человек всегда рационален и не поддается влиянию страстей и иллюзий. Смысл в том, что люди способны рассуждать и что объединение людей, решивших совершенствовать свои способности и упражнять их открыто и честно, может совместными усилиями со временем проложить дорогу к более здравым умозаключениям. Как заметил Линкольн, можно все время дурачить некоторых и некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех.
Среди знаний о мире, в которых мы можем быть с полным основанием уверены, – то, что другие люди, подобно нам, обладают сознанием. Другие сделаны из того же теста, стремятся к тем же целям и реагируют теми же внешними проявлениями боли и удовольствия на те же стимулы, которые и в каждом из нас вызывают боль или удовольствие.
Следуя этой логике, мы можем прийти к выводу, что люди, внешне отличающиеся от нас во многих отношениях – полом, расой, культурой, по сути такие же, как мы. Шекспир спрашивал устами Шейлока:
Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть – разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать – разве мы не смеемся? Если нас отравить – разве мы не умираем? А если нас оскорбляют – разве мы не должны мстить?[515]
Кросс-культурная общность базовых человеческих реакций имеет далеко идущие последствия. Первое: универсальная человеческая природа существует. Она вмещает наши общие удовольствия и страдания, наши общие способы мышления и нашу общую уязвимость перед глупостью (не в последнюю очередь жаждой мести). Природу человека можно изучать точно так же, как и весь остальной мир. И наши решения по поводу обустройства жизни должны учитывать то, что нам известно о человеческой природе, даже если нам придется отказаться от собственных интуитивных представлений, когда наука поставит их под сомнение.
Еще одно следствие нашей психологической общности: как бы люди ни различались, теоретически они способны прийти к согласию. Я могу обратиться к вашему разуму и попытаться убедить вас по законам логики и доказательности, с которыми и вы и я согласны хотя бы потому, что мы оба – разумные существа.
Сознавать универсальность разума исключительно важно, именно это понимание дает нам возможность определить место для нравственности. Если я прошу вас сделать что-то, что касается меня лично, – убрать ваш ботинок с моей ноги, не тыкать в меня ножом почем зря или спасти моего тонущего ребенка – и если я хочу, чтобы вы воспринимали меня всерьез, я не могу при этом ставить свои интересы выше ваших (например, сохраняя за собой право, наступить на ногу вам, ткнуть вас ножом или позволить утонуть вашему ребенку). Я должен сформулировать свои доводы так, что сам буду вынужден отплатить вам тем же. Я не могу считать собственные интересы важнее только потому, что я – это я, а вы – нет, так же как у меня нет права считать, что место, на котором я стою, – особенное только потому, что здесь стою я[516].
Мы с вами должны достичь этого взаимопонимания не только для того, чтобы вести логически содержательную беседу, но потому, что взаимный отказ от эгоистичности – единственная для нас возможность преследовать свои интересы одновременно. И вам, и мне будет лучше, если мы сможем обмениваться излишками, спасать детей друг друга, когда они попадают в беду, и удерживаться от убийств, вместо того чтобы сидеть на своих припасах, пока они не сгниют, равнодушно смотреть, как тонут чужие дети, и непрерывно враждовать. Конечно, каждому было бы чуть выгоднее действовать эгоистично за чужой счет, оставляя другого ни с чем, но тоже самое верно и для второй стороны, так что, если оба попытаются реализовать это преимущество, оба и плохо кончат. Любой независимый наблюдатель, и вы, и я, рассматривая вопрос рационально, решил бы, что мы должны стремиться к такому положению вещей, когда обе стороны ведут себя неэгоистично.
Следовательно, мораль – это не набор произвольных ограничений, продиктованных мстительным божеством и записанных в книгах; не обычай определенной культуры или племени. Это следствие взаимозаменяемости точек зрения и возможность, которую обеспечивает мир играм с положительной суммой. Этот принцип морали – основа множества версий «Золотого правила», сформулированного большинством религий мира, в категорическом императиве Канта, в спинозовском «с точки зрения вечности», в общественном договоре Гоббса и Руссо, в самоочевидной истине Локка и Джефферсона: все люди созданы равными.
Из факта существования универсальной человеческой природы и из морального принципа, что никто не имеет права ставить свои интересы выше интересов других людей, мы можем вывести множество идей о том, как нам вести свои дела. Государство – полезная вещь, потому что в состоянии анархии людская меркантильность и самообман, а также опасения перед этими несовершенствами в других приведут к постоянным распрям. Людям легче отказаться от насилия, если все остальные согласны сделать то же самое и если полномочиями разрешать конфликты наделена незаинтересованная третья сторона. Но, так как третья сторона будет представлена отнюдь не ангелами, а обычными людьми, их власть должна быть под контролем других людей – только так их можно заставить управлять, заботясь об интересах тех, кем они управляют. Правительство не должно применять насилие против собственных граждан сверх минимума, необходимого для предотвращения большего насилия. И оно должно содействовать такому устройству общества, которое позволит людям процветать за счет сотрудничества и добровольного обмена.
Эту цепь умозаключений можно назвать гуманизмом, потому что ценность, которую она принимает во внимание, – процветание людей – единственная ценность, которую невозможно отрицать. Я испытываю удовольствие и боль и преследую цели, к которым они меня подталкивают, так что я не могу отрицать право другого чувствующего агента делать то же самое.
Все это звучит банально или самоочевидно, если вы – дитя Просвещения и впитали гуманистическую философию с молоком матери. С исторической точки зрения ничего банального и самоочевидного тут нет. Не обязательно атеистический (он близок к деизму, в котором Бог идентифицируется с природой Вселенной), гуманизм Просвещения обошелся без священных книг, Иисуса, ритуалов, религиозного права, божественного замысла, бессмертных душ, жизни после смерти, мессианства или Бога, говорящего с отдельными людьми. Заодно он отмел в сторону множество светских источников ценностей, если они не доказали свою важность для процветания человечества. Он отказался признавать ценностью авторитет страны, расы или класса, фетишизированные добродетели вроде мужественности, репутации, героизма, славы или чести; а также мистицизм во всех его проявлениях.