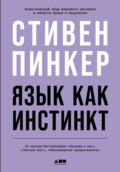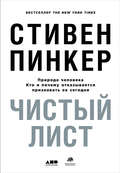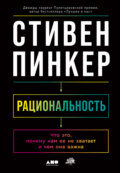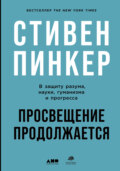Стивен Пинкер
Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше
Не только самоконтроль и социальная связанность, но и еще один, третий, идеал попал под обстрел: брак и семейная жизнь, которые так много сделали для укрощения мужской агрессивности в предшествующие десятилетия. Идея, что мужчина и женщина должны отдавать свои силы моногамным отношениям и воспитанию детей в безопасной среде, превратилась в мишень безжалостного высмеивания. Такая жизнь стала считаться мещанской, конформистской, потребительской, меркантильной, никудышной, пластиковой загородной пустыней в стиле ситкома «Приключения Оззи и Харриет».
Не припомню, чтобы в 1960-х кто-нибудь сморкался в скатерть, но поп-культура действительно воспевала нарушение чистоты, приличия и целомудрия. Хиппи повсеместно слыли немытыми и вонючими, хотя, по моему опыту, это не более чем наговоры. Но они, определенно отвергали общепринятые стандарты ухода за собой: неувядающим символом фестиваля в Вудстоке стали голые слушатели, резвящиеся в грязи. Отрицание норм приличия можно проследить по одним только обложкам музыкальных альбомов (см. фотографию 3–17). Например, “The Who Sell Out”, где измазанный соусом Роджер Долтри из группы The Who сидит в ванне, наполненной консервированными бобами, “Yesterday and Today” Beatles, где милая четверка украсила себя кусками сырого мяса и обезглавленными куклами (впрочем, обложку спешно отозвали), “Beggars Banquet”, альбом The Rolling Stones с фотографией грязного общественного туалета (первоначально отцензурированной), или обложку “Who’s Next”, на которой четверо музыкантов застегивают ширинки, отворачиваясь от стены, забрызганной мочой. Отрицание приличий распространилось и на живые концерты: Джими Хендрикс на сцене фестиваля в Монтерее имитировал половой акт со своей электрогитарой.

Выкинуть наручные часы или искупаться в ванне с бобами – это, конечно, вовсе не то же самое, что совершить настоящее жестокое преступление. 1960-е принято считать временем любви и мира, и в некоторых отношениях так оно и было. Но прославление распущенности перешло в снисхождение к насилию, а затем и в насилие как таковое. В конце каждого концерта The Who, как известно, в щепки разбивали свои инструменты. Это можно было бы считать безвредным представлением, если бы не следующий факт: барабанщик группы Кит Мун разнес вдребезги еще и десятки отельных номеров, на всю жизнь сделал глухим на одно ухо Пита Таунсенда, взорвав на сцене барабаны; бил жену, подружку и дочь; угрожал переломать руки клавишнику группы The Faces, встречавшемуся с его бывшей женой; случайно задавил машиной своего телохранителя и умер в 1978 г. от передозировки наркотиков.
Индивидуальное насилие иногда прославлялось в песнях как еще одна форма протеста против истеблишмента. В 1964 г. Марта Ривз и Vandellas пели: «Лето пришло, и пора танцевать на улицах». Четыре года спустя The Rolling Stones возразили: пора на улицах драться. Как дань «сатанинскому величию» и «симпатии к дьяволу» группа создала десятиминутную театрализованную песню «Полуночный бродяга» (Midnight Rambler), посвященную «бостонскому душителю» – насильнику и убийце, и заканчивалась она словами: «Я расколочу ваши зеркальные окна, пробью насквозь ваши окованные железом двери, я… всажу… нож… прямо…тебе… в горло!» Страсть, с которой рок-музыканты поднимали на флаг каждого головореза и серийного убийцу как отважного «борца» и «изгоя», высмеяли в фильме «Это Spinal Tap» (This Is Spinal Tap), где одноименная пародийная рок-группа рассказывает о своих планах написать рок-оперу о Джеке-потрошителе (с припевом: «Ах ты, негодник – дерзкий Джек!»).
Меньше чем через четыре месяца после Вудстока The Rolling Stones выступили на Альтамонтском фестивале в гоночном парке в Калифорнии, для обеспечения порядка на котором организаторы наняли байкеров из мотоклуба «Ангелы ада» – они в то время романтизировались как «изгои – братья контркультуры». Атмосфера концерта (да и 1960-х в целом) так описывается в «Википедии»:
Объевшийся ЛСД цирковой артист – исполин весом под 350 фунтов – разделся догола и понесся берсеркером сквозь толпу к сцене, сбивая с ног людей справа и слева. Несколько[290] Ангелов спрыгнули со сцены и забили его дубинками до бессознательного состояния (требуется подтверждение).
Для рассказа о том, что случилось после, никакого подтверждения не требуется, поскольку это было показано в документальном фильме «Дай мне кров» (Gimme Shelter). «Ангел ада» избил солиста группы Jefferson Airplane прямо на сцене, Мик Джаггер безуспешно пытался успокоить неуправляемую толпу, а один из зрителей, вытащивший пистолет, был тут же зарезан другим «ангелом».
~
Когда в 1950-х рок-музыка ворвалась на сцену, политики и религиозные деятели обвиняли ее в атаке на нравственность и в поощрении преступности. В Музее и Зале славы рок-н-ролла в Кливленде можно посмотреть занимательные кадры, запечатлевшие консерваторов, мечущих громы и молнии. И что, нам теперь нужно – о ужас! – признать, что они были правы? Можем ли мы связать ценности поп-культуры 1960-х и совпавший по времени рост числа насильственных преступлений? Конечно, не напрямую. Корреляция – это не причинность, и, возможно, третий фактор – противление ценностям цивилизационного процесса – стал причиной как преображения поп-культуры, так и всплеска агрессивного поведения. К тому же подавляющее большинство беби-бумеров никогда не совершало никаких насильственных преступлений. Тем не менее установки и массовая культура усиливают друг друга, и в крайних точках, где это так или иначе может сказаться на впечатлительных личностях и субкультурах, существуют убедительные причинно-следственные связи между децивилизующим образом мыслей и потворством реальному насилию.
Одна из них – самокастрация системы уголовного правосудия Левиафана. Хотя рок-музыканты редко влияют на публичную политику непосредственно, писатели и интеллектуалы влияют, а они поддались духу времени и стали рационализировать модную разнузданность. Марксизм описывал жестокий классовый конфликт как путь к лучшему миру. Влиятельные мыслители вроде Герберта Маркузе и Пола Гудмана пытались соединить марксизм или анархизм с новой интерпретацией фрейдизма, уравнивая сексуальное и эмоциональное подавление с подавлением политическим, и приветствовали освобождение от всех ограничений как часть революционной борьбы. Возмутители спокойствия все чаще изображались борцами и нонконформистами, жертвами расизма, бедности и плохого воспитания. Граффити-вандалы стали «художниками», воры – «классовыми борцами», а уличные хулиганы – «общественными лидерами». Многие умные люди, отравленные радикальным шиком, делали невероятно глупые вещи. Выпускники элитных университетов собирали самодельные бомбы и ждали за рулем угнанных автомобилей, пока «радикалы» стреляли в охранников во время вооруженных ограблений. Нью-йоркские интеллектуалы «велись» на околомарксистскую болтовню психопатов и добивались их освобождения из тюрем[291].
С начала сексуальной революции на заре 1960-х и до подъема феминизма в 1970-х контроль над женской сексуальностью считался привилегией умудренных опытом мужчин. Похвальба сексуальным принуждением и насилием из ревности появлялась в популярных книгах, фильмах и в песнях, например у Beatles в “Run for Your Life”, у Нила Янга в “Down by the River”, Джими Хендрикса в “Hey Joe”, у Ронни Хокинса в “Who Do You Love?”[292] Такое поведение даже логически обосновывалось в политических сочинениях разного рода «революционеров». Вот что писал в своих мемуарах «Душа на льду» (Soul on Ice) – бестселлере 1968 г. – Элдридж Кливер, лидер «Черных пантер»:
Изнасилование – бунтарский акт. Мне нравилось попирать законы белого человека, бросать вызов его системе ценностей, и я осквернял его женщин – и, думаю, это соображение было для меня самым приятным, потому что я был крайне возмущен тем, как белые мужчины веками использовали чернокожих женщин. Я чувствовал, что вершу месть[293].
Почему-то интересы женщин, которых он осквернял в этом бунтарском акте, никогда не фигурировали ни в его политических взглядах, ни в отзывах на книгу (The New York Times: «Блестящая и изобличающая»; The Nation: «Примечательная книга… прекрасно написанная»; Atlantic Monthly: «Умный, беспокойный, страстный и красноречивый человек»)[294].
Наконец рационализация преступности добралась до судей и законодателей, и они все чаще отказывались помещать правонарушителей за решетку. Реформы той эпохи вовсе не оставляли на свободе «по формальным причинам» толпы жестоких уголовников, как можно предположить по фильмам о «Грязном Гарри», однако правоохранительные органы действительно отступали под натиском преступности. В США в период с 1962 до 1979 г. вероятность того, что преступление приведет к аресту, упала с 0,32 до 0,18, шанс, что арест приведет к тюремному заключению, – с 0,32 до 0,14, а риск, что преступление приведет к тюремному заключению, снизился с 0,1 до 0,02 – в пять раз[295].
Еще больше, чем возвращение преступников на улицы, делу навредило взаимное отчуждение между правоохранительными органами и местными сообществами, приведшее к упадку последних. Такие посягательства на общественный порядок, как бродяжничество, праздношатание и попрошайничество, были декриминализованы, а мелкие преступления вроде вандализма, граффити, безбилетного проезда и отправления естественных нужд на публике больше не привлекали внимания полицейских[296]. С появлением антипсихотических лекарств с их эпизодической эффективностью и расширением рамок психической нормы палаты психиатрических больниц опустели, увеличивая ряды бездомных. Владельцы магазинов и неравнодушные граждане, которые обычно присматривают за местным хулиганьем, под напором вандалов, попрошаек и грабителей отступили в пригороды.
Процесс децивилизации 1960-х гг. повлиял не только на политические решения, но и на личный выбор. Все больше молодых людей, как в песне Боба Дилана, отказывались «работать на ферме у Мэгги». Вместо того чтобы вести респектабельную семейную жизнь, они объединялись в мужские компании, где разворачивались знакомые циклы борьбы за лидерство: оскорбления, мелкая агрессия и жестокая месть. Сексуальная революция, предоставившая мужчинам множество возможностей без налагаемой браком ответственности, увеличила степень этой сомнительной свободы. Некоторые мужчины пытались найти свое место под солнцем в прибыльной торговле привозными наркотиками, где самостоятельное правосудие – единственный способ защитить право собственности. На смертельно опасном рынке крэка в конце 1980-х входной барьер был особенно низок, потому что этот наркотик можно было продавать мелкими дозами. В итоге, вероятно в том числе и за счет подростков-распространителей крэка, число убийств между 1985 и 1991 гг. выросло на 25 %. Вдобавок к насилию, сопровождающему любую торговлю запрещенными товарами, наркотики сами по себе, как и старый добрый алкоголь, снижают способность к самоконтролю и роняют искру в пороховую бочку.
Процесс децивилизации особенно сильно ударил по афроамериканской общине. Афроамериканцы стартовали с невыгодной позиции граждан второго сорта, что заставляло молодежь колебаться между респектабельным образом жизни и жизненным укладом социальных низов – как раз тогда, когда новые силы, направленные против истеблишмента, толкали их в неверном направлении. Правовая система защищала их еще хуже, чем белых американцев, как из-за старого полицейского расизма, так и из-за возникшей снисходительности судебной системы к преступности, жертвами которой чернокожие становились непропорционально часто[297]. Недоверие к юридической системе перерастало в цинизм и даже паранойю, оставляя единственную альтернативу – самостоятельное правосудие[298].
Сыграло роль и то свойство афроамериканской семьи, которое впервые было отмечено социологом Дэниэлом Патриком Мойнихэном. За свой нашумевший доклад 1965 г. «Негритянская семья: за вмешательство государства» (The Negro Family: The Case for National Action) он вначале был ославлен, а затем оправдан[299]. Значительная часть (а сегодня большинство) черных детей рождается вне брака, многие растут без отца. Эта тенденция, особенно заметная в начале 1960-х, усилилась в результате сексуальной революции и бездумной практики социальных льгот, поощрявшей молодых женщин «выходить замуж за государство», а не за отцов своих детей[300]. Хотя я не сторонник теории родительского влияния, утверждающей, что мальчики без отцов растут агрессивными, поскольку им не хватает ролевой модели или мужской дисциплины (Мойнихэн сам, к примеру, вырос без отца), распространение безотцовщины приводит к росту насилия по другой причине[301]. Молодые мужчины, не воспитывающие своих детей, в это время где-то болтаются, соревнуясь друг с другом за доминирование. В гетто такая комбинация взрывоопасна так же, как в ковбойских салунах и поселках золотоискателей, – на этот раз не потому, что женщин нет рядом, но потому, что женщины утратили свою выгодную переговорную позицию и не могут заставить мужчин вести цивилизованную жизнь.
Процесс повторной цивилизации (рецивилизация) в 1990-х
Было бы ошибкой думать, что бум преступности в 1960-х гг. обратил вспять сокращение насилия на Западе и что исторические тенденции насилия цикличны или скачут вверх-вниз от эпохи к эпохе. В 1980 г., в худший в криминальном отношении период недавнего прошлого, уровень убийств в США составлял 10,2 на 100 000, то есть четверть от уровня Западной Европы в 1450 г., одну десятую от уровня насилия среди инуитов и одну пятнадцатую от среднего уровня догосударственных обществ (рис. 3–3).
Да и эта цифра – верхний предел, а не стабильное явление и не шаг к новой норме. В 1992 г. случилась неожиданная вещь: уровень убийств снизился сразу на 10 % по отношению к предыдущему году и продолжал падать еще семь лет, достигнув в 1999 г. уровня 5,7 – самого низкого с 1966 г.[302] Что ошеломляет еще сильнее – эти цифры оставались неизменными лет десять, а потом упали еще ниже: от 5,7 в 2006 г. до 4,8 в 2010-м. Верхняя линия на рис. 3–18 отражает изменения в уровне насилия в США с 1950 г., в том числе и новое дно, достигнутое в XXI столетии.
На рис. 3–18 отображены и данные по Канаде начиная с 1961 г. Канадцы убивают в три с лишним раза реже, чем американцы, отчасти потому, что в XIX в. Королевская канадская конная полиция добралась до Западного Фронтира раньше, чем первые поселенцы, избавив их от необходимости культивировать агрессивную культуру чести. Несмотря на эту разницу, подъемы и спады уровня убийств движутся параллельно графику южного соседа (с коэффициентом корреляции между 1961 и 2009 гг., равным 0,85) и в 1990-х опускаются так же низко: на 35 % по сравнению с понижением на 42 % у американских соседей[303].
Параллельные траектории в Канаде и США – это только один из множества сюрпризов великого спада насилия в 1990-х. Две страны разнятся как в тенденциях экономического развития, так и в подходах к уголовному правосудию, и тем не менее обе пережили схожее снижение уровня насилия. То же самое можно сказать о большинстве стран Западной Европы[304].

Рис. 3–19 отражает уровень убийств в пяти крупных европейских странах в ХХ в., демонстрируя историческую траекторию, которую мы отслеживаем: продлившееся до 1960-х гг. долгосрочное снижение, начавшийся в эти неблагополучные годы подъем и недавнее возвращение к более мирному уровню. Даже крупные европейские страны демонстрируют этот спад, и хотя долго казалось, что Англия и Ирландия останутся исключениями, в 2000-х уровень насилия там тоже снизился.

Люди не только стали убивать меньше, они также начали воздерживаться и от других способов причинения вреда. В США уровень серьезных преступлений снизился наполовину, включая изнасилования, грабежи, избиения, кражи со взломом, воровство и даже угоны машин[305]. Результаты были заметны не только по цифрам статистических отчетов, но и в самой ткани повседневной жизни. Туристы и молодые работающие горожане вернулись в центры городов, и борьба с преступностью перестала быть главной темой президентских предвыборных кампаний.
Никто из экспертов этого не предсказывал. Даже когда спад насилия уже начался, все думали, что рост преступности, стартовавший в 1960-х, продолжится и дела примут еще худший оборот. В эссе, написанном в 1995 г., Джеймс Квинн Уилсон[306] утверждал:
Там, у горизонта, уже клубятся тучи, которые ветер скоро донесет до нас. Население снова молодеет. К концу десятилетия в стране будет на миллион больше людей в возрасте от 14 до 17 лет. Половина из этого дополнительного миллиона – мужчины. Шесть процентов станут опасными рецидивистами, а это на 30 000 больше молодых грабителей, убийц и воров, чем мы имеем сейчас. Готовьтесь[307].
Туча на горизонте пополнила копилку высокопарных слов, сказанных другими «говорящими головами» при обсуждении проблемы преступности. Криминолог Джеймс Фокс предсказывал «кровавую баню» в 2005 г., утверждая, что волна преступности «будет такой мощной, что 1995 год покажется нам добрыми старыми временами»[308]. Политолог и криминолог Джон Дилулио предупреждал, что к 2010 г. на улицы выйдет больше четверти миллиона «суперзлодеев, рядом с которыми легендарные уличные банды ”Кровников” и “Калек” будут выглядеть ручными котятами»[309]. В 1991 г. бывший редактор лондонской Times говорил, что «к 2000 году Нью-Йорк превратится в Готэм-сити без Бэтмена»[310].
Легендарный мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия мог бы сказать: «Если уж я делаю ошибку, то наилучшую!» (Уилсон поддержал тему, заметив: «Представители наук об обществе никогда не должны пытаться предсказать будущее; им хватает забот предсказывать прошлое».) Ошибкой криминологов была чрезмерная вера в краткосрочные демографические тенденции. Раздутый крэком пузырь насилия конца 1980-х втянул в себя множество тинейджеров, а к началу 1990-х число подростков должно было вырасти еще больше – отдаленные последствия беби-бума. Но общая численность криминально-опасной когорты, включающей не только подростков, но и 20-летних, в 1990-х на самом деле уменьшилась[311]. Однако даже эта уточненная статистика не объясняет спад насилия, характеризующий это десятилетие. Распределение населения по возрастам меняется медленно, пока каждая поколенческая свинья протискивается сквозь общего демографического питона[312]. Однако в 1990-х уровень преступности шел вниз семь лет подряд и задержался на новом низком уровне еще на девять лет. Как и в случае со взлетом преступности в 1960-х, изменения в уровне насилия для каждой возрастной группы превзошли эффект размера этих групп.
Экономика – другой традиционный подозреваемый, которого привлекают при объяснении преступных тенденций, – немногим лучше объясняет этот тренд. В США безработица в 1990-х снизилась, а в Канаде выросла, и тем не менее количество насильственных преступлений упало и в Канаде[313]. Во Франции и Германии безработица росла, а уровень насилия падал, а в Ирландии и Британии, наоборот, безработица снижалась, а уровень насилия рос[314]. Это не так удивительно, как кажется, ведь криминологи давно знают, что уровень безработицы не влияет напрямую на уровень насильственных преступлений (при этом наблюдается некоторая корреляция с уровнем преступлений против собственности)[315]. Да что там говорить, через три года после финансового кризиса 2008 г., который стал причиной худшего экономического спада со времен Великой депрессии, уровень убийств в Америке упал еще на 11 %, заставив криминолога Дэвида Кеннеди объяснять журналисту: «Идея, застрявшая у каждого в уме, – что, если экономика летит в тартарары, преступность растет – неверна. И никогда не была верна»[316].
Среди экономических показателей лучшим прогностическим фактором уровня насилия является неравенство[317]. Но коэффициент Джини, стандартный индекс неравенства доходов, в США с 1990 до 2000 г. рос, а преступность продолжала снижаться, в то время как в 1968 г., во время взлета преступности, этот индекс был на рекордно низком уровне[318]. Объясняя подъемы и спады насилия наличием неравенства, мы сталкиваемся с проблемой: хотя неравенство коррелирует с насилием в штатах и государствах в целом, оно не коррелирует по времени со скачками насилия внутри отдельно взятой страны, вероятно, потому, что реальная причина различий – не неравенство само по себе, а постоянные особенности культуры или государственного управления, которые влияют как на неравенство, так и на насилие[319]. Например, в обществах с высоким уровнем социального неравенства бедные районы остаются без полицейской защиты и рискуют стать зонами жестокой анархии.
Еще одна ложная зацепка обнаруживается в ученых разглагольствованиях, которыми пытаются увязать социальные тенденции с «умонастроением народа», сопровождающим текущие события. Террористическая атака 11 сентября 2001 г. привела к невероятным политическим, экономическим и эмоциональным потрясениям, но уровень убийств в ответ не подпрыгнул.
~
Падение преступности в 1990-х породило одну из самых странных гипотез в изучении насилия. Когда я рассказывал, что пишу книгу об историческом спаде насилия, мне постоянно сообщали, что этот феномен уже объяснен. Уровень насилия снизился, говорили мне, потому что после легализации абортов в 1973 г. (решение Верховного суда США по делу «Роу против Уэйда») нежеланные дети, которые выросли бы и стали преступниками, не родились главным образом потому, что их матери сделали аборт. Впервые я услышал об этой теории в 2001 г., когда ее выдвинули экономисты Джон Донохью и Стивен Левитт, но тогда мне она показалась слишком остроумной, чтобы быть верной[320]. Любая сенсационная гипотеза, которая объясняет крупные социальные тенденции одним-единственным недооцененным событием, практически со стопроцентной вероятностью окажется неверной, даже если в настоящий момент имеются данные в ее поддержку. Однако Левитт в соавторстве с журналистом Стивеном Дабнером популяризировал свою теорию в бестселлере «Фрикономика» (Freakonomics), и сегодня многие убеждены, что преступность в 1990-х снизилась потому, что еще в 1970-х женщины избавились от эмбрионов, обреченных развиться в преступников.
Справедливости ради нужно сказать: дальше Левитт доказывает, что решение по делу «Роу против Уэйда» было только одной из четырех причин спада насилия, и представляет сложные статистические расчеты в поддержку своей основной мысли. Например, он показал, что в штатах, легализовавших аборты до 1973 г., уровень насилия пополз вниз раньше, чем в прочих[321]. Но он сопоставляет две крайние точки длинной, гипотетической и трудноуловимой причинно-следственной цепи, где первое звено – возможность сделать аборт, а последнее – снижение уровня насилия два десятилетия спустя, и игнорирует все звенья посередине: предположения, что легализация абортов уменьшила количество нежеланных детей, что нежеланные дети чаще идут по кривой дорожке и что именно первое прореженное абортами поколение обеспечило спад насилия в 1990-х. Но стоит дать этой корреляции другое объяснение (например, что крупные либеральные штаты, первыми легализовавшие аборты, были также и первыми, по которым прокатилась и заглохла эпидемия наркотика крэка), и промежуточные звенья становятся неубедительными или исчезают вовсе[322].
Начать с того, что теория фрикономики предполагает, будто женщины с одинаковой вероятностью зачинали нежеланных детей до и после 1973 г. и единственное различие состояло в частоте рождения таких детей. Но, когда аборты были узаконены, пары могли начать чаще заниматься незащищенным сексом, а к абортам прибегать как к методу контроля рождаемости. В таком случае женщина зачинает больше нежеланных детей, с помощью аборта избавляется от большинства из них, но общее число нежеланных детей может остаться прежним. Более того, доля нежеланных детей могла даже возрасти, если женщины, полагаясь на возможность сделать аборт, чаще занимались незащищенным сексом, а забеременев, упускали время для аборта или решали рожать. Это может объяснить, почему начиная с 1973 г. доля детей, рожденных самыми уязвимыми категориями женщин – бедными, одинокими, несовершеннолетними и афроамериканками, не уменьшилась, как следовало бы согласно теории фрикономики. Она увеличилась, и намного[323].
Если же говорить об индивидуальных особенностях женщин из криминально опасного контингента, то здесь фрикономика, похоже, вообще понимает вещи «с точностью до наоборот». Факт, подтвержденный в нескольких исследованиях: среди женщин, забеременевших случайно и не готовых растить ребенка, те, кто прерывает беременность, с большей вероятностью окажутся дисциплинированными, трезвомыслящими и способными предвидеть последствия, а те, кто вынашивает и рожает, чаще бывают незрелыми дезорганизованными фаталистками, которые фокусируются на образе милого младенчика, а не на мысли о неуправляемом подростке[324]. Молодые женщины, выбирающие аборт, лучше учатся, реже живут на пособие и реже бросают школу, в отличие от тех, кто рожает или же не вынашивает беременность по естественным причинам. Получается, что право на аборт могло привести в мир поколение, более склонное к преступлениям, поскольку отсеяло именно тех детей, которые, благодаря генам или среде, с большей вероятностью смогли бы демонстрировать выдержку и самоконтроль.
К тому же идеи фрикономики о психологических причинах преступности словно вышли из комической арии члена банды из мюзикла «Вестсайдская история» («В семье я – явно лишний: // По пьянке был зачат. // Станешь плохим, // Если дома – ад!») и настолько же правдоподобны. Возможно, нежеланные дети, став взрослыми, и совершают больше преступлений, но куда вероятнее, что прямой причиной преступного поведения является не сам факт их нежеланности, а то, что женщины в криминальной среде рожают больше нежеланных детей. В исследованиях, сравнивающих результаты воспитания в семье с влиянием среды (сверстников), с исключением генетических факторов, практически всегда побеждает среда[325].
И наконец, если бы доступность абортов после 1973 г. сформировала более законопослушное поколение, спад преступности начался бы с младшей возрастной когорты, а по мере ее взросления возрастные рамки не затронутого насилием поколения расширились бы. Например, те, кому исполнилось 16 в 1993 г. (рожденные в 1977-м, когда аборты уже были разрешены), должны были бы совершать меньше преступлений, чем достигшие 16-летия в 1983 г. (рожденные в 1967-м, во времена запрета абортов). По той же логике, 22-летние в 1993 г. все еще должны были быть более агрессивными, поскольку родились в 1971 г., до решения по делу «Роу против Уэйда». Только в конце 1990-х, когда первое после исторического решения Верховного суда США поколение достигло 20-летия, юноши этого возраста должны были бы стать менее жестокими. На самом деле все было наоборот. Когда в конце 1980-х и начале 1990-х подросло первое после дела Роу поколение, они не потянули статистику убийств вниз, а устроили небывалый беспредел. Спад насилия начался, только когда старшее поколение, родившееся задолго до Роу, сложило свои стволы и ножи, и уже от них более низкие уровни убийств спустились по возрастной шкале к более молодым гражданам[326].
~
Так чем же объяснить случившийся спад насилия? Сделать это пытались многие социологи, но лучшее, что они смогли придумать, – это что причин у спада множество и точно определить их невозможно, потому что случилось слишком много всего сразу[327]. Тем не менее я думаю, что существует два правдоподобных и исчерпывающих объяснения. Первое – Левиафан стал больше, умнее и эффективнее. Второе – процесс цивилизации, который контркультура 1960-х пыталась повернуть вспять, восстановил свое обычное течение и даже вышел в новую фазу.
К началу 1990-х гг. американцев уже тошнило от количества уличных грабителей, вандалов и выстрелов из проносящихся автомашин, и страна приняла меры к усилению системы уголовного правосудия. Самая эффективная из этих мер была также и самой грубой: более длительные сроки заключения для большего числа преступников. Количество попадавших в тюрьму в США практически не менялось с 1920-х до начала 1960-х гг., а к началу 1970-х даже сократилось. Но затем оно взлетело почти в пять раз, и сегодня более 2 млн американцев находятся за решеткой – самый высокий показатель в мире[328]. Это три четвертых процента всего населения США, а доля молодых людей за решеткой еще выше, особенно если говорить об афроамериканцах[329]. Марафон посадок начался в 1980-х с нескольких нововведений. Среди них – законы, требующие обязательного назначения наказания (например, калифорнийский «Третий залет – и ты вне игры»), бум строительства тюрем (которые поначалу вызывали протесты: «Только не у меня на заднем дворе!», а потом стали восприниматься как новые стимулы развития экономики) и война против наркотиков (которая криминализовала хранение кокаина и других наркотических веществ даже в небольших количествах).
В отличие от более сложных способов борьбы с криминалом массовые посадки практически всегда снижают уровень преступности, поскольку это очень простой механизм с минимумом движущихся частей. Тюремное заключение убирает с улиц самых опасных личностей, обезвреживает их и вычитает из статистики несовершенные ими преступления. Лишение свободы особенно эффективно, если большое количество преступлений совершается небольшой частью населения. Изучение криминальных сводок в Филадельфии, например, показало, что 6 % молодых мужчин повинны более чем в половине всех правонарушений[330]. Люди, чаще совершающие преступления, сильнее рискуют попасться, так что именно их чаще всего вылавливают и отправляют в тюрьму. Более того, люди, совершающие насильственные преступления, попадают и в другие неприятности, потому что предпочитают немедленное удовлетворение отложенным выгодам. Они чаще бросают школу, работу, попадают в ДТП, провоцируют драки, хулиганят и воруют, злоупотребляют алкоголем и наркотиками[331]. В сети системы, отлавливающей наркоманов и других мелких правонарушителей, заодно попадется и некоторое количество опасных личностей, что дополнительно прореживает ряды агрессивных типов на улицах.
Кроме того, лишение свободы сокращает насилие и косвенно – путем знакомого нам эффекта сдерживания. Отсидевший в тюрьме подумает дважды, прежде чем снова преступить закон, и его знакомые тоже призадумаются, прежде чем идти по его стопам. Но доказать, что тюремное заключение удерживает людей от совершения преступлений (а не просто калечит их), нелегко, поскольку статистика изначально не дает такой возможности. В регионах с высоким уровнем преступности за решетку отправляют больше правонарушителей, и это создает иллюзию, будто лишение свободы увеличивает преступность, а не уменьшает ее. Но при должной изобретательности (например, сравнив рост числа заключений в тюрьму и последующий спад насилия или удостоверившись, не приводит ли более мягкая судебная политика к последующему росту насилия) можно проверить и эффект сдерживания. Исследования Левитта и других криминологов-статистиков подтверждают, что сдерживание работает[332]. А если вы предпочитаете мудреной статистике полевые эксперименты, обратите внимание на случившуюся в 1969 г. забастовку монреальской полиции. Жандармы оставили службу всего на несколько часов, и за это время город, известный своей безопасностью, потрясли шесть ограблений банков, 12 поджогов, сотня грабежей и два убийства[333]. После этого для восстановления порядка пришлось привлечь Королевскую канадскую конную полицию.