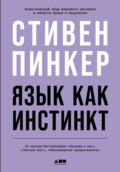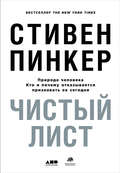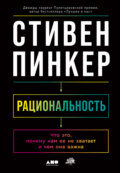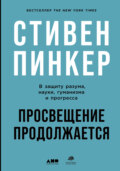Стивен Пинкер
Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше
Насилие в мире
Цивилизационный процесс распространяется не только вниз по социальной лестнице, но и по карте мира от западноевропейского эпицентра. На рис. 3–3 мы видели, что первой утихомирилась Англия, затем Германия, чуть позже Нидерланды. На рис. 3–8 видно, как эта волна распространялась по Европе в конце XIX и начале XXI в.

В конце XVIII в. мирным центром Европы были северные индустриальные страны (Великобритания, Франция, Германия, Дания и Бенилюкс), окруженные несколько более буйными Ирландией, Австро-Венгрией и Финляндией, которые, в свою очередь, граничили с еще более склонными к насилию Испанией, Италией, Грецией и славянскими государствами. Сегодня мирный центр расширился и охватывает всю Западную и Центральную Европу, а вот Восточную Европу и гористые Балканы еще накрывает тень беззакония разной степени плотности.
Насилие внутри стран тоже распределено неравномерно: отдаленные и горные районы еще долго остаются опасными после того, как утихнут города и густозаселенные сельскохозяйственные районы. На Шотландском высокогорье клановые войны велись до XVIII в., а в Сардинии, на Сицилии, в Черногории и других частях Балкан – до XX в.[225] Неслучайно кровавые классические повествования, с которых я начал, – Ветхий Завет и поэмы Гомера – созданы народами, жившими в гористой местности.
А как обстоят дела в остальных регионах мира? В большинстве европейских стран статистика убийств ведется на протяжении сотни и более лет, но о других континентах этого не скажешь. Даже сегодня данные полицейского учета, передаваемые в Интерпол, часто сомнительны, а порой совершенно неправдоподобны. Правительства зачастую считают, что то, насколько успешно они удерживают своих граждан от убийств, никого больше не касается. К тому же полевые командиры развивающегося мира описывают свой бандитизм в терминах освободительных политических движений, что затрудняет попытки отделить жертв гражданской войны от жертв организованной преступности[226].
Не забывая об этих ограничениях, давайте все же присмотримся к распределению насилия на карте мира в наши дни. Самые надежные данные поступают от Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ старается оценить причины смертности в максимально возможном количестве стран, опираясь на данные национальных министерств здравоохранения и другие источники[227]. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) дополняет эти данные своими оценками (максимальной и минимальной) по каждой отдельной стране. На рис. 3–9 на карту мира нанесены данные 2004 г. из последнего на момент написания этой книги отчета УНП[228]. Хорошие новости: средний уровень убийств по всем странам мира в этом наборе данных составляет 6 на 100 000 в год. Общий же уровень убийств по миру в целом, вычисленный без разделения по странам, в 2000 г., по оценке ВОЗ, составил 8,8 на 100 000 в год[229]. Оба показателя выигрывают в сравнении с трехзначными величинами для догосударственных обществ и двузначными – для средневековой Европы.

На карте видно, что Западная и Центральная Европа сегодня являются самыми безопасными регионами Земли. К странам с достоверно низким уровнем убийств относятся и страны Содружества, когда-то входившие в состав Британской империи, – Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, Канада, Мальдивы и Бермуды. Однако одна бывшая британская колония не переняла английскую модель цивилизованности, мы присмотримся к этой необычной стране в следующем разделе.
Некоторые из стран Азии тоже могут гордиться низким уровнем убийств, особенно те, что пошли по европейскому пути развития: Япония, Сингапур и Гонконг. Китай тоже сообщает о низком уровне убийств (2,2 на 100 000). Даже если мы примем данные из этой закрытой страны за чистую монету, при отсутствии временны́х рядов данных мы не можем узнать, что стоит за этими значениями – тысяча лет централизованного правления или же авторитарная природа нынешнего режима. Традиционные автократии (в том числе многие исламские государства) пристально следят за гражданами и жестоко и неукоснительно наказывают их, если те преступают черту; вот почему мы называем их «полицейскими государствами». Неудивительно, что обычно там низкий уровень насильственных преступлений. Но я не могу не упомянуть анекдот, из которого ясно, что Китай, подобно Европе, прошел через длительный процесс цивилизации. Элиас заметил, что табу на ножи, сопровождавшее снижение насилия в Европе, в Китае зашло еще дальше. Веками ножи в Поднебесной использовали только повара на кухне, нарезая пищу на мелкие, удобные для еды кусочки. За столом китайцы ножом не пользуются. «Европейцы – варвары, – цитирует китайцев Элиас. – Они едят кинжалами»[230].
А что происходит в других регионах мира? Криминолог Гэри Лафри и социолог Орландо Паттерсон утверждают, что кривая зависимости между преступностью и демократизацией похожа на перевернутую U. Крепкие демократии, как и традиционные автократии, представляют собой сравнительно безопасные места, но развивающиеся демократии и слабые демократии (их называют анократиями) часто страдают от насильственных преступлений и гражданских войн, время от времени перетекающих друг в друга[231]. Сегодня наиболее криминогенными регионами мира являются Россия, Африка к югу от Сахары и некоторые страны Латинской Америки. Во многих из них полиция и суды коррумпированы – они вытягивают взятки и с преступников, и с жертв, обеспечивая протекцию тому, кто больше заплатит. Ямайку (33,7 на 100 000), Мексику (11,1) и Колумбию (52,7) раздирают на части вооруженные формирования, спонсируемые наркомафией и действующие там, где закон не может до них дотянуться. За последние четыре десятилетия, с ростом трафика наркотиков, уровень убийств в этих странах резко возрос. Другие, например Россия (29,7) и Южная Африка (69), возможно, пережили процесс децивилизации в результате коллапса предыдущих форм правления.
Процесс децивилизации охватывает и страны, перешедшие от племенных войн к колониальному управлению, а затем к внезапной независимости, – назовем, к примеру, страны Центральной и Южной Африки и Папуа – Новую Гвинею (15,2). В статье «От копья до М-16» антрополог Полли Висснер описала историческую траекторию насилия у новогвинейской народности энга. Начала она с выдержек из полевого дневника антрополога, работавшего в этом регионе в 1939 г.:
Мы были сейчас в самом сердце долины Лай, одной из прекраснейших в Новой Гвинее, если не во всем мире. Повсюду прекрасно устроенные садовые участки, где растет сладкий картофель и купы казуарин. Ровные удобные дороги пересекают местность, рощицы усеивают ландшафт, напоминающий огромный ботанический сад.
Эти заметки Ролли Висснер сравнивает с записями из своего дневника 2004 г.:
Долина Лай практически заброшена. Как говорят энга, рай для птиц, змей и крыс. Дома сожжены дотла, посадки сладкого картофеля заросли сорняками, от деревьев остались пни. В лесах бушуют войны, уносящие множество жизней: местные «рэмбо» вооружены пистолетами и мощными винтовками. На обочинах дорог, там, где еще несколько лет назад шумели рынки, сейчас – зловещее запустение[232].
Народ энга никогда нельзя было назвать миролюбивым. Одно из племен, мае энга, представлено на рис. 2–3 линией, показывающей, что они истребляли друг друга, достигая годового уровня в 300 убийств на 100 000 человек – отрицательный рекорд этой главы. Здесь работали обычные гоббсовские механизмы: изнасилования и прелюбодеяния, кража свиней и присвоение участков земли, оскорбления и, разумеется, месть, месть и еще раз месть. Тем не менее энга отдавали себе отчет во вредоносности войн, и некоторые племена предпринимали попытки (порой успешные) их ограничить. Например, они разработали законы против военных преступлений, напоминающие Женевскую конвенцию: запретили уродовать тела и убивать переговорщиков. И хотя порой энга вступали в разрушительные войны с другими деревнями и племенами, внутригрупповое насилие они старались контролировать. Каждое общество сталкивается с конфликтом интересов между молодыми людьми, которые хотят доминировать (прежде всего с целью доступа к женщинам), и старшим поколением, желающим минимизировать ущерб от усобиц в семье и общине. Старейшины энга собирали беспокойную молодежь в сообщества холостяков, поощряя их контролировать злобные побуждения и внушая истины типа: «Кровь человека легко не смоешь» и «Кто убивает свинью – живет долго, а кто убивает человека – нет»[233]. Еще один цивилизующий механизм их культуры – нормы гигиены и пристойного поведения, о которых Висснер рассказала мне в письме:
Во время дефекации энга прикрываются накидками, чтобы не оскорбить никого, даже солнце. Для мужчины встать спиной к дороге и помочиться – немыслимая грубость. Они тщательно моют руки перед приготовлением еды, они очень скромны и всегда прикрывают гениталии. Хотя к сморканию относятся проще.
Но что важнее всего, энга легко приспособились к начавшемуся в конце 1930-х гг. Pax Australiana, Австралийскому миру. В последующие два десятилетия войны утихли, и многие энга с облегчением отказались от насилия, предпочитая разрешать споры в суде, а не на поле битвы.
Однако, когда в 1975 г. Папуа – Новая Гвинея получила независимость, насилие среди энга тут же возобновилось. Правительственные чиновники раздавали земли и привилегии представителям своих кланов, провоцируя недовольство и месть со стороны обделенных. На смену традиционным сообществам холостяков пришли школы, где молодых энга готовили занять несуществующие рабочие места, – в итоге молодежь присоединялась к преступным рэскол-группировкам[234]. Они отвергали контроль старейшин и не подчинялись традиционным племенным нормам. Молодежь банды манили доступностью алкоголя, наркотиков, азартных игр в ночных клубах и огнестрельного оружия (в том числе автоматического – М-16 и АК-47). Страну, почти как во времена средневековых рыцарей, захлестнула стихия насилия, разбоев и поджогов. Государство, то есть необученная и слабо вооруженная полиция и продажные чиновники, были не способны поддерживать порядок. Управленческий вакуум, ставший следствием стремительной деколонизации, повернул цивилизационный процесс вспять, лишив жителей Папуа – Новой Гвинеи как традиционных норм поведения, так и современных институтов правоприменения. Такое падение нравов свойственно и другим бывшим колониям, что создает турбулентность, направленную против глобального тренда на снижение уровня убийств.
Западным наблюдателям часто кажется, что насилие в регионах, где сегодня царит беззаконие, постоянно и непреодолимо. Но в истории немало случаев, когда сообщества оказывались по горло сыты кровопролитием и предпринимали маневр, который криминологи назвали цивилизационным наступлением[235]. Спад насилия в результате укрепления государства и развития торговли происходит сам по себе и является своего рода побочным продуктом, но цивилизационное наступление – это целенаправленные попытки части общества (обычно женщин, старейшин или религиозных деятелей) усмирить местных «рэмбо» и восстановить нормальную жизнь. Висснер описала цивилизационное наступление на территориях энга в 2000-х[236]. Церковь постаралась снизить популярность бандитского образа жизни, привлекая молодежь к себе с помощью спорта, музыки и молитв, заменяя этику мести этикой прощения. В 2007 г. появилась мобильная связь, и старейшины племен оперативно информировали друг друга о разгорающихся конфликтах, а специальные «группы быстрого реагирования» спешили уладить дело, пока ситуация не вышла из-под контроля. Самых безудержных подстрекателей в кланах удалось усмирить, иногда посредством жестоких публичных казней. Старейшины вынудили муниципалитеты запретить азартные игры, алкоголь и проституцию, и молодое поколение откликнулись на принятые меры, осознав, что «жизнь Рэмбо коротка и бессмысленна». Висснер подсчитала: в 2000-х гг. число убийств после нескольких десятилетий роста заметно упало. Как мы увидим, это не единственный пример успешного цивилизационного наступления в истории.
Насилие в США
Насилие – явление столь же американское, как пирог с вишней.
Х. РЭП БРАУН[237]
Даже если спикер «Черных пантер» Х. Рэп Браун и перепутал вишневый пирог с яблочным, он верно указал на одну из типичных примет американской действительности. Статистика убийств в США отличается от статистики других западных демократий. В этом рейтинге Соединенные Штаты ближе к задиристому населению Албании и Уругвая, чем к родственным народам Британии, Нидерландов и Германии, демонстрируя значения, сравнимые со средним мировым уровнем. На протяжении XX в. уровень убийств в общем не снизился, что отражено на рис. 3–10 (для диаграмм XX в. я использую не логарифмическую, а линейную шкалу).

Уровень убийств в Америке полз вверх до 1933 г., сорвался вниз в 1930–1940-х гг., в 1950-х оставался довольно низким, резко взлетел в 1962 г., в 1970–1980-х витал где-то в стратосфере и только в 1992 г. вновь начал опускаться. В 1960-х уровень насилия поднялся во всех западных демократических государствах, я вернусь к этому вопросу в следующем разделе. Но почему США вошли в XX в., имея процент убийств гораздо выше британского, и так и не сократили разрыв? Может быть, США – это исключение из правила, согласно которому страны с хорошим правительством и крепкой экономикой проходят через процесс цивилизации, снижающий уровень насилия? И если так, то чем США от них отличаются? В газетных статьях нередко можно наткнуться на псевдообъяснения вроде такого: «Америка более агрессивна потому, что наша культура предрасполагает к насилию»[238]. Как разорвать этот замкнутый круг? Дело ведь не в том, что американцы обожают палить во все стороны без разбора. Даже если не считать убийства, совершенные с применением огнестрельного оружия, и принять во внимание только убийства, совершенные с помощью веревок, ножей, стальных труб, монтировок и так далее, американцы все равно убивают гораздо чаще, чем европейцы[239].
Европейцы всегда считали Америку нецивилизованной страной, но это верно лишь отчасти. Чтобы понять особенности американского насилия, нужно помнить, что Соединенные Штаты – это, в сущности, соединенные государства. В вопросе насилия США не одна страна, а целых три. На карте 3–11 такой же растушевкой, что и на 3–9, отражен уровень убийств в 50 американских штатах в 2007 г.
Здесь отчетливо видно, что некоторые штаты не так уж сильно отличаются от Европы. В их числе оправдывающие свое название штаты Новой Англии и полоса северных штатов, протянувшаяся в направлении Тихого океана (Миннесота, Айова, обе Дакоты, Монтана и Северо-Тихоокеанские штаты), а также Юта. И дело не в одинаковом климате – Орегон в этом смысле не похож на Вермонт, – а скорее в исторических путях миграции, которая шла в основном с востока на запад. Эта полоса мирных штатов, уровень убийств в которых не достигает 3 на 100 000 человек в год, – вершина градиента, сгущающегося от севера к югу. На юге расположились Аризона (7,4) и Алабама (8,9), которые проигрывают в сравнении с Уругваем (5,3), Иорданией (6,9) и Гренадой (4,9). А ведь есть еще и Луизиана (14,2) с уровнем убийств, близким к Папуа – Новой Гвинее (15,2)[240].
Второй контраст не так заметен на карте. Уровень убийств в Луизиане выше, чем в других южных штатах, а значения по округу Колумбия (еле заметная черная точка) зашкаливают за 30,8 – это на уровне самых опасных центральноамериканских и африканских стран. Это исключения, и причина их – в высокой доле проживающих там афроамериканцев. Нынешняя разница в уровне убийств среди белых и среди черных в Америке потрясает воображение. В 1976–2005 гг. средний уровень убийств среди белых американцев был равен 4,8, среди черных – 36,9[241]. Дело не только в том, что черных арестовывают и осуждают чаще, этот разрыв нельзя объяснить расовой дискриминацией. На него указывают и результаты анонимных опросов, в рамках которых жертвы называют расовую принадлежность нападавших или когда люди вспоминают собственную историю правонарушений[242]. Кстати, хотя процент афроамериканцев выше в южных штатах, разница в уровне насилия между Югом и Севером США не является следствием разницы между белым и черным населением. Белые южане агрессивнее белых северян, а черные южане, в свою очередь, агрессивнее черных жителей северных штатов[243].
И хотя жители северных штатов и белые американцы несколько агрессивнее западных европейцев (у которых средний уровень убийств равен 1,4), эта разница гораздо меньше разницы внутри страны. А стоит копнуть чуть глубже, становится ясно, что и США прошли через запущенный государством процесс цивилизации, хотя разные регионы пережили его в разное время и в разной мере. Копать неизбежно придется, потому что в сфере учета убийств США довольно долго были отсталой страной. Большинство убийств расследовались на уровне штатов, до 1930-х гг. адекватная федеральная статистика не велась. К тому же до недавнего времени то, что мы сегодня называем США, было постоянно меняющейся величиной. Основной состав из 48 штатов окончательно оформился только к 1912 г., и многие штаты периодически наполнялись очередной волной иммигрантов, которые меняли демографию Америки. Хотя большинство траекторий похожи на американские горки, они показывают, как различные части страны приходили к цивилизации по мере того, как анархия дальних рубежей уступала место государственному контролю.

На рис. 3–12 сравниваются данные Рота по Новой Англии с показателями, вычисленными Эйснером по Англии. Заоблачно высокий уровень насильственных смертей в колониальной Новой Англии подтверждает наблюдение Рота, согласующееся с мыслью Эйснера: «Эпоха приграничного насилия с уровнем убийств около 100 на 100 000 взрослых в год закончилась в 1637 году, когда английские колонисты и их союзники из числа коренных американцев закрепили свое господство в Новой Англии». После укрепления государственного контроля графики, составленные для Англии и Новой Англии, становятся подозрительно похожими.

Прочие северо-западные штаты тоже продемонстрировали падение с трехзначных и двузначных значений до типичных для современного мира однозначных. Нидерландская колония Новая Голландия с поселениями от Коннектикута до Делавэра пережила резкий спад насилия уже в первые десятилетия своего существования: с 68 до 15 на 100 000 (рис. 3–13). Но когда в XIX в. сбор данных возобновился, оказалось, что США дрейфуют прочь от двух метрополий. Хотя более отдаленные и этнически однородные части Новой Англии (Вермонт и Нью-Гэмпшир) сохраняли уровень ниже 1 на 100 000, Бостон в середине XIX в. стал опаснее, чем был прежде, обойдя города бывшей Новой Голландии – Нью-Йорк и Филадельфию.

Зигзаги северо-восточных штатов иллюстрируют две особенности американской версии процесса цивилизации. Тот факт, что среднее значение по разным штатам не зашкаливает, но и не опускается в самый низ графика, предполагает, что укрепление государственной власти на дальних рубежах страны может снизить годовой уровень убийств на порядок или около того – от 100 до примерно 10 на 100 000 человек. Но если в Европе нисходящая тенденция продолжалась и дальше, до единицы, то в Америке уровень обычно останавливался на значениях 5–15, где и находится до сего дня. Рот предположил, что, как только эффективное правительство утихомирит население с уровня сотен до десятков убийств на 100 000 человек в год, дальнейшее его снижение будет зависеть от степени легитимности правительства, доверия народа законам и установленному порядку. Напомню, что Эйснер сделал схожее замечание по поводу цивилизационного процесса в Европе.

Согласно многим собранным Ротом малым базам данных, в середине XIX в. насилие в Америке возросло – и это вторая особенность американской версии цивилизационного процесса[244]. Ход и последствия Гражданской войны нарушили социальный баланс во многих регионах страны, а города северо-востока захлестнула волна эмиграции из Ирландии, как мы видели, отстававшей от Англии по скорости сокращения числа убийств. В XIX в. американцы ирландского происхождения, подобно афроамериканцам в следующем столетии, были более агрессивны, чем их соседи, по большей части потому, что они и полиция не воспринимали друг друга всерьез[245]. Но во второй половине XIX в. силы правопорядка в американских городах разрослись, стали профессиональнее и начали служить системе уголовного правосудия, а не осуществлять собственное посредством полицейских дубинок. В результате в XX в. уровень убийств среди белых американцев в крупных городах северной части страны снизился[246].
Вторая половина XIX в. также ознаменовалась важными переменами. Диаграммы, которые я приводил до сих пор, показывают данные для белых американцев. Рис. 3–14 демонстрирует уровень убийств в двух городах, в которых показатели убийств среди белого и черного населения можно подсчитать по отдельности. Этот график проливает свет на тот факт, что разница в количестве убийств, совершаемых белыми и черными американцами, существовала не всегда. В первой половине XIX в. в городах северо-востока, в Новой Англии, на Среднем Западе и в Виргинии американцы разных рас убивали друг друга в равных пропорциях. Позже данные начали разниться, и брешь стала еще шире в XX в., когда количество убийств среди афроамериканцев стремительно взлетело, в три раза превысив показатели белых в Нью-Йорке 1850-х гг. и в 13 раз – столетием позже[247]. О причинах, включающих экономическую сегрегацию и сегрегацию по месту жительства, можно написать еще одну книгу. Но, как видно, одна из причин в том, что афроамериканцы с низким уровнем дохода жили, по сути, без государства, полагаясь для защиты своих интересов больше на культуру чести (или, как ее еще называют, «кодекс улицы»), чем на закон[248].
~
Первыми успешно развивающимися английскими поселениями в Америке были Новая Англия и Виргиния. Если взглянуть на рис. 3–13 и 3–15, может показаться, что за первые 100 лет своего существования обе колонии прошли через сходные цивилизационные процессы. Но, присмотревшись к значениям на оси вертикалей, понимаешь, что показатели убийств для северо-востока попадают в промежуток от 0,1 до 100, а для юго-востока – от 1 до 1000, что в 10 раз больше. В отличие от разрыва между черными и белыми, расхождение между Севером и Югом имеет куда более глубокие корни в американской истории. С самого начала колонизации уровень насилия в колониях Чесапикского залива на территории Мэриленда и Виргинии был выше, чем в Новой Англии. И хотя он и снизился до приемлемых значений (1–10 на 100 000) и держался на этом уровне большую часть XIX в., другие регионы населенного Юга колебались в нижней части интервала 10–100 – взгляните, например, на цифры плантаторских округов Джорджии. Удаленные и горные регионы, такие как окраины Джорджии и граница между штатами Теннесси и Кентукки, оставались на нецивилизованном уровне в 100 и больше убийств на 100 000 человек, причем некоторые – даже в XIX в.

Почему у Юга такая долгая история насилия? Самый исчерпывающий ответ: цивилизаторские усилия правительства никогда не продвигались на американский Юг так глубоко, как на Север (с Европой не будем и сравнивать). Историк Питер Спиренбург провокационно предположил, что в Америку «демократия пришла слишком рано»[249]. В Европе сначала государство разоружило население и заявило монополию на насилие, а уже затем народ взял под контроль государственный аппарат. В Америке граждане пришли к власти раньше, чем государство принудило их сдать оружие: право иметь и носить его, как известно, сохраняется за ними и подтверждается Второй поправкой к Конституции. Другими словами, американцы, особенно на Юге и Западе, так в полной мере и не заключили общественный договор с государством, наделяющий последнее исключительным правом на законное применение силы. Легитимное насилие в американской истории по большей части было правом еще и отрядов милиции, вигилантов, линчующих толп, корпоративной полиции, детективных агентств и всевозможных Пинкертонов-одиночек, а еще чаще оставалось прерогативой частных лиц.
Как заметили историки, на Юге это распределение власти всегда было свято и неприкосновенно. По словам историка-криминолога профессора Эрика Монкконена, в XIX в. «на Юге государство намеренно оставалось слабым, отказываясь от обязанностей вроде исполнения наказаний и отдавая их на откуп гражданам»[250]. Если убийство считалось «мотивированным», дело спускали на тормозах, а «большинство убийств… в южном захолустье были мотивированными – в том смысле, что жертва не сделала все возможное для того, чтобы спастись, или к убийству привел личный конфликт, или просто жертва и преступник были такими людьми, которые обычно убивают друг друга»[251].
Склонность южан полагаться на собственные силы при установлении правосудия долго оставалось частью мифологии Юга. Прививалась она еще в детстве. Юному Эндрю Джексону (президенту-дуэлянту, в котором, по его собственным словам, при ходьбе громыхали застрявшие в нем пули) мать советовала: «Никогда не обращайся в суд, если тебя оклеветали, оскорбили или избили. Всегда решай эти дела сам»[252]. Таким же подходом бравировали задиристые кумиры Юга – Дэниэл Бун и «король Дикого Фронтира» Дэви Крокетт. Эта склонность поддерживала семейные вендетты – вспомним классическую вражду семейств Хэтфилдов и Маккоев на границе Кентукки и Западной Виргинии. Она не только увеличивала статистику убийств, но и оставила след в психологии современных южан[253].
Самостоятельное правосудие держится на убедительной демонстрации доблести и решимости, и американский Юг по сей день одержим идеей эффективного устрашения, также известной как культура чести. Культура чести, не поощряя корыстное или инструментальное насилие, одобряет его в качестве мести за оскорбление или иное ущемление интересов. Психологи Ричард Нисбетт и Дов Коэн показали, что этот менталитет до сих пор пронизывает законы, политические принципы и установки южан[254]. Они подсчитали, что количество убийств, совершенных при ограблении, на Юге не больше, чем на Севере. Разница заметна, только когда дело касается личных конфликтов. В ходе проведенных опросов южане порицали насилие как таковое, но одобряли, если оно применялось, чтобы защитить семью и дом. Законы южных штатов опираются на ту же мораль. Они наделяют граждан правом убивать для самозащиты и защиты собственности, накладывают меньше ограничений на покупку оружия, разрешают телесные наказания в школах и выносят за убийство смертный приговор, который уголовная система Юга с готовностью приводит в исполнение. Южане чаще выбирают армейскую карьеру, учатся в военных академиях и занимают воинственную позицию во внешнеполитических вопросах.
В серии остроумных экспериментов Нисбетт и Коэн показали, как культура чести влияет на поведение южан. Исследователи разослали в компании по всей стране поддельные письма с просьбой о работе. Половина из них содержала следующее признание:
Я хочу быть честным и избежать недопонимания, поэтому вам нужно кое-что узнать. Я был осужден за преступление, конкретнее – за убийство. Вы, скорее всего, захотите услышать подробности, прежде чем слать мне приглашение на работу, так что я объясню. Я ввязался в драку с типом, который завел интрижку с моей невестой. Я жил тогда в маленьком городке, и однажды вечером этот человек оскорбил меня в баре в присутствии моих друзей. Он сказал при всех, что спал с моей невестой. Он смеялся мне в лицо и предлагал выйти и решить все по-мужски. Я был молод и не хотел отступать на глазах у всех. Мы вышли на улицу, и он напал на меня. Он свалил меня на землю и схватил бутылку. Я мог бы убежать, и судья потом сказал, что так я и должен был поступить, но моя гордость не позволила мне сделать этого. Я поднял валявшуюся на земле трубу и ударил его. Я не хотел его убивать, но через несколько часов он умер в больнице. Я понимаю: то, что я сделал, – неправильно.
Экспериментаторы разослали такое же количество писем, в которых вымышленный соискатель «признавался» в другом преступлении – угоне автомобиля, который он совершил по глупости, желая добыть денег для своей жены и детей. В ответ на письмо с признанием в убийстве ради защиты чести компании с Юга и с Запада чаще, чем северяне, присылали автору приглашения на работу, и их ответы были выдержаны в гораздо более теплом тоне. Например, владелица магазина с Юга извинилась, что у нее сейчас нет свободных вакансий, и добавила:
Что касается истории из вашего прошлого, наверное, любой мог попасть в такую ситуацию. Это был несчастный случай, и никто не имеет права вас в этом упрекать. Ваша честность подтверждает вашу искренность… Я желаю вам удачи в будущем. Вы позитивно настроены и стремитесь работать. Именно эти качества сегодня хотят видеть работодатели в своих сотрудниках. Когда устроитесь, заезжайте повидаться, если будете поблизости[255].
Ничего такого же приветливого не написали ни компании с Севера, ни компании, получившие письмо с версией об угоне. Более того, северные компании скорее были готовы простить угон, чем убийство ради защиты чести, южные же и западные компании чаще закрывали глаза на убийство ради защиты чести, но не на кражу.
Нисбетт и Коэн зафиксировали южную культуру чести и в ходе лабораторных экспериментов. Объектом их исследования были не «мужланы с болот Миссисипи», а благополучные студенты Мичиганского университета, прожившие на Юге по меньшей мере шесть лет. Их набирали для участия в психологическом эксперименте по «изучению некоторых психологических аспектов мышления в условиях дефицита времени» – немного абракадабры, маскирующей подлинную цель исследования. Проходя в лабораторию по узкому коридору, студенты должны были протискиваться мимо помощника экспериментатора, перебиравшего бумаги в шкафу. В половине случаев, когда респондент касался его, тот резко задвигал ящик, бормоча: «Придурок!» Потом экспериментаторы (которые не знали, оскорбили этого конкретного студента или нет), приглашали испытуемого в лабораторию, наблюдали за его поведением, проводили опрос и брали кровь на анализ. Они обнаружили, что студенты из северных штатов отшучивались и вели себя так же, как и контрольная группа, в которой никого не обругали. А вот студенты из южных штатов входили в лабораторию, кипя от негодования. Их ответы показывали снижение самооценки, а в крови повышался уровень тестостерона и кортизола – гормона стресса. Они более жестко общались с экспериментатором, крепче жали ему руку, а на обратном пути, когда другое подставное лицо загораживало им путь в узком коридоре, отказывались отойти и уступить дорогу[256].