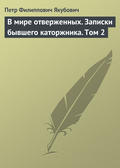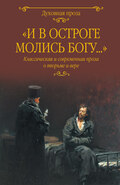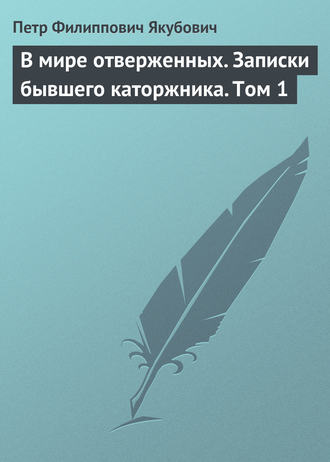
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Не могу не сказать тут же несколько слов об арестантской одежде. Сибирская администрация, ближе знакомая с климатическими и другими местными условиями, глядит сквозь пальцы на присутствие у арестантов в дороге собственных вещей. Я не говорю уже о том, что, помимо практических соображений, и простая справедливость требует менее строгого и формалистически-жесткого отношения к арестантам, находящимся в пути, только что начавшим свое многострадальное каторжное поприще и окруженным всевозможными неудобствами и лишениями; другое дело – после прибытия на место назначения, где жизнь имеет прочные устои, идет по раз установленной колее. В России чиновники не руководствуются, к сожалению, ни отвлеченными, ни практическими соображениями и неукоснительно следуют букве инструкций. В Москве у меня отобрали все свое и отправили в дорогу в одном казенном одеянии, отняв даже иголку и нитки, и мне пришлось страшно зябнуть, простужаться и вынести много не нужных ни для кого лишений и страданий. Казенные вещи не приспособлены ни к переменам погоды и климата, ни к особенностям отдельных индивидов; все подведено под один ранжир – и рост, и здоровье, и привычки, – тело, как и душа. Так называемые, например, наушники казенной шапки оказались пришитыми таким образом, что лежали у меня на спине, точно я был заяц, а не человек; ноги мои, завернутые в жиденькие холщовые онучки, тонули, как в бездонных бочках, в броднях-левиафанах,{8} и я не мог в них ходить по-человечески; напротив, узкие брюки с трудом натягивались на ноги и немилосердно поролись по всем швам, треща при малейшем неосторожном движении…
Обыкновенно на партию в четыреста человек, имеющую при себе столько же пудов багажу и изрядное количество стариков и больных, дается тридцать – сорок, подвод, половина которых идет под багаж ("бутор") и отправляется в путь рано утром, еще до выступления партии. Остается около пятнадцати подвод для больных и слабых. Ямщики пускают на каждую подводу четырех, и только после большой перебранки пять человек. Большинство мест занимается такими больными, право которых на сиденье никто не смеет оспаривать, и только очень немного вакансий остается для слабосильных, не могущих пройти пешком всю 25-40-верстную дорогу. Эти места берутся буквально с бою, и часто видишь, как бежит сзади телеги какая-нибудь беспомощная, жалкая личность, тщетно умоляющая "дать посидеть" ей, а на телеге возвышается между тем нахальная фигура здоровенного детины, сильного кулаком, горлом и именем, бродяги. Нужно прибавить к этому, что распоряжение свободными местами на подводах составляет одну из статей дохода артельного старосты.
Бродяги вообще являются сущим наказанием каждой партии. Это люди – по преимуществу испорченные, не имеющие за душой, что называется, ni foi, ni loi,[17] но они цепко держатся один за другого и составляют в партии настоящее государство в государстве.
Бродяга, по их мнению, высший титул для арестанта, он означает человека, для которого дороже всего на свете воля, который ловок, умеет увернуться от всякой кары. В плутовских глазах бродяги так и написано, что какой, мол, он непомнящий! Он не раз, мол, бывал уже "за морем", то есть за Байкалом, в каторге, да вот не захотел покориться – ушел!.. Впрочем, он и громко утверждает то же самое, в глаза самому начальству.
– Который раз идешь, борода? – спрашивает какой-нибудь офицер с добродушно-фамильярной усмешкой.
– Пятый раз, ваше благородие, – отвечает борода, становясь в солдатскую позу, – два раза за море ходил, два раза в Иркутскую, да вот теперь в Енисейскую.
– Смотри, мошенник, в шестой раз пойдешь- уличу!
– Рад стараться, ваше благородие, – отшучивается мошенник, – авось, к тому времени и вы повышение в чине получите – в Якутскую переведетесь.
Партия хохочет, офицер в смущении отходит в сторону.
– Что вы с такими бестиями поделаете? – обращается он в сторону интеллигентов.
Каторжная часть партии, особенно в Западной Сибири, где бродяги составляют большинство, находится обыкновенно в загоне; их меньше, они бесправнее, запуганнее, на них как бы по преимуществу лежит печать отвержения, даже с арестантской точки зрения: не сумел, мол, выкрутиться! А то и еще хуже: за сухари про-. дал себя!.. Уважением пользуются только "вечные" да те, про которых наверно знают, что они уже не в первый раз идут и опять сумеют "сорваться". Но вообще каторжная часть партии по преимуществу зовется презрительным именем "кобылки" (сибирское название саранчи) и "шпанки" (стадо овец). Положительно отказываешься порой верить тому, что рассказывают о проделках бродяг в тюрьмах и по дороге, а между тем не верить нельзя – это неприкрашенные факты. Бродяги – царьки в арестантском мире, они вертят артелью как хотят, потому что действуют дружно. Они занимают все хлебные, доходные места: они – старосты и подстаросты, повара, хлебопеки, больничные служителя, майданщики, они все и везде. В качестве старост они недодают кормовых, продают места на подводах; в качестве поваров крадут мясо из общего котла и раздают его своей шайке, а несчастную кобылку кормят помоями, которые не всякая свинья станет есть; больничные служителя-бродяги морят голодом своих пациентов, обворовывают и часто прямо отправляют на тот свет, если это оказывается выгодным. Узнав, что у кого-нибудь из кобылки есть деньги, зашитые в "ошкуре" (в поясе), они подкарауливают его в уединенном месте, хватают среди белого дня за горло и грабят. Делают еще более нахальные вещи. На виду у сотни арестантов какой-нибудь "Иван", одетый в красную рубаху и побрякивающий двумя-тремя серебрушками в бездонном кармане шаровар, присосеживается к чужой жене, начинает обнимать и целовать ее на глазах у мужа и, если тот протестует, с помощью товарищей избивает его до полусмерти, а жену берет себе уже по праву победителя. Хорошо организованная "бродяжня" помещается всегда на нарах. Староста-бродяга, по обычаю впускаемый в этап. раньше всех, еще до окончания поверки, занимает для своих товарищей лучшие места, а каторжная кобылка ютится большею частью под нарами, на голом полу, в грязи, темноте и холоде. Впрочем, в последнее время бродягам, слышно, сломили рога. Больше всего подкосил их Сахалин, поглотивший в свои недра тысячи беспаспортного люда; сыграли роль и вообще более строгие узаконения относительно бродяжества. Прежде бродяг судили на поселение, где бы их ни арестовывали, но с 1878 года на поселение судят только арестованных в российских губерниях, а всех остальных – в каторгу.[18]
Из каторги же сотни и тысячи пересылаются на Сахалин. Ряды бродяг сильно стали редеть – особенно бродяг старых, закаленных в боях, строго следивших за неуклонным соблюдением старинных арестантских законов. К этому нужно прибавить, что тюремные условия изменились: начальство начало вмешиваться в артельные порядки арестантов, в их интимную, внутреннюю жизнь, став при этом решительно на сторону каторжан; во многих тюрьмах бродягам прямо запрещено занимать какие бы то ни было артельные должности. Стала и каторжная кобылка поднимать голову. В томской пересыльной тюрьме, где собирается иногда до трех тысяч арестантов, несколько раз происходили страшные избиения бродяг. В одной такой бойне (в середине 80-х годов) их было убито и изувечено, говорят, до пятидесяти человек. Новый дух, проникающий в тюремный мир, производит общее разложение и падение старинных арестантских обычаев и нравов. Много исчезает симпатичных, но еще более безобразных сторон. Сухарника (сменщика), изменившего своему договору, прежде обязательно, "пришивали", если не в одной, так в другой тюрьме; убивали также того, кто "засыпал" (уличил) товарищей по делу, всех "язычников" (доносчиков). В той же томской тюрьме в прежние годы чуть не каждую ночь случались убийства, и из тюремного колодца нередко вытаскивали трупы пропавших перед тем без вести арестантов. По всему тюремному миру, начиная от Киева вплоть до Владивостока, ходили, бывало, "записки", указывавшие на преступление какого-нибудь арестанта против обычного права и настаивавшие на его "прикрытии". Существовал даже арестантский закон- казнить смертью "язычника" по получении на его счет семи подобных записок…
Теперь бродяги начинают вести себя смирнее и, когда видят неустойку в словесной стычке с каторжными, только скрежещут зубами и говорят, отходя прочь: "Не те времена… Новый род!"
Возвращаюсь к своему описанию этапного пути. У нас, политических, как я сказал выше, было свое отдельное помещение, хотя нередко очень горькой ценой доставалось оно. Этапы построены не все по одному плану, и каждый раз, подъезжая к месту отдыха, мы принуждены были волноваться и гадать о том, что ждет нас в сегодняшнем месте покоя. Если нам давали отдельную каморку, хорошо натопленную и с особым коридором, мы говорили, что попали сегодня в рай. Но очень редко встречалось соединение того и другого достоинства. Иногда нам давали помещение с отдельным ходом, но зато в таком холоду, что зубы не попадали один на другой; в другой раз давали теплую камеру, но без отдельного коридора, и тут же, за нашим порогом, гремела и ревела стоголовая шпанка, слышалась отборная ругань, раздавался адский концерт осипших от натуги голосов и бьющих по нервам цепей. В нашу дверь то и дело заглядывали враждебные лица, бритые головы; если кому-нибудь из нас приходилось выйти на открытый воздух, нужно было проходить через несколько камер, где помещались арестанты, валяясь и под нарами и прямо на грязном полу, на дороге, нужно было шагать через их мешки, через их ноги. А у нас были женщины, молодые девушки… Даже и то обстоятельство, что последним приходилось ночевать в одной камере со своими же товарищами-мужчинами, доставляло им немало страданий и мучений всякого рода., Нужно было менять белье, хотелось хорошенько умыться (что было просто необходимо при нескольких месяцах пути по грязным, отвратительным этапам) – и не находилось укромного уголка, куда можно было бы скрыться от посторонних глаз. Общие старания товарищей импровизировать разные ширмы и занавески могли, конечно, лишь в малой степени скрасить и облегчить тяжесть этого положения. Здесь я подхожу к одному пункту моих воспоминаний, который и "теперь еще леденит мне душу. Я говорю о ретирадных местах, об их ужасающей грязи – и пусть бы только грязи! Главное – о невыразимо бесстыдных условиях, всей своей тяжестью падающих прежде всего, разумеется, на женщин. Местное начальство, по-видимому, глядит на всех уголовных каторжных женщин как на потерянных и потому не заботится о них больше, чем о мужчинах. Насколько справедлива такая точка зрения, не знаю. Лично я – это правда – не встречал ни одной каторжанки из уголовных, которая не была бы на содержании у одного какого-нибудь ивана или у всех арестантов единовременно. Но вопрос в том, не доводят ли женщину до такого падения самые условия тюремной и дорожной жизни? Неужели же все женщины, попавшие в каторгу, уже и раньше были потеряны? Наконец, оставляя в стороне каторжанок, вспомним, сколько идет в каторгу добровольных жен, сестер, матерей, дочерей, о предварительной развращенности которых вряд ли кто станет говорить. И все они должны жить в тех же омерзительных условиях… Мне скажут, что семейные партии идут отдельно от холостых. Но это одна отговорка. Именно семейные-то партии и представляют сплошной организованный разврат. Из кого они состоят? Из нескольких десятков "холостых", женщин и нескольких же десятков семейств, то есть мужей, жен, подростков и детей. Все это спит вповалку в одной камере. За дверью камеры, в коридоре, стоит большой чан, знаменитая сибирская параша, около которой толпятся мужчины и женщины, без всякого стеснения совершая естественные надобности. Ко всему этому надо прибавить развращенных и развращающих солдат, которые даже после поверки, когда арестанты должны быть заперты в своем помещении, тайком от начальства десятками вламываются в камеру, где происходит в течение всей ночи невообразимая оргия. Крики, визг, хохот, беззастенчивый торг, поцелуи, циничные шутки – все на виду, все открыто… И так идет изо дня в день, из этапа в этап, иногда в продолжение целого года и больше- и при этих-то условиях смеют бросать камнем презрения в девушку или женщину, не сохранивших своего целомудрия!..
Особенно солдаты конвойных команд вносят в арестантскую среду страшный разврат; они же сеют и всевозможную физическую заразу. Сибирский солдат, идущий "конвоировать" холостых женщин, смотрит на эту обязанность как на веселый пикник с рядом занимательных интрижек. Никакой дисциплины, никакой за- боты! Сидит себе на подводе, бросив ружье и обнимаясь с каторжными прелестницами, орет во все горло песни, срамословит и знать ничего больше не хочет! Ночи проводит в попойках и разврате, а потом, с угаром в голове и пустотой в кармане, возвращается в казарму, на свой этап, до нового такого же путешествия… Вот его жизнь. Можно себе представить, какой образцовый семьянин должен выйти из такого воина по окончании срока службы в конвойной команде. Впрочем, не лучше бывали в мое время и некоторые из этапных офицеров: по крайней мере не раз слыхал я о случаях покупки ими невинных девушек у родителей-арестантов и о других не менее достохвальных деяниях.
В мое время политическим женщинам, как пользующимся отдельным помещением, дозволялось идти, по желанию, и при холостой уголовной партии, но в последние годы (вероятно, по соображениям нравственного характера!) вышло, говорят, предписание отправлять их исключительно с семейными. Могу сказать одно, что в холостых мужских партиях нет и тени того безобразия, того откровенного цинизма и распущенности, какие пришлось наблюдать мне в партиях семейных… Ничего ужаснее не могу себе представить, как положение образованной женщины среди подобных условий. Нечистые руки разврата не прикоснутся, разумеется, к ней самой, но уже одна необходимость все видеть и слышать делает ее поистине мученицей! А еще, быть может, тяжелее крест любящего мужчины, жениха или брата, который зорко следит за бушующей вокруг заразой, употребляет все усилия смягчить удушливость окружающей атмосферы, создать более или менее человеческие условия жизни, и часто видит и чувствует, что беспомощен, бессилен что-либо сделать! У меня не было в этом круге никого родного и милого, ни одной близкой мне женщины, и тем не менее я испытал все эти чувства, пережил все эти мучения…
Настает вечер. Солдаты делают поверку и приказывают внести в камеру парашу. Мы протестуем, говорим, что у нас женщины. После долгих переговоров с нами и с офицером старший решается наконец не запирать камеры, а парашу поместить в коридоре. На, одном из этапов, помню, вышла целая история из-за того, что офицер, согласившись на помещение параши в коридоре, хотел тем не менее поставить около нее часового… Трудно сказать, чего здесь было больше – наивности или злостности! Подобные вопросы возникают на этапах ночью, но и днем немногим лучше. На несколько сот человек, среди которых есть образованные женщины и всевозможного рода больные, существует одно только ретирадное место, содержимое большею частью в невообразимой грязи и мерзости… Но довольно об этом. Остальное можно дополнить воображением. Несколько слов прибавлю лишь относительно арестантских ругательств. Нигде не слыхал я такой гнусной, такой отвратительной, звероподобной брани, какую впервые услыхал в Сибири среди арестантов, солдат и свободных жителей – ямщиков. Неизвестно, кто из них у кого позаимствовался; правдоподобнее, быть может, думать, что такой изысканный, художественный в своем роде язык мог создаться только в тюрьме. Повторяю: ни от одного мужика в России ничего подобного не слыхал я… Там также процветает отборная трехэтажная ругань; над всей русской землей, по выражению сатирика, стоном стоит: "мать! мать!" Но только в тюрьме, только в Сибири ругань эта доходит до виртуозности своего рода, до самых тонких оттенков и самой реальной пластики. В России несчастная "мать" вся целиком служит объектом изливаемых на нее помоев ругателя; в Сибири она разбирается по косточкам, по мелочам, и каждая маленькая часть в отдельности шельмуется и подвергается надругательству: печенка, глаз, сердце, кровь, ребра, душа, жизнь – все является предметом дикой злобы и самой бессердечной ненависти! Этого мало: истинные художники брани идут дальше и приплетают к "матери", совершенно уже без всякого смысла, слова вроде "закона", "веры" и самого "бога" – ругательства, которые при всем своем бессмыслии звучат не менее гнусно и омерзительно.
В первое время я положительно содрогался, слушая эти ужасные богохуления; мне было в буквальном смысле слова больно, как от ударов ножа или плети. В настоящее время я отношусь к ним, конечно, равнодушнее, но и теперь не могу еще без ужаса вспомнить, что все это, решительно все должны были выслушивать и молодые девушки, образованные, с тонким вкусом, с нервной организацией, с чуткой и нежной душой…
И неужели найдется кто-нибудь, кто не поймет меня, посмеется над моими словами?{9}
III
Большинство арестантов, при которых нет особых бумаг и предписаний, задерживается в центральных этапных пунктах (в Томске, Красноярске, Иркутске) иногда на полгода, на год и даже на более продолжительное время, пока не запишут их в партию. Путешествие до места назначения нередко продолжается, таким образом, от одного года до трех лет. Семейным и мастеровым, конечно, это выгодно, потому что дорожная жизнь несравненно вольготнее каторжной: такие цепляются за каждый случай, дающий возможность продлить дорогу, и часто, являясь на место назначения, уже имеют право на выход в вольную команду, так что и не сидят почти в каторжных тюрьмах. Другое дело – одинокие и не знающие никакого прибыльного мастерства: тем надоедает дорога, и они сами молят начальство поскорее записать их в партию. Но всего мучительнее этот путь для так называемых "обратников", то есть окончивших свои сроки каторги и идущих на поселение. Они движутся еще медленнее: там, где партия, идущая вперед, отдыхает всего один день, обратная сидит порой целую неделю.
Так как самые ранние партии выбираются из России не раньше половины мая, то путешествие по сибирским этапам выпадает – для большинства на осенние и зимние месяцы, когда ко всем прочим страданиям и лишениям присоединяются еще грязь, холод, дожди, вьюги, морозы. Попробую описать типичный дорожный день.
С раннего утра (на дворе едва еще брезжит свет) кобылка уже поднимается на ноги; гром, звон и перебранка раздаются за нашей стеной. Арестанты ложатся рано, но поднимаются ещё раньше; некоторые, выспавшись днем, и совсем не спят, напролет всю ночь играя в карты. Спросите их: почему они так спешат на следующий этап? Они и сами не знают. Они и сами говорят про себя; "Кобылка всегда торопится, как будто там отец с матерью ждут нас".
Нередко у нас выходили по этому поводу неприятности. Офицеры и конвой относились к нам большей частью вежливо и даже предупредительно: мы имели свои подводы и с частью конвоя могли отправляться в путь долго спустя после ухода главной партии. Мы догоняли ее, потом обгоняли и первыми являлись на следующий этап. Но иногда случалось, что офицер, имевший какое-нибудь столкновение с предшествовавшей нам партией политических, требовал, чтобы мы ни на шаг не отставали от остальных арестантов – одновременно выступали в поход и одновременно же являлись на этап. Если мы, не узнав накануне о характере офицера, долго сидели вечером, болтали, читали – тогда поутру выходили неприятные сцены. Шпанка уже выстроилась и готова тронуться в путь, а мы только встаем еще, торопимся умыться, одеться, собрать вещи… Шпанка бушует, ругается, жалуется, что из-за "паршивых дворянишек" ей приходится мерзнуть… И добро бы еще предстоял большой и трудный станок, когда желательно прийти на место до сумерек. Нет, часто никаких подобных резонов не приводится: будь станок всего 16–20 верст, кобылка все равно торопится!..
Но вот все сборы кончены. Кобылка помчалась сломя голову. Только звон стоит по дороге, сани с больными и слабыми едва успевают следовать. Есть настоящие виртуозы ходьбы, особенно из бродяг, которые по принципу всегда идут пешком, если бы даже и была возможность присесть. Такие всегда впереди партии: впереди легче и "способнее" идти.
Бегут – едва дух переводят, так что привыкшие к ходьбе солдаты – и те еле поспевают. Прибежали на место совсем рано.
Вот остановились в некотором отдалении от этапа или полуэтапа, выстроились в две шеренги в ожидании поверки. Около тюрьмы ставятся часовые. Фельдфебель пересчитывает арестантов, и тотчас же после того с диким криком "ура" они летят в растворенные ворота занимать места на нарах. Происходит страшная свалка и давка. Более слабые падают и топчутся бегущей толпой, получая иногда серьезные увечья; более дюжие и проворные, усердно работая локтями и даже кулаками, протискиваются вперед и растягиваются во весь рост поперек нар, стараясь занять своим телом как можно больше места и успевая еще кинуть вперед себя халат, кушак или шапку. Таким образом случается, что один подобный ловкач займет несколько сажен места; раз брошена на нары хоть маленькая веревочка, место это считается неприкосновенным. Тут прекращается всякая борьба – таково обычное право. Непривычный и слабонервный человек не мог бы, я думаю, испытать большего ужаса, как, стоя где-нибудь в углу коридора, в стороне от дверей, ведущих в общие камеры, слышать постепенно приближающийся гул неистовых голосов, рева, брани и драки, бешеный звон кандалов, топот несущихся ног: точно громадная орда варваров идет на приступ, идет растерзать вас, разорвать в клочки, все разгромить и уничтожить! Все ближе и ближе… Вот ворвалась наконец в коридоры эта ужасная лавина: дикие лица, искаженные страстью и последним напряжением сил, сверкающие белки глаз, сжатые кулаки, оглушительное бряцанье цепей, яростная ругань – все это, кажется, мчится прямо на вас. Зажмурьте глаза в страхе… Но вот бешеный поток толпы повернул направо, в дверь камеры, и слился в один глухой рев, в котором ничего нельзя разобрать. За первой волной несется вторая, третья, и наконец почти уже шагом плетутся, с проклятиями и бранью, самые отсталые, отчаявшиеся захватить место наверх и принужденные лезть под нары… Мы тоже плетемся в отведенное нам помещение, озабоченные, полные мрачных предчувствий…
Входим в камеру; тускло светят решетчатые окна, неприютно глядят высоко построенные нары, на которые и залезть-то трудно: под потолком теплее, меньше дров выходит на топку печей. Брр! как холодно… От дыхания пар так и валит столбом по камере. Бросаемся к стоящей в углу чугунке – не топлена; даже и дров нет. Разыскиваем сторожа (так называемого каморщика), обязанность которого топить печи к приходу партии.
Мрачный, антипатичный старик.
– Не ждали сегодня партии, – оправдывается он. Врет, конечно.
Кто отводит душу перекорами с ним; более благоразумные, не долго думая, отправляются сейчас же за дровами. Шуб между тем никто не снимает; все стараются согреться ходьбою по камере и топаньем ног по одному месту. Наконец принесены дрова, толстые, суковатые, сырые… Надо их наколоть. Топор уже занят арестантами, тоже колющими дрова; надо погодить. Но вот и спасительный топор явился, вот и дрова наколоты, положены в печку, зажжены… О, проклятие! Новое, горчайшее испытание: железная печка страшно дымит… Дым наполняет всю камеру, невыносимо ест глаза, не дает глядеть, не дает ни о чем думать, ни о чем заботиться… Пытка эта тянется час, два и три, пока наконец сырые дрова разгорятся, дым исчезнет, станет тепло и свободно дышать.[19]
Поспевает и какое-нибудь неприхотливое варево, суп или кашица, чай. Кормовых выдается на человека почти по всей Сибири 10 копеек в сутки, привилегированным 15 копеек. В Западной Сибири, где все так дешево, где коврига пшеничного хлеба стоит 5 копеек, кринка молока 3 копейки, денег этих за глаза довольно, и арестанты прямо благоденствуют. Многие из них и на воле лучше не питались. Но с переездом в пределы Енисейской и особенно Иркутской губернии провизия все становится дороже и дороже: фунт мяса стоит 10 копеек, фунт черного хлеба 3–4 копейки, и "я помню один этап, где можно было достать хлеб только по 6 копеек фунт. А иному нужно до четырех фунтов одного хлеба, чтобы насытиться!.. В партиях начинается буквальный голод, тем более что отчаяние еще сильнее развивает картежную игру. Появляются почти совсем голые "жиганы", и приходится быть беспомощным свидетелем ужасной расплаты за промот казенных вещей…
Говорят, что это был исключительный, голодный год, когда все было так дорого, а вообще кормовых денег хватает за глаза, особенно когда арестанты соединяются группами человека в три-четыре, питаясь сообща. Но, во-первых, не каждый может подыскать себе группу, а главное, такое неравномерное распределение кормовых, без соображения с местными ценами на продукты,[20] решительно никогда не гарантирует арестантов от рыночных случайностей.
Администрация, мне кажется, легко могла бы при желании своевременно видоизменять в каждой данной местности количество кормовых, сообразно с ценою съестных припасов. К сожалению, в настоящее время незаметно с ее стороны никакой подобной заботливости. Если и происходит иногда изменение количества кормовых, то благодаря канцелярской волоките до того несвоевременно, точно делается это для смеха: в голодный год денег выдается меньше, в урожайный – больше… Но еще было бы лучше, если бы вместо выдачи на руки денег на каждом этапе ожидала партию горячая баланда и казенный хлеб. Устроить это было бы нетрудно. Поваров-арестантов можно бы отправлять вперед; хлеб закупать заранее у тех же торговок по 'строго определенной казенной цене. Худшая половина арестантов, состоящая из игроков и кулаков-майданщиков, конечно, была бы страшно огорчена такою реформой, но зато и не было бы голодных, сократились бы случаи промота казенных вещей и других безобразий; кто знает – быть может, уменьшился бы и самый контингент арестантов, из которых многих привлекают теперь в тюрьму майданы: картежная игра и иные прелести. Но само собой разумеется, что предлагаемая мной реформа была бы возможна при изменении к лучшему и нравов самих чиновников, имеющих власть над арестантами…
К сожалению, эти нравы оставляют еще желать очень и очень многого. Так, начальник одного этапа имел похвальную привычку не отапливать заблаговременно камер, а когда являлась партия, не давать ей дров под предлогом наступившей уже на дворе темноты, якобы из боязни пожара… Нам рассказывали, что у этого господина было несколько случаев замерзания больных арестантов; я удивляюсь одному – как оставались у него живыми и здоровые… Нашу партию поместили в огромном, сыром погребе, нетопленном по крайней мере в течение десяти дней (во время жестокого мороза). Старший, которого мы позвали для объяснения, только хихикал и отделывался шуточками.
– Ведь это ни на что не похоже, – убеждали его мои спутники, – доложите офицеру. Хорошо, что у нас вот теплой одежи много, а как же прочие арестанты ночевать будут в таком холоду?
– Эхе-хе! – посмеивался старший. – Вы их не знаете еще… У них такие секретцы есть…
– Какие секретцы?
– Да знаете, у каждого из них котелочек там, щепочки в запасце, угольки…
Стоило ли продолжать спор с этим неисправимым оптимистом? Да он и сам поторопился, впрочем, уйти. В камеру втащили парашу, дверь быстро захлопнулась, ключ загремел в тяжелом замке, и мы очутились одни. Арестанты остались целы потому только, что не спали всю ночь, пили чай и бегали по камере, играя в чехарду и занимаясь другими полезными упражнениями… Мне припомнилось при этом утешение веселого фельдфебеля:
"У них такие секретцы есть". Да, живуч и тягуч русский человек, ко многому приспособиться умеет, многими житейскими "секретцами" обладает!
Начальник описываемого этапа слыл, между прочим, просвещенным человеком и даже либералом; он приходил иногда в камеру политических, запросто беседовал с ними и высказывал самые передовые, порой даже смелые взгляды…
Этапы в большинстве случаев очень ветхи и стары; некоторые из них строились еще в 30-х годах нынешнего столетия, и хотя ремонтные деньги, надо думать, отпускаются в известные сроки, но серьезных перестроек и поправок почему-то не приходится замечать. Можно подумать, что здания эти существуют скорее для крыс, нежели для людей, – такое в них множество этих отвратительных животных, бегающих во время ночи по телам арестантов, поднимающих шумные драки и противным писком своим не дающих спокойно заснуть. Помню, как однажды огромная крыса до крови укусила палец спавшему рядом со мной человеку…
Встречаются, между прочим, погорелые этапы, вместо которых в течение десяти и более лет "не успели" еще выстроить новых. В таких местах партии или проходят два станка в один день, или останавливаются в частном помещении, в обыкновенной крестьянской избе, к окнам которой приделаны железные решетки и в которой нет даже нар – ничего, кроме неизбежной параши. Вся партия спит вповалку на голом полу. Не мудрено, что в подобных условиях, при плохом и недостаточном питании, при непрерывной ходьбе и в страшные сибирские морозы, при жизни в грязи и холоде, организм арестантов, и без того уже истощенный годами предварительного заключения в тюрьме, часто не выдерживает и легко поддается всевозможным тифам, горячкам и другим эпидемическим болезням. Целыми десятками остаются они в больницах и десятками же отправляются отдыхать на близлежащие сопки, где даже убогий крест не отметит места их вечного упокоения… Но и в больницу попасть не так-то легко. Больницы имеются только в больших городах и селах, и я живо помню несколько случаев, когда к этапу, имевшему лазарет, привозились уже одни остывшие трупы… А сколько настрадается несчастный больной, прежде чем умрет! Бросят его, как полено, на подводу, прикроют халатом и везут от этапа до нового этапа. Привезут – и в этапе тоже бросят где-нибудь на полу, в грязи и стуже. Если нет у него родственника или близкого товарища, то никто не позаботится ни напоить, ни накормить, ни спросить, что болит и что нужно. До того ли тут? Каждый заботится о себе, боится, как бы самому не оплошать и не пасть жертвой в этой ужасной битве за жизнь, за сегодняшний день. Огрубело у каждого сердце, окаменело… Я видал ужасные сцены, как, например, арестанты, спотыкаясь о подобных больных, в ответ на их стон принимались угощать их самыми забористыми ругательствами и пожеланиями скорей отправиться на тот свет – и никто не думал вступиться за несчастных!.. Варварские нравы, читатель, не правда ли? И мы, интеллигенты, помню, возмущались ими. Но были ли мы сами лучше и добрее арестантов? Почему мы не брали этих больных к себе, в свое более просторное помещение, не ухаживали за ними, не делились с ними последним? Почему? Да потому, что и у нас своя рубашка была ближе к телу, потому, что и нам жилось не легче уголовной партии.