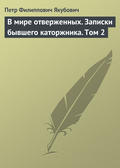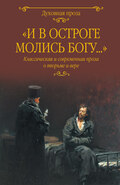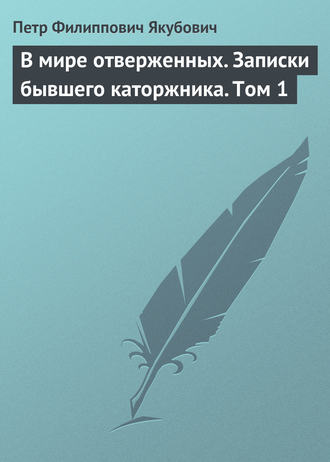
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
XI. Отбой
Лето с его короткими ночами и увеличенным рабочим днем было всегда наиболее трудным периодом в жизни обитателей Шелайского рудника. Особенно тяжелы были работы на канаве, о которых я говорил выше. Мне лично пришлось испытать удовольствие огородничества. Со словом "огород" принято обыкновенно связывать представление о сравнительно легком и, главное, приятном труде на открытом воздухе, полезном для укрепления физических сил и возбуждения аппетита. Но пусть вообразит себе читатель, что его, не выспавшегося и усталого, подняли на ноги в три часа утра, "выгнали" па довольно холодный еще утренний воздух, окружили цепью вооруженных штыками солдат и заставили копать тупой железной лопатой твердую, подчас состоящую сплошь из камней, землю. Если вы недовольны необозримой величиной назначенного урока, то извольте копать "от звонка до звонка", то есть до семи часов вечера. Уставшие арестанты хотят покурить, присаживаются отдохнуть. Проходит минуты две – и "стоявший над душой" надзиратель уже кричит, что пора приниматься, за работу. Одно-два слова возражения – и угроза карцером.
Солнце поднимается между тем выше и выше. Арестанты все нетерпеливее поглядывают на небо в надежде, что вскоре должен ударить благодетельный звонок на обед. Спрашивают наконец надзирателя, который час, и получают ответ: "Половина десятого".
– Господи! Еще целых полтора часа остается!
Солнце припекает все сильнее и сильнее, пот начинает струиться целыми потоками с лица и шеи; ноги устали налегать на плохо идущую в землю лопату… Вдруг раздается команда:
– Смирно! Шапки долой!
Все в испуге останавливаются, бросают на землю лопаты, как полагается по инструкции, и поспешно обнажают головы. Тогда только робко озираются вокруг и видят приближающегося с тростью в руке Шестиглазого.
– Шапки надеть, работу продолжать! – слышится его крик, и арестанты, быстро накрыв головы, снова берутся за лопаты. Работа в присутствии начальника закипает усерднее прежнего. Лучезаров подходит. Он все знает, он во всякой работе мастер. Если верить его словам, он был и огородником, и хлебопашцем, и садоводом; умеет и слесарничать, и кузнечить, и плотничать, класть печи, проводить дороги… В Чите он оставил собственного изделия книжный шкаф и телегу с какими-то необыкновенно хитро устроенными колесами. Он громко расспрашивает надзирателя о свойстве данной почвы, причем тут же рассказывает случаи из своей жизни, где-то на золотых приисках. Надзиратель на все подобострастно поддакивает и всему удивляется. Но среди этого разговора всевидящие очи Лучезарова не дремлют, и он не упускает заметить Петину, что нужно; глубже забирать лопатой, а Ногайцеву, что он ленится.
– Дай-ка сюда лопату, я покажу тебе, как следует рыть.
Он берет лопату из рук Ногайцева и пробует надавить ее своим изящным лакированным сапогом. Но напрасно вся дебелая фигура бравого штабс-капитана напрягается, тужится, краснеет; напрасно, пыхтя и кряхтя, с сердцем ударяет он ногой по лопате: упрямая лопата туго погружается в землю и не хочет "показать, как следует рыть".
– Совсем каменистая земля, господин начальник, – осмеливается заметить Ногайцев, – урок шибко велик задан.
– Вздор изволишь говорить, братец! – сердито отзывается невозмутимый Лучезаров. – Причина простая – кузнец плохо лопату отвострил. Так и есть: острие лепешка лепешкой! Он тоже лодырничает, должно быть, каналья. Кто у нас кузнечит сегодня? – обращается он с вопросом к надзирателю.
– Водянин! – подскакивает Змеиная Голова, делая рукой под козырек. – Молотобоец Ефимов.
– Ага! Знаю я этих артистов… Вот я сам схожу к ним, посмотрю.
И Лучезаров, недовольный и пасмурный, удаляется по направлению к кузнице. Из груди всех вырывается вздох облегчения.
– Надо отдохнуть, Василий Андреевич, – говорят рабочие и, уже не дожидаясь разрешения, садятся на землю и закуривают. Но в ту же минуту раздается звонок на обед, и арестанты с радостным галдением и жужжаньем подымаются с мест, выстраиваются и отправляются в тюрьму. Обеденный звонок отделяется летом от нового звонка на работу тремя часами отдыха. Это – время наибольшего зноя, когда земля раскаляется подобно железной сковороде, когда пылающая голова трещит от нестерпимой боли и усталые ноги едва способны передвигаться. Благо тому, кто обладает счастливым уменьем спать днем, у кого не ходят ходенем нервы, не кипит ключом желчь и не болит до крика душа! Тот повалится как мертвый на нары и пролежит эти три часа не шевелясь, без памяти, без сознания, во сне без сновидений. Но этот полдневный сон мало освежает. Просыпаешься с страшной болью в висках и с дико глядящими на свет, воспаленными глазами. Два часа дня; в ушах еще раздается звон разбудившего вас колокольчика. Солнце стоит еще высоко и нещадно палит своими гневными лучами. Опять надо работать, работать вплоть до семи часов вечера, под теми же штыками, под той же грозой надзирательских и лучезаровских окриков, работать для того, чтобы, проспав сном убитого короткую летнюю ночь, проснуться утром для того же мучительного каторжного дня… Нет, без невольного содрогания во всем теле я не могу вспомнить об огородах Шелайской тюрьмы!
Когда в половине июня кончалась посадка капусты и других овощей и группу горных рабочих опять начинали посылать в рудник, я всегда чувствовал радость и облегчение, несмотря на то, что и в руднике летние работы имели свои волчцы и терния. В шахтах было холодно, как в ледяном погребе; с обмерзлых лестниц и стен струилась повсюду вода, попадая бурильщикам за шею и обливая сапоги. Для бурения приходилось подкладывать под себя доски, но и те скоро заливались накоплявшейся постепенно водой. Тогда нужно было вылезать наверх, чтобы, выкачав несколько кибелей собравшейся воды, получить возможность бурить впредь до новой отливки. Мрак, холод, вода, онемевшие от усталости руки, дрожь во всем теле… Вылезешь, бывало, со дна угрюмого колодца на вольный свет, где столько вокруг лазури, тепла и солнечного блеска, где шумит и зеленеет поблизости душистый лиственничный лес, а дальше красивым полукругом возвышаются сопки, почти сплошь одетые лиловым, будто кровавым цветом багульника, – и при виде этого великолепия торжествующей природы заходит в душе желчь, закипит негодование! Негодование против этой безответной, бездушной красавицы, способной только цвести и радоваться перед лицом великой человеческой скорби и муки, при живых воспоминаниях о пролитых тут же потоках слез, а быть может – и крови!
За горами гори,
Хмарою повiти,
Засiяни горем,
Кровiю полити…
– Эх, кабы денечек хоть на вольной пишше теперь посидеть! – мечтает вслух кто-нибудь из арестантов при виде жирных монаховских свиней и поросят, бегающих у подошвы горы. – Тогда бы можно, пожалуй, и в этой породе десять верхов выбухать! А то где ж тут? Не двужильные мы!
– Вот чудак! С отощалого брюха нешто можно работу спрашивать? Пущай в карец сажает, толстое его пузо, а я больше шести верхов не стану ему бурить. Душа из его вон! Лучше ж я так на солнышке проваляюсь, погреюсь.
– Да, не мешало б теперь вольного питания в душу пропустить, – продолжает первый, – на шестиглазовском-то бульоне замрешь. Прижим, говорит, каторжный для вас полагается… На то каторжная тюрьма… Да лопни твои шары окаянные! Почто ж в других рудниках не говорят этого? Почто там всякую пишшу пропущают? Были б деньги, а то покупай на здоровье, чего хочешь! И молока, и свинины, и баранины, и ягод, чего только вздумаешь. Какое может быть вредительство от пишши? Пишша только на пользу может идти человеку.
– Пишша?! Она, брат, очищение крови делает, разбитие и волнование. Если б теперь, к примеру, фунтиков пять хорошего мясца за один присест одолеть, много б от его здоровья по костям разошлось!
– А слышал, что говорят? Будто новый губернатор рудники объезжает… Вот бы пожаловаться!
– Слыхать-то я слышал; только не арестантское ль это бумо?[61] Залил кто-нибудь, а ему и поверили. А то, конечно, жаловаться б надо.
– Не жаловаться, а просто-напросто переводки просить! Пущай хоть на край света засылают, лишь бы отседова прочь!
Таковы были обычные мечты арестантов. Добрая половина населения Шелайской тюрьмы при малейшей возможности с удовольствием перевелась бы на неведомый Сахалин, в Хабаровку, на Кару, в Зерентуй, в Кадаю, куда угодно, лишь бы подальше от Шестиглазого с его "пищевым режимом" и тошнотворно-скучными порядками, царившими в тюрьме, где не было ни игр, ни песен, ни майданов, ни всего, что веселит душу безнадежно долгосрочного арестанта. Большинство, конечно, роптало лишь втихомолку, про себя тая мечты о переводе в другие тюрьмы: проситься о переводе бесполезно, а больше что же поделаешь? Но было человек десять таких, которые во что бы то ни стало, решили "отбиться"… Их поощрял пример Дюдина, который так успел надоесть Шестиглазому, что тот сам хлопотал об отсылке его на Сахалин. Думали, что стоит только надоесть – и с ними сделают то же самое. Первыми из пошедших по этому пути были некто Комлев и знакомый уже нам Петин-Сохатый. Долгое время они надеялись миром покончить с Лучезаровым, почти на каждой вечерней поверке обращаясь к нему с просьбой о переводе на Сахалин. Лучезаров, ответив несколько раз, что он в этом деле ни при чем, потому что никакой власти над Сахалином не имеет, перестал вскоре и выслушивать все подобные просьбы. Тогда Петин и Комлев, заключив союз между собой, приступили к систематическому отбою путем непрерывных ссор с надзирателями, преднамеренной лености, отказов от работы и пр. Здесь рельефнее всего обнаружилась и внутренняя стоимость того и другого из союзников с арестантской точки зрения. Лучезаров ответил на первые выходки отбивающихся обычным ответом – карцером. Союзники не унялись и продолжали вести свою линию. Тогда Комлеву первому объявлено было лишение скидок.
– Эка важность! – сказал Комлев. – Плевать я хочу на их скидки!.. Мне от роду сорок два года, а на шее у меня тридцать пять лет каторги. Нешто могу я эстолько прожить и молодым остаться? Не все ль мне одно, если к этакой прорве и еще пять аль десять лет прибавят? Хошь сто пущай набавляют – все едино! Не на вольные команды и манафесты нашему брату рассчитывать, а на свою голову да на свою волю. Сам я себе манафест дам!
– Значит, вы по-прежнему будете отбиваться? – полюбопытствовал я спросить Комлева.
– А то как же? – отвечал он как бы удивленно.
– Ну, а если… Шестиглазый к другим мерам прибегнет?
– Это к плетям, то есть? Хорошо я знаю, что теперь ему плети и розги остается в ход пустить. Так что ж, пусть кушает на здоровье! Какой бы я арестант был, ежели б плетей боялся? Я ни во что такого арестанта ставлю. Коли каторги не боялся – ничего на свете не бойся!
Слова эти сказаны были с такой, свойственной всем речам и поступкам Комлева, простотой и отсутствием всякой бравады, но в то же время с такой внутренней силой и энергией, что, признаюсь, я залюбовался этим человеком. Он и во всей истории своего "отбоя" держался в высшей степени просто, без той вызывающей шумливости, которою отличалось поведение его союзника и приятеля Петина. Последний, отказываясь от работы, каждый раз считал нужным рычать, жестикулировать, угрожать и словами и жестами. Комлев, напротив, преспокойно лежал на нарах, дожидаясь, когда дежурный, подобно бешеному зверю, прибежит звать его на работу.
– Комлев! Тебя долго еще ждать? Все выстроились, стоят под воротами, а тебя все нет. Живой рукой собирайся!
– Куда? – медленно, равнодушно, не возвышая голоса, спрашивал Комлев.
– Как куда? Говорят тебе, на работу.
– Я не пойду сегодня!
– Как не пойдешь? Ты разве нездоров?
– Нет, здоров.
– Так ты что ж это? Шутки со мной шутить вздумал, аль в карец захотел?
– В карец – так в карец. Пойдемте, – отвечал он тем же ровным голосом, подымаясь с места, и шел в карцер.
Сохатый был не таков. Несмотря на его шумливость и внешний задор, было очевидно, что он куда "дешевле” Комлева; сознавали это и арестанты и надзиратели. Не замедлил подтвердить это фактами и сам Петин. В то время как Комлев непреклонно и неустанно продолжал гнуть одну и ту же линию, требуя перевода в другую тюрьму, отказываясь от работ и не пугаясь даже перспективы плетей и розог и тем внушая начальству серьезное к себе уважение и страх, Петин в самые критические минуты, когда дело принимало серьезный оборот, каждый раз трусил и отступал: плетей и розог он ужасно боялся… Поэтому в поведении его не было никакой последовательности: то он был лодырем и грубияном, стоял на дурном счету у надзирателей, то превращался в ретивого работника и тихого, покорного арестанта. Начальство видело, что он не опасен и что страхом можно с ним все сделать.
Наш старый знакомец Семенов был также из числа тех, которые мечтали отбиться поскорее от Шелайского рудника, и, подобно Комлеву, не дрогнул бы ни перед какими мерами и. угрозами Шестиглазого. Но ему оставалось меньше года до выхода в вольную команду, и вел он себя чрезвычайно сдержанно и благоразумно. Тем не менее совершенно для всех неожиданно, а больше всего для самого Семенова, разыгралась история, выставившая его в глазах начальства одним из наиболее опасных и нежеланных для Шелайской тюрьмы обитателей.
Летние ночи были страшно коротки. В восемь часов вечера производилась поверка; в случае присутствия на ней самого Лучезарова она тянулась не меньше часу, и заснуть удавалось не раньше десяти. В половине четвертого утра уже раздавался свисток надзирателя с призывом приготовляться к новой поверке. Истомленные работой и плохим питанием арестанты встают, бывало, как дикие, с отяжелевшими глазами, отказывающимися глядеть на свет, с болью в висках, с ломотой во всем теле, Но надзиратель Безымённых, от всей души ненавидевший арестантов и на каждом шагу любивший им "пакостить", в дни своего дежурства сокращал даже и это недостаточное для сна время. Еще в совершенной темноте, в два или три часа ночи, он ходил уже под окнами камер, стучал в них изо всей силы кулаками или даже ключами и, будя всех, кричал нечеловеческим голосом:
– Староста! Лампы тушить!
Семенов был в это время старостой в одном из номеров и однажды так крепко спал, что не услыхал даже и этого адского стука. Через двадцать минут Безымённых подошел к дверной форточке и, видя, что лампа все еще не потушена, принялся барабанить пальцами по стеклу и громко называть Семенова по имени. Но тот продолжал спать как убитый, молодым богатырским сном. Другие арестанты, отпуская насмешливые остроты из-под своих халатов, притворялись тоже спящими и не двигались с места.
– Ну ладно, я ж покажу тебе, мерзавец! – сказал Безымённых, потеряв терпение и отходя прочь.
Когда наступила утренняя поверка, арестанты почему-то забыли предупредить Семенова о случившемся, и Безымённых без всяких объяснений повел его в карцер. Ничего не подозревавший, ошеломленный Семенов молча повиновался, но когда пришел в карцер и узнал, в чем дело, то, пользуясь отсутствием свидетелей, со страшной бранью и стиснутыми кулаками бросился на врага. Безымённых едва ноги уволок и еле успел затворить за собой на задвижку дверь карцерного коридора. Он побежал к старшему дежурному докладывать о покушении Семенова на его жизнь. Немедленно явился в карцер конвой. Семенова заковали в наручни и посадили в строгое одиночное заключение. Ожидали, что ему дорого обойдется эта история… Закадычный друг Семенова старик Гончаров ходил мрачный и задумчивый.
– Теперь пропала Петькина вольная команда, – говорил он мне грустно. – А пропала команда – и головушка его пропала! Если набавят ему несколько лет сроку, тогда Безымённых не жилец больше на белом свете… Петька уж не попустится забыть такую обиду!
Больше месяца просидел Семенов в, карцере, готовясь к самому печальному решению своей участи.
Но каково же было общее удивление, когда в один прекрасный день из управления получился приказ – засчитав Семенову в наказание месяц тяжкого заключения в карцере, перевести его вместе с Комлевым в Зерентуйскую каторжную тюрьму. Семенов, вероятно, от души перекрестился, покинув в тот же день ненавистный ему Шелайский рудник, а товарищи, оставшиеся во власти Шестиглазого, от души же позавидовали его "фарту". Про Комлева молчали, потому что он являлся в глазах всех не просто фартовцем: он вел долгую и упорную борьбу за то, чего наконец добился, готовый собственной кровью запечатлеть свою мрачную и твердую решимость, и далеко не все мечтавшие и болтавшие об отбое сознавали в себе силу и способность к тому же самому. Больше всех чувствовал себя пристыженным Сохатый. Он ходил злой и угрюмый и срывал сердце и изливал досаду в словесных и кулачных схватках с Луньковым и другими арестантами, которые были под силу и рост его дешевому чванству и молодечеству.
Но существовали еще и другие типы отбивающихся. Я уже рассказывал, например, какой искусный план составлен был Сокольцевым и какая неудача постигла сто первый опыт. Каждый действовал согласно с своим темпераментом и способностями. Так, целая масса арестантов прикидывалась страдающею разными безнадежными болезнями, которые делали их не годными ни к какой физической работе и помогали, по их мнению, раньше срока "вылететь" в вольную команду или хоть попасть в богадельню. Во всякой каторжной тюрьме находится постоянно некоторый процент мнимо хромых, сухоруких, слабосильных и одержимых всевозможными недугами. Не так, однако, легко быть симулянтом, как "то представляется с первого взгляда. Не надзиратели и не доктора являются главным препятствием для подобных больных, а своя же кобылка; к каждому хроническому больному, освобожденному от работ, рождается вскоре зависть в среде своих же; начинаются подозрения, сплетни, пересуды, систематическое шпионство за нелюбимым товарищем (а нелюбим почти каждый каждым), подозреваемым в притворной болезни.
Одни заметили, что сегодня он хромает совсем не на ту ногу, что вчера, другие видели ночью, как мнимый больной, полагая, что никто за ним не наблюдает или же позабыв со сна о своей хромоте, встал и прошелся как здоровый, не ковыляя ни на ту, ни на другую ногу… Скоро подобные подозрения, часто совсем ложные, превращаются в полную уверенность, и темный слух доходит неизвестно каким путем до начальства. К действительному или мнимому "богодулу" начинают придираться, начинают, несмотря на болезнь, гнать на работу… Тяжела бывает подчас жизнь и настоящих больных, у которых нет, по несчастью, явных для невежественного глаза признаков болезни: целы руки, целы ноги, нет широко зияющих ран, отвратительных болячек. Только такие признаки и уважает кобылка, а заодно с нею и большинство фельдшеров. Все остальное – кашель, лихорадка, мигрень, слабость, ревматические и сердечные боли – все это может быть простой симуляцией! В Шелайском руднике были, между прочим, две специальные причины, усиливавшие обычную неприязнь арестантов к хроническим больным и слабым, не ходившим на работу. Вследствие небольших размеров тюрьмы и сравнительно ничтожного количества арестантов порции мяса не делились в ней, как принято в других рудниках, на рабочие и богодульские, а всем выдавались ровные. С другой стороны, лазарет был тесен и мал и мог вмещать только весьма ограниченное количество больных. По совокупности всех этих причин арестант, решившийся отбиваться от работ на основании притворной болезни, должен был обладать изрядным запасом храбрости и искусства. Таким смельчаком и искусником явился раньше других старик Гончаров.
Пролежав несколько недель в лазарете благодаря действительно серьезной болезни, он стал вскоре жаловаться на постоянную боль в ногах, потом охромел, а наконец и совсем "сел" на нары… Последнее обстоятельство совпало как раз с увозом из Шелайского рудника Семенова. Никаких видимых признаков этой странной болезни не было; однако приезжавший время от времени врач не мог также констатировать с чистой совестью и симуляцию; немалое впечатление производила, конечно, и старость больного, его мощная львиная голова с сильно поседевшими в последнее время волосами… В конце концов на Гончарова махнули рукой, отстранив его от всяких работ. Верили ему вначале и арестанты. Но время шло, и, не высказываясь открыто в присутствии Гончарова (так боялись все его физической силы и острого, как топор, злого языка), многие стали и его подозревать. Случалось, что во время ссор подозрения эти бросались в лицо; тогда Гончаров впадал в жалобный, столь несвойственный ему прежде слезливый тон. Он с горечью вспоминал доброе старое время, когда у него были ноги и сила, когда на каждую обиду он мог ответить стократной обидой, когда враги трепетали его и он имел деньги, друзей и приятелей… Слыша подобные жалобы и упреки судьбе, я чувствовал иногда, как сердце поворачивается у меня в груди от сострадания, и собственные мои подозрения таяли, как воск. Я видел в Гончарове действительно беспомощного, несчастного старика, которого всякий может обидеть и никто не защитит. Нередко мне приходилось даже распинаться за него, парируя яростные (заочные, конечно) нападки арестантов. Каково же было мое удивление, когда Гончаров сам завел однажды со мной дружеский откровенный разговор по поводу своей болезни.
– Где-то теперь Петька мой? – начал он, вздыхая. – Эх, Иван Николаевич! Кабы в вольную команду меня выпустили… Уж я беспременно сходил бы в Зерентуй,{42} добился бы свидания с ним.
– Где же с вашими ногами идти такую даль? – спросил я удивленно.
– Ну, да неужто они вечно болеть у меня будут? – отвечал старик. – Даст же бог, поправятся когда. Особливо ежели на воле. Там все же заробить можно, я ремесел много знаю: я и сапожничать, и портняжить, я и корзины плести могу, и уголь жечь… Пища вольная да свобода… Да вот что, Миколаич, я скажу тебе, – вдруг заговорил он таинственным полушепотом, – от тебя-то таиться мне нечего. Ты ведь не наш брат кобылка, не повредишь. Меня корят, что я притворяюсь, порции, вишь, их рабочие заедаю… Бедно мне было вначале, шибко бедно слышать эти попреки, потому ноги у меня взаболь болели… Ну, а теперь я уж озлился! Теперь ногам, точно, лучше. Теперь я даже так скажу: и ходить бы я мог и работать не хуже кажного из них… Только я так думаю в себе: к чему мне это? Больше ихнего, что ли, мне надо? Милость я какую от начальства заслужу, медаль мне на шею повесят, что ль, коли я стану работать как бык, жилы из себя тянуть? Мне бы в вольную команду только, Миколаич, выйти, а больного-то скорее ведь выпустят, потому Шестиглазому в тюрьме я вовсе ненужный человек, а там, на воле, и я могу на что ни есть пригодиться: амбары караулить, уголь для кузницы жечь. Вот об чем я мечтаю, Иван Миколаич. Ну, а втапоры, вестимо, я уж не жилец у них! Недолго повидит меня Шелайская тюрьма! Петька в вольную команду скоро выйдет: спаримся мы – и прощай, каторга-матушка, прости, Байкал-батюшка!..
Я свято сберег, конечно, тайну Гончарова и от души посочувствовал, когда заветная мечта его сбылась и в сентябре месяце Лучезаров выпустил его раньше срока в вольную команду и посадил сторожем при амбарах. Я так и решил, что только зиму перезимует старик и с первой же весной поступит на службу к генералу Кукушкину. Но, к удивлению моему, случилось это значительно раньше: он бежал в первых числах октября, как только выдали арестантам теплую "лопоть": шубу, штаны, рукавицы… Шелайское начальство страшно негодовало на хитрого старика, который так ловко сумел провести его: вчера еще ползал на коленках, а сегодня уже пустился бродяжить! Надзиратели громко ликовали, по поводу дурно выбранного беглецом времени года, которое, несомненно, должно было вскоре предать его в руки правосудия.
– Уж тогда мы покажем ему! И впрядь будет болен – не поверим!
– И дернула ж седого черта нелегкая в такую пору идти, – говорила промеж себя кобылка, – лес обнажен, укрыться негде, пропитание найти трудно, подходят холода… Того и гляди снегу на днях навалит!
Но старые, бывалые арестанты только посмеивались себе в ус, слыша такие речи.
– Теперь-то и идти! – отвечали они на мои расспросы. – Гончаров тоже не дурак ведь… К тому ж сам челдон, сибиряк… Он не пойдет зря! На полях теперь народу нет, потому все убрано, дорога скатертью лежит, никто не привяжется. Потом с приисков теперь ребята возвращаются домой – опять меньше подозрения, что идет незнаемый человек. Будто тоже с приисков идет старичок почтенный…
Но, что бы ни толковали опытные люди, мне все-таки казалось странным, что такой умный человек, как Гончаров, выбрал для побега такую позднюю пору, август и отчасти, пожалуй, сентябрь были еще подходящим временем для бродяжества, но уж отнюдь не октябрь. Чем-то невольным и вынужденным веяло от подобного побега…
И точно, в скором времени прошел по тюрьме неясный сначала шепот: в одном из больших рудников случилось в вольной команде убийство, после которого несколько человек бежало. Называли в числе беглецов Семенова… Говорили, что смотритель Зерентуйского рудника, находясь в распре с Лучезаровым, в пику ему немедленно же по переводе к нему Семенова выпустил его в вольную команду; там, в ссоре из-за карт, Семенов пырнул ножом одного татарина и, преследуемый пустившейся по пятам погоней, бежал. Некоторое время я все-таки недоумевал, какое отношение имеет слух об этом побеге к побегу Гончарова, но вскоре дошла до моих ушей и другая новость (доверенная, впрочем, под большим секретом): Семенов прибегал после своего преступления в Шелайский рудник и несколько дней был укрываем земляками и друзьями своими, Гончаровым и Ракитиным… Поело этого мне все стало понятно. При виде закадычного друга, почти сына, которому волей-неволей приходилось бежать, в старом таежном полке заговорила кровь, проснулась неудержимая жажда простора и воли, которой не могли одолеть никакие советы благоразумия… Ослепительно ярко блеснула мечта о родине, о семье и, быть может, о мести – и вот, несмотря на годы, на приближающиеся холода и зиму, он, пропустив в горло стаканчик-другой оживляющей влаги, собрался в путь-дорогу и смело пошел навстречу всем опасностям и случайностям бродяжеской жизни…
Попались ли беглецы в лапы забайкальских казаков, сложили ль свои буйные головы под пулями диких тунгусов или благополучно ушли за "Святое море" – Байкал, у меня нет об этом никаких сведений. Думаю, впрочем, что оба они не дешево продадут свою жизнь и свободу тем, кто на них покусится!