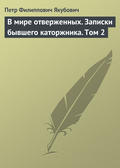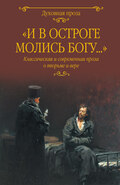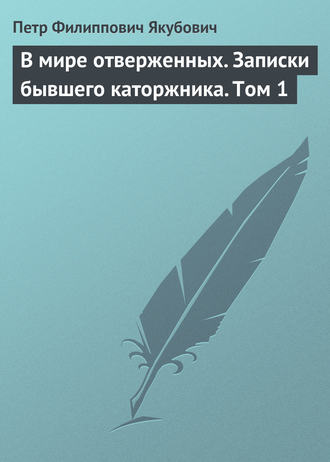
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
VIII. Начало моей школы
С наступлением зимы и удлинением ночей нас запирали на замок все раньше и раньше. Да я, признаться, и радовался этому. Только тогда, когда проходила наконец вечерняя поверка со всеми ее страхами, окриками, громом и блеском, когда щелкал замок за удалявшейся свитой Лучезарова, только тогда вздыхал я полной грудью и чувствовал, что до следующего утра никто не покусится на мою свободу, никто не ворвется в мою душу, что на целые полусутки я застрахован от всякой новой обиды и поругания. Много было отвратительных сторон в этом долговременном пребывании под замком, но для меня существовали более страшные вещи, чем спертый, удушливый воздух и близкое общение с отбросами человечества. Впрочем, постараюсь дать читателю некоторое представление и о той атмосфере, которою приходилось дышать. Камера, по первоначальному расчету, была устроена на шестнадцать человек (число это значилось и на дощечке, прибитой к дверям); но, как я говорил уже, партия пришла большая, и в каждой камере было по двадцать и даже по двадцать два человека. Пятерым в нашем номере не хватило места на нарах, и они принуждены были спать на полу (на пол сгоняли обыкновенно татар и сартов). Оконная форточка в камере имелась, но так как русскому человеку принадлежит знаменитое в науке открытие, что пар костей не ломит, то открывали ее чрезвычайно редко и неохотно. Ее, наверное, и никогда бы не открывали, если бы не моя настойчивость; однако и я стеснялся слишком злоупотреблять своим влиянием, встречая порой косые и прямо враждебные взгляды старичков вроде Гандорина.
Этот достопочтенный и благочестивый старец, с своей стороны, мало стеснялся: ровно через две минуты он, как кот, осторожно подкрадывался к отворенной мною форточке и с постным, умиленным выражением лица, на правах старосты, потихоньку захлопывал ее; а чтоб не обидеть, с другой стороны, меня и дать какое-нибудь удовлетворение, приотворял ненадолго посторонку и, держа в зубах трубку, шамкал в мою сторону:
"Она тоже выносит… Еще способнее".
Этот Гандорин был истинным мучителем моим. С лицом святого, с седенькой бородкой клинышком и изможденным лицом, он был обжора, которому дивилась вся тюрьма. Добросовестно съедая до последней крошки собственную порцию баланды, какую бы мерзость она ни представляла, он в качестве старосты еще сливал к себе же остатки от всех других порций и тоже обязательно съедал. Съедал и весь хлеб – свой и остатки чужого. Допивал весь оставшийся чай… Ум отказывался понимать, куда все это лезло в тщедушного старичонку! Но зато он сторицей же отдавал и обратно то, что воспринимал в себя: вечно страдая расстройством желудка, он поминутно принужден был выбегать куда нужно, да когда и назад возвращался, соседям его не приходилось благодарить судьбу… К несчастью, он спал всего через два человека от меня: Чирок, Тарбаган и он… Мое место было у самой степы. Впрочем, не один Гандорин страдал катаром желудка, который и неудивителен был при том ужасном пищевом режиме, который ввел в Шелайской тюрьме бравый штабс-капитан; поэтому атмосфера небольшой камеры, где скучилось с лишком двадцать взрослых человек, почти прикасавшихся телами один к другому, была по вечерам в высшей степени удушлива и отвратительна. Особенную вонь распространяли также онучи, которые арестанты тут же, около печки, развешивали для просушки. Онучи эти у некоторых не мылись по целому году, и от них пахло такой омерзительной прелью, что непривычного человека могло бы стошнить… У многих арестантов ужасно воняли и самые ноги от постоянно струившегося по ним пота (болезнь очень распространенная среди рабочего люда).
И все-таки, еще раз повторяю, я всегда чувствовал радость, когда проходила поверка и нас запирали на замок.
Подбором своих сожителей, за малыми исключениями, я был вполне доволен. Большего эти люди не могли мне дать, и смешно было бы на них сетовать за это. Отношения между нами с самого начала установились дружеские. В первые же дни знакомства у меня явилась мысль обучать желающих грамоте. Едва я высказал однажды – полушутя, полусерьезно – это желание, как экспансивный Никифор Буренков сорвался с нар и, подбегая ко мне, закричал:
– Вот хорошо-то будет! Я, знаешь, Миколаич, давно уж просить тебя хочу, да все не смею… А ты сам надумал… Эхма! да я сразу всю грамоту произойду, дьявол ее побери! Приду домой – диву все дадутся: неужто это Микишка? Тот ведь ни аза в глаза не знал, а этот… И знаешь что, Миколаич? Ты выучи меня и рихметике также… Счет мне знать хочется… Я там у них писарем буду – вот окручу-то всех!
Я отвечал Буренкову, что учиться надо не для окручивания людей, а, напротив того, для выкручиванья их из сетей темноты и всяческой неправды. Никифор сконфузился и поспешил уверить меня, что это он "так только, пошутил".
Этот человек был настоящее "дитя природы"; такого неуменья затаить хоть на минуту бродящую внутри мысль или чувство я не встречал в другом человеке. Лицо его было лучшим зеркалом его души. Высокий, костлявый, он весь был – страсть и огонь; порывистые движения, постоянно веселый нрав, остроумие, незлопамятность, легкомыслие делали его всеобщим любимцем. В больших серых глазах его и тонких губах, оттененных длинными мягкими усами и желтой козлиной бородкой, светилось, правда, и некоторое лукавство. Он сам иначе не говорил про себя, как "мы, мошенники"… Но стоило немного присмотреться к Никифору, чтобы убедиться, что он не только хороший товарищ во всякого рода "фартовых" предприятиях, но также и рубаха-парень. Он был из "семейских" Верхнеудинского округа староверов беспоповского толка; но раннее знакомство с приисками и природная склонность к товариществу и молодечеству превратили его в одного из героев больших дорог, специальность которых – срезывать чаи в обозах. За это и пошел он с двоюродным своим братом Михайлой в каторгу на четыре года.
Вся камера живейшим образом заинтересовалась мыслью об устройстве школы. Старики подталкивали более молодых, побуждая учиться. Процент грамотных ничтожен в тюрьме. В нашей камере грамотных оказалось всего трое: Семенов, Парамон Малахов и некто Владимиров. Но были и такие камеры, где царила, поголовная безграмотность. Я спросил, кто еще станет учиться. На некоторых лицах читалось страстное желание объявиться, но все молчали.
– Ты, Пестрев, чего же? – кричали на одного совсем молодого паренька, вялого, молчаливого и конфузливого.
– У меня, братцы, память плохая.
– Вот сказал! У нас, что ль, лучше, у стариков? Кому и учиться, как не тебе? Парню девятнадцать лет, в самом что ни на есть соку.
– Так будете учиться, Пестрев?
– Хотелось бы… Только память, ей-богу, ничего не стоит.
– Ничего, посмотрим.
– А как же мы учиться-то станем? – вскрикнул вдруг Никифор. – Ведь ни карандашей, ни чернил, ни гумаги у нас нет! Ах ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то нет!..
И от бурной радости он вдруг перешел к самому мрачному отчаянию. Я и сам призадумался. Книжка, положим, была – Евангелие; бумага тоже была: эконом продавал арестантам для куренья махорки серую писчую бумагу, причем, следуя инструкции, запрещавшей в тюрьме письменные принадлежности, разрезал ее на уродливо-неправильные полосы. Труднее было придумать, где и как достать карандаш. Парамон Малахов, необыкновенно важно сосавший на нарах свою трубку и о чем-то долго размышлявший, вдруг ударил себя кулаком по лбу и закричал:
– Не будь я Парамон Малахов, коли не достану!..
– Чего?
– И карандаш и… азбучку. Пускай у Шестиглазого шесть глаз, пускай даже больше будет, достану. Надейся, Никишка, на Парамона!
Однако долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. Он ходил бондарничать в столярную мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, и всякий раз, как возвращался с работы, Буренков и Пестрев приставали к нему с расспросами… Красавец бондарь разводил только руками и пожимал плечами:
– Ну да уж все-таки достану. Придет такая точка. Не бывало еще, чтоб Парамона хлопушей звали!
Между тем мне пришло в голову воспользоваться углем. Никифор достал прекрасный длинный уголь; я заострил его и начертил на махорочной бумаге несколько первых печатных букв. Восторгам учеников конца не было. Вечером, только что прошла поверка и заперли камеру, все гурьбой бросились, к столу… и обступили меня с Никифором и Пестровым. Лицо первого из них сияло, как хорошо вычищенный медный таз; и с него и с Пестрова уже градом лил пот, хотя ученье еще и не начиналось: оба страшно трусили…
– Ну, Микишка, поддаржись, не ударь в грязь лицом! – одобряли Буренкова Чирок и. Гончаров.
К великому моему удивлению и огорчению всей камеры ученики мои оказались страшно непонятливыми и, очевидно, малоспособными. Долго успокаивал я себя мыслью, что они просто робеют и смущаются, но через неделю с положительностью должен был убедиться относительно Пестрова, что он абсолютно тупой и беспамятный парень. Я не показывал, конечно, и виду, что пришел к подобному заключению, и не уставал каждый вечер, одно и то же вдалбливать ему в голову; но камера самостоятельно пришла вскоре к тому же выводу и ужасно сердилась на Пестрова, казалось, будто у каждого задета была собственная его амбиция…
– Ну и долбежка ж ты, Ромашка! – говорил Чирок. – Я ведь уж кто такой? Все меня пермяком называют, из чурки вытесанным… В лесу я взрос, в тюрьме состарился… А и то ведь уж несколько гуковок затвердил, на тебя глядя. А ты молодой, ты – расейский!
– Брошу же я совсем! – вспыхнув, как порох, объявил Ромашка, и большого труда стоило мне каждый раз уговорить его продолжать опыт ученья.
Зато Никифора камера хвалила и обнадеживала:
– Попом будешь, Никишка, у семейских! Похвалы эти были, конечно, сильно преувеличены. Никифор не был, правда, безнадежной тупицей, но порывистость натуры вредила ему так же и в ученье, как в жизни. Не вглядевшись хорошенько в букву, он моментально выкрикивал ее название, большею частью невпопад. Кроме того, он не любил сознаваться тотчас же в самых явных ошибках и, обладая богатой фантазией, оправдывался сходством между такими буквами, которые, казалось, ничего общего не имели: так, по его словам, м как две капли воды походила на ф, а на з… Нечего и говорить, что вследствие торопливости он постоянно смешивал созвучные буквы: ж – ш, с – з, д – т (я учил по звуковому методу).
– Ну и терпение ж андельское у Ивана Николаевича, – говорили про меня в камере.
Один только Малахов держался на этот счет особого мнения.
– Это не ученье, а баловство одно, – ворчал он, – разве так в старину нас учили? Первое: аз, буки, веди, глаголь, добро… У каждой буквы свое название было, каждая как живая была… А нынче что? Шипят, свистят… Ничего не поймешь! Ж-ж-ж-ж! С-с-с! Просто хоть уши затыкай.
Я старался объяснить Малахову выгодные стороны звукового метода, но напрасно: он был слепым поклонником старины, и к тому же, если упирался на чем-нибудь, то был упрям, как бык.[38]
– Второе, – говорил он назидательным тоном, – без колотушек учителю обойтись невозможно.
– И верно, Миколаич, – вскрикнул Никифор, – ей-богу, колоти меня! И за волосья таскай, и как хочешь… Ни словам не скажу, лишь бы за дело.
– Нет брат, и без дела не мешает, – поправлял Парамон, просто так, для науки, для страха. Нас, ты думаешь, как били? Меня дьячок наш сельский учил. Бывало, как ни придем мы к нему, ребятишки, всегда пьянок. И первым делом сейчас же после молитвы всем без разбора волосянку давал… Треплет, треплет, устанет… Ну, теперь давайте, говорит, учиться, ребята! А уж коли бил, тогда надо было отнимать от него: до смерти заколотит! Я раз во время волосянки руку ему укусил, так он об меня всю палку в щепки расхлестал.
– Здоровая ж, Парамон, и тогда у тебя спина была, – смеялись арестанты.
– Ну, а что ж хорошего было в таком ученье? – спрашивал я Парамона.
– Как что? Грамоте выучивались, баловства было меньше.
– Насчет баловства не знаю, а грамоте вот не выучились же вы хорошо, как ни бил вас дьячок? До сих пор чуть не по складам читаете.
– Это я теперь забыл, – отвечал самолюбивый бондарь, видимо начинавший уже раздражаться и с сердцем выколачивавший о нары свою трубку. – А для своего обихода я и теперь еще ладно читаю. Где же нам, дуракам, многоучеными быть?
Впрочем, пропаганда битья, кроме самих учеников, не нашла себе в камере сочувствующих, и Малахов остался в этом отношении одиноким. Особенно ополчился против кулачной расправы с детьми старик Гончаров.
– Да чтоб я своего дитю дал бить? – с искренним негодованием говорил он, расхаживая по камере. – Ни за что! Раз, этак же, еду я верхом на мерине у себя дома. Слышу робячий крик. Гляжу: у самого плетня учитель дерет за уши кожевниковского мальчишку. Ребенку лет семь, а он знай уши ему выворачивает да волосянкой потчует. Вот подъезжаю я, привязываю мерина к плетню и прямо к учителю. "За что?" – спрашиваю. "А тебе какое дело? Я учитель". – "А! ты учитель? Так вот поучись-ка прежде у меня!" – Как подмял его под себя да зачал угощать, так и до сего часу, пожалуй, бока болят…
Я поглядел на огромную медвежью фигуру Гончарова с широким лицом, изрытым оспой, толстым носом, рыжевато-седыми бакенбардами и светлыми большими глазами, над которыми угрюмо свешивались рыжие брови, и подумал, что действительно плохо, должно быть, пришлось учителю…
– И после, бывало, помни, – продолжал Гончаров, – завидишь где его издали, манишь к себе: "Эй, Трофим Евстигнеич, иди-ка сюды, поговорим с руки на руку…" Он сейчас и лыжи прочь навострит! Я смеюсь, кнутом ему вслед грожу!
IX. Малахов и Гончаров
Гончаров и Малахов, видимо, недолюбливали друг друга, хотя явно и не показывали этого, чуя один в другом почти равную физическую и нравственную силу. Это были натуры противоположные во всех смыслах, и мне кажется – именно тою противоположностью, в какой вообще находится Сибирь и ее метрополия: Малахов был пскович, живший в самом Питере в кучерах и получивший там некоторый внешний лоск. С людьми, к которым он чувствовал уважение или расположение, он умел обходиться с утонченной вежливостью, непохожей, впрочем, на ту отвратительную утонченность, какой отличаются лакеи, перенявшие барские ухватки и словечки. Гончаров был в этом отношении грубоватее, неотесаннее. Зато чисто внешним лоском и ограничивались следы цивилизации, наложенные на Парамона. В душе он оставался настоящим типом вандейца, закоренелого в традиционных взглядах и предрассудках. На беду свою он отличался большим самомнением, считал себя очень умным человеком и думал, что имеет твердые, определенные воззрения на вещи, хотя на самом деле был весьма недалек и даже, быть может, туп. Вот почему, когда речь заходила о каких-нибудь жгучих, задевавших его убеждения вопросах, он становился желчен и забывал всякую деликатность и вежливость. Всякую "многоученость" он с презрением отвергал, и потому, против моей воли и желания, мы нередко вступали в бурные пререкания. Против экспериментальных наук и всяких в глаза бьющих открытий и изобретений он еще ничего не имел; но чуть от практики дело переходило к общим выводам и положениям, покушавшимся, как ему казалось, на вековые святыни человечества, он выходил из себя и лез на стену, защищая свои взгляды. Особенно часто схватывались мы из-за астрономических вопросов, из-за того, что земля имеет шарообразную форму, что она вертится, а солнце стоит относительно на одном месте и пр. Парамон обыкновенно долго и молча выслушивал мои рассказы кому-нибудь из арестантов про чудеса природы, разоблаченные современной наукой. Наконец не выдерживал и говорил:
– А кто же из господ ученых лазил на небо, что так хорошо все это узнал?
Я начинал сызнова свои разъяснения, стараясь выражаться возможно толковее и еще понятнее, чем прежде. Он опять терпеливо слушал и потом решал властным и внушительным тоном:
– Вздор все это, чепуха! Что солнце ходит – это я вижу, собственными глазами вижу… Ну, а что земля ходит – этого никто никогда не видал и никогда не увидит! Буду я целый день стоять на одном месте и смотреть вон на ту сопку – и ни на один шаг она не подвинется в сторону.
Напрасно я пытался доказывать, что земля движется одновременно вся, всей своей массой и равномерно во всякой точке; напрасно приводил обычный пример, что когда едешь на машине, то представляется, будто стоишь на одном месте, а земля от тебя убегает. Чем яснее, казалось мне, доказывал я свои положения, тем больше Парамон волновался и сердился… Однажды, думая поразить его, я, с своей стороны, указал ему одно место в книге Иова,{25} где говорится, что бог ни на чем утвердил землю, повесив ее в воздухе; в ответ на это он отыскал другие места в Библии, говорящие о неподвижности земли и подчиненности ей солнца и звезд. Никаких иносказательных толкований он принимать не хотел и разражался в конце концов страстной филиппикой{26} против науки.
– Вся эта высокоученость гроша медного не стоит! Нынешняя наука дошла до того, что и бога нет!
– Вы пустяки говорите, Парамон, – отвечал я, – нет такой науки, которая бы доказывала, что нет бога; наука не занимается такими вопросами.
– Как! Я сам встречал ученых, которые говорили это!
– А разве и из совсем неученых людей, из арестантов например, – нет таких, что в бога не верят?
– Ну, уж я больше на собственные свои уши полагаюсь. Поверите ли, братцы, – обращался вдруг мой оппонент ко всей камере за сочувствием, – один ученый доказывал мне в Питере, что человек произошел от обезьяны… Да, дурак он! Подумал бы он о том хоть, что обезьяну надо б по крайней мере раз в месяц брить, чтобы она походила на человека!
Все разражались единодушным хохотом, и Малахов глядел победителем. Два-три человека из молодежи были, правда, на моей стороне, но и они боялись слишком явно высказываться в пользу науки; старички же поголовно сочувствовали взглядам Парамона и заодно с ним возмущались внутренно моим вольнодумством. Один только Гончаров посмеивался и уклончиво говорил:.
– Ну, а я всему верю… всему готов верить… Потому вопрошаю хорошо: что мы такое? Долбешки, пни таежные – ничего больше! И в головах у нас есор[39] один!
Гончаров был ум чисто практический, мало интересовавшийся отвлеченными умозрениями, но зато другим дававший в этом отношении полную свободу. Парамон, напротив, был идеалист. Несмотря на солидность манер и всей фигуры (ему было под сорок), он был в высшей степени страстный и увлекающийся человек, ни в чем не знавший меры. Говорил он обыкновенно с пафосом, приподнятым несколько слогом, воодушевляясь и искренно волнуясь, и красноречием своим умел иногда наэлектризовать не только слушателей, но и самого себя. Тогда у приходилось говорить уже совсем несуразные вещи. к, однажды он рассказал нам следующую историю.
Возвращался он с товарищем домой из Питера. Заходит в какую-то деревню и в одной хате видит больную женщину, не встававшую уже. несколько лет с постели. Родня больной обращается к прохожим с вопросом, не знают ли они какого средства от этой болезни. Парамон и его товарищ ребята были молодые, легкомысленные, всегда готовые пошутить.
– Вот я и отвечаю: как не знать! Сделайте только так, как я вам скажу. Испеките мне из пшеничного теста куклу. Те, конечно, с полным удовольствием того же дня изготовили мне огромаднейшего статуя. Удалил тогда всех из горницы, положил на больную эту куклу помолился перед образом… Нужно же было что-нибудь для виду сделать! Призываю потом снова всю родных и говорю, что куклу эту я с собой возьму, а что больная вскоре-де будет здорова. Надавали мне тогда на дорогу всяких припасов, даже денег сколько-то дали, и мы отправились с товарищем дальше. Посмеиваемся про себя. Останавливаемся на пути закусить. Решили и куклу отведать. Вот отламываю я от нее руку… и что же, братцы, думаете? Вижу – кровь!.. Отламываю другую руку – живая человечецкая кровь!.. Вот, ей-богу, правда!.. Испугались мы тут, побросали куклу и все припасы; и убежали. Но что же случилось между тем? В самый тот час, как мы куклу ломали, женщина та, больная-то, с постели совсем здоровой встала, – ну вот, ей-богу же, не вру!.. Пусть-ка ученые объяснят это, а? Пускай попробуют!
Рассказ этот произвел на слушателей огромное впечатление; но меня лично заинтересовал он в другом смысле. Я чувствовал, что в нем не все обстоит благополучно, что тут скрывается один из тех секретов, с помощью которых создаются обыкновенно всякие легенды и народные суеверия. Часто приставал я после этого к Парамону, прося еще раз рассказать историю о кукле; он каждый раз отговаривался, лукаво подсмеиваясь над моим любопытством. Но однажды, уже полгода спустя, в минуту счастливого настроения и расположенности ко мне он прямо мне признался, что насчет крови-то тогда приврал.
– Все правильно обсказал, как было. Только вот насчет крови прибавил – пошутил, – объяснил он, несколько конфузясь, хотя я отлично помнил, что тогда он не думал шутить.
Одно обстоятельство заставляло меня прощать Малахову все его недостатки и нелепости: это его несомненная неиспорченность, сравнительно с остальной арестантской массой. Я знал, что в каторге он за убийство; но уж один тот факт, что сибирский суд приговорил его (и раньше бывшего поселенцем) всего к шести годам каторги, говорил несколько в его пользу. Общее мнение арестантов о Малахове было, что он человек честный и самостоятельный. Сам Парамон любил похвалиться, что мошенничеством никогда не занимался, что и в будущем твердо надеется на свои руки. В общем, нрав у него был далеко не мрачный; под внешней серьезностью таилось много юмора и подчас чисто ребяческого легкомыслия. Поострить на, чужой счет, "потереть волынку", как. говорят арестанты, повозиться с "Чирком, раззудить его, заставить вступить с собой в перебранку и даже полезть в драку – было любимым занятием Парамона.
– Ты чего не на свое место онучи положил? – якобы грозно спрашивал он Чирка.
– А ты что за барин такой выискался? – отвечал тот.
– Убери, говорю, тебе, сейчас убери, не то рожу твою сопливую оботру ими. Ты знаешь, кто я такой?
– А кто?
– Я Парамон Малахов! Я – родословный! А ты кто? Бро-дя-га?
– Какой я бродяга? Перекрестись пойди да выспись.
– Ты на житье был в Ишим сослан и оттуда подкопом в Ялуторовскую тюрьму бежал, чтоб майдан снять!
В камере общий хохот.
– Он собаку съел, ты не знаешь, Парамон? – вступается Яшка Тарбаган.
– Молчи, гад! – кричит на него Чирок. – Туда же, творенье паршивое рот разевает.
Нужно сказать, что Чирок был вечным предметом насмешек со стороны товарищей за свой побег из вольной Алгачинской команды. Уморительно рассказывали арестанты историю этого знаменитого побега. Только выпущенный из тюрьмы, подвыпил он на последние деньги и, взяв в товарищи татарина Малайку, пустился немедленно в дорогу. Днем беглецы лежали в кустах, ночью шли вдоль телеграфной линии.
– Мы еграфом, еграфом пойдем, Малайша!
На вторую ночь оба сильно проголодались, подошли к деревне и увидели впереди что-то белое.
– Малайша, Малайша, – шепчет Чирок, – ведь это баранша… Вот бог послал нам!
Подкрадываются, хотят схватить предполагаемого барана – и вдруг на них кидается с лаем огромная белая собака… Насилу Чирок с Малайкой ноги унесли. На третий день их арестовали, вернули в Алгачи, "дали по пятидесяти" и посадили до конца срока в тюрьму. С тех пор арестанты не давали Чирку покоя: лаяли на него собакой, блеяли бараном, куковали кукушкой, называли его, шутя, бродягой (у каторжных издавна существует вражда к бродягам по призванию). Шутники рассказывали даже, что он съел-таки собаку, но на месте преступления оставил хвост, по которому и был уличен; что за ужин из собачины он отлучен попом от святых тайн и что собачий хвост припечатан к его статейному списку….
Чирок относился довольно хладнокровно ко всем подобным рассказам и насмешкам и в шутку только показывал иногда вид, что сердится; один Малахов умел раззудить его и довести, что называется, до белого каления.
– Хм! – не унимался он. – Другие по крайности сухарями или майданом прельщаются, бродяжить идут, а он собачины отведать захотел. Оголодал на алгачинской баланде!
Чирок молчит.
– Ловят вот этакого черта, приводят в тюрьму. "Откуда ты?" – "Я, говорит, братцы, много горя видел… Я, говорит, с Соколиного Острова бежал, в железных броднях море переплыл, сорок верст подкопом шел… Дайте мне, говорит, братцы, майдан подержать, поправиться… Я – генерал Кукушкин!.." У, бродяжня проклятая!
Чирок опять упорно молчит и, лежа на своем месте, сосет цигарку и поминутно сплевывает на пол. Парамон сидит с ним рядом и продолжает повествовать о проделках бродяг, обращаясь ко всей камере и изредка только к самому Чирку.
– А в тюрьме он живет: наденет красную рубаху, подбоченится и идет этаким дьяволом… Мы-ста – не мы-ста!.. У, черти окаянные! Перма – соленые уши!
В ответ еще раз молчание; только слушатели заливаются смехом.
– В дороге того хуже: захватит себе один полсажени нар. "Подвинься, – говорят ему, – братец". – "Ты разве не знаешь, – отвечает, – к кому обращаешься? Ты кто такой? Ты родословный? А я – Иван, родства не помнящий! Понимай это! Здесь одна моя нога, а там другая лежит. Полезай под нары!" Вот и приходится страдать нашему брату, родословному, из-за них, из-за этаких вот чертей… Вот из-за этаких… вот как этот… во-вот, что лежит тут!
Парамон протягивает палец по направлению к Чирку и с лицом комически мрачным и серьезным долго держит его в таком положении, повторяя:
– Вот из-за них самых… этаких вот… из-за летучек тобольских, хвосторезов коровьих, костогрызов бессовестных, тварюг!..
– Сам тварюга! – вскакивает вдруг Чирок, выведенный из себя не обличениями и даже не ругательствами Парамона, а главным образом его пальцем, который так долго висит в воздухе и всем указывает на него.
Этого движения пальцем Чирок почему-то никогда не выдерживает, и в крайнем случае, когда ничто не действует, Парамон всегда к нему прибегает.
– Гад паршивый! Дьявол чернопазый! – кричит нараспев, по-пермяцки, окончательно озлившийся Чирок и иногда, вскочив, принимается даже тузить своего мучителя. А чернопазому дьяволу того только и нужно было: довольный своим успехом, он покорно принимает здоровеннейшие тумаки в спину и заливается веселым смехом.
Совершенно другой тип представлял собою уроженец Енисейской губернии – старик Гончаров!
Над "челдонами", "желторотыми челдонами", то есть, сибиряками,[40] арестанты очень любят поострить и посмеяться.
Чем-то черствым, бездушно-трезвым и эгоистичным веет от того сибирского типа, который рисуется в рассказах арестантов (причем, подражая сибирскому говору, они всегда почему-то гнусавят). Не могу позабыть одного характерного рассказа бродяги Дорожкина о том, как однажды его арестовали челдоны в каком-то селении Западной Сибири. Привели его в баню и, крепко-накрепко скрутив веревками руки, оставили там, а сами пошли в предбанник пить водку.
– Вот затекли у меня, братцы, руки, окрепли… Перестал я даже и слышать, что на мне веревки. Думаю – надо быть, ослабли немного. Оглядываюсь кругом – окно. Вот я как разбегусь – да головой в раму! Как набегут в баню челдоны… Как зачали меня поливать!.. Повалили на землю: я сижу ни жив ни мертв, наклонив голову. Они мне в загорбок, знай, накладывают. Добрых полчаса лупили, ажио в глазах у меня смерклось. Двое устанут, другие двое подходят. "Пожалейте, говорю, старички, хоть не меня, а руки свои. Чем землю пахать будете?" – "А чаво, паря, и в сам-деле… Руки-то свои ведь… дороже его башки". Ударили еще по разу и опять пошли в предбанник водку пить. Я сижу на полу. Вот входит старик, седой как лунь, сгорбленный весь.
Смотрит на меня. "Дедушка, – говорю ему (жалостно таково), – дедушка!" – "Чаво, – спрашивает, – родимый?" – "Дай водицы испить… Запеклось все в глотке… Вишь как избили". – "Ах, они, говорит, варвары! Да за что они тебя, дитятко? Им-то какое дело, хоша бы ты и мать свою родную убил? Перед господом на том свете ответишь. Все ответим". Берет черпак банный и подает мне старик воды напиться. Чистым медом вода эта мне показалась, всю до дна выпил. "Пей, – говорит старик, – пей еще, родной!" Да вдруг, как выпил я всю воду-то, как размахнется черпаком да как хватит меня со всей силы по башке – так черпак вдребезги и разлетелся!.. После опять входят ко мне всей гурьбой челдоны, и волостной старшина с ними. Я к нему с жалобой: "Прикажите, говорю, ваше степенство, помазать мне чем-нибудь руки. Посмотрите, кровь из-под веревок брызнула". Посмотрел: "О! говорит, паря, они и впрямь чересчур уж. Послабьте немного да помажьте ему руки чистым дегтем". Схватывает один челдон мазилку дегтярную (тут же и кубышка с дегтем стояла) да как сунет мне в рыло… Мазь, мазь! Всего, как черта, вымазал. Привязали меня потом к телеге и повезли в Ачинск. Мухи меня всего дорогой облепили. Бегу за телегой, ровно дьявол, из самого пекла достатый… Ребятишки по деревням увидят – к матерям домой бегут…
Таковы рассказы о бессердечной, доходящей до сладострастия, жестокости сибиряков. Возможно, что в них есть известная доля правды. Практичность и трезвость взглядов сибиряка, полное отсутствие поэзии в его душе, хитрость и уменье сдерживаться сразу бросаются в глаза российскому человеку.
Но он обладает зато чертами и качествами, которыми бесконечно превосходит последнего и которые ближе ставят его к западноевропейскому типу. Ум его менее засорен отжившими традициями и предрассудками, более способен к развитию и восприятию новых идей и понятий, отличается большею независимостью и свободолюбием. Да оно и понятно: сибиряк не знал крепостного права, он и теперь не знает, что такое малоземелье и связанные с ним для мужика нищета и бесправие; в нем не видно той забитости, того раболепия перед властями, какими так неприятно поражает коренная Русь.
Много раз приходилось мне менять свое мнение о том или другом арестанте, в том числе и о старике Гончарове, но единственное, чего никогда не приходило мне в голову отрицать в нем, это – ясный, чисто сибиряцкий ум, умевший всегда быстро ориентироваться в каждом житейском вопросе и положении, схватить, что называется, быка за рога. Благодаря этому качеству и острому, как бритва, языку, который никогда не лез за словом в карман, он разыгрывал в камере роль отца-командира: молодых поучал уму-разуму и охотно посвящал в свои прошедшие похождения и приключения, им же числа не было, а более зрелых летами или равных себе по значению выслушивал со снисходительностью старшего брата, никогда, впрочем, не упуская случая и тут вставить какое-нибудь свое наставительное замечание. За это самомнение арестанты его не любили. Гончаров был очень тактичный человек и резкости позволял себе только относительно вполне безобидных людей, поэтому с ним редко схватывались лицом к лицу и лишь за глаза честили на все корки. Дружил он с одним только Семеновым, своим земляком: все, что имели, они делили пополам, ели и пили вместе. Угрюмый и молчаливый Семенов, видимо раздражавшийся внутренне болтливостью старика, находил почему-то нужным щадить его и терпеливо выносил его неутомимое краснобайство и резонерство.