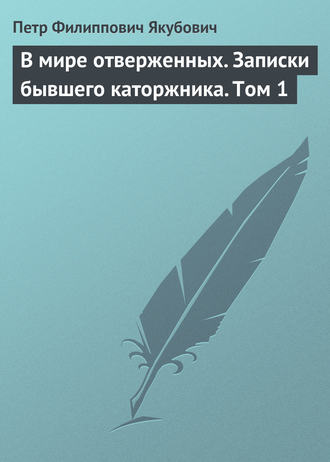
Петр Филиппович Якубович
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
XII. Шелайские посетители
Слух о приезде нового губернатора оказался между тем не пустым арестантским "бумо". В тюрьме начинались деятельные приготовления к приему сановного посетителя. Даже бравый штабс-капитан, гордившийся тем, что вверенный ему рудник постоянно готов "к посещению его самим государем", обнаруживал заметные признаки беспокойства и волнения; известно, что новая метла всегда чище метет, а главное – один бог знает, каков нрав и каково направление нового властелина края… Он не унизился, правда, до того, чтобы лично вмешаться и вникнуть во все мелочи, тайники внутренней тюремной жизни, но надзирателям, очевидно, даны были строгие инструкции. Целые дни, с утра до позднего вечера, шныряли они по всем закоулкам здания, поднимая каждую соринку и распекая арестантов за малейшее упущение в чистоте и опрятности. Полы, мывшиеся прежде два раза в неделю, теперь скреблись и мылись через день, а после мытья красились охрой, которая придавала им действительно красивый вид, но зато, просохнув, превращалась вскоре в мелкую пыль, заставлявшую всех при подметании чихать и кашлять, А подметали камерные старосты чуть не каждые полчаса…
Явившись на одну из вечерних поверок, Лучезаров обратился к арестантам со следующею речью:
– Вот что! Вы уже слышали, вероятно, что на днях должен быть здесь новый военный губернатор. Прислушивайтесь к свистку, который будет подан дежурным надзирателем, соблюдайте порядок и чистоту. Затем, не беспокойте губернатора нелепыми просьбами и жалобами. Я знаю, вы любите разговаривать со всяким новым начальством: дескать, купить не удастся, а поторговать можно… Я буду взыскивать за нелепые разговоры. Каждый, кто хочет говорить, должен сегодня же, когда я буду обходить камеры, предварительно сообщить мне об этом. Я решу – дельная или вздорная претензия. Кроме того, не завтра-послезавтра посетит нашу тюрьму один иностранец, путешествующий с религиозной целью, – проповедник. И по отношению к нему также ведите себя прилично, не вздумайте обращаться к нему с какими-нибудь просьбами. У вас хватит ума. Он совершенно частное лицо, необлеченное никакой властью. Да вот что еще скажу вам. В камерах отвратительный запах. Оно и не мудрено. Я сейчас стоять не мог во время молитвы позади Ногайцева…. Вы совсем не умеете вести себя. Вздор это, будто живот пучит с хлеба и капусты, вздор! Я сам ем черный хлеб и люблю щи… Поддержаться всегда можно, но просто-напросто не хотите!
Огорошив арестантов такой проповедью, Лучезаров стал обходить камеры. Почти везде обращались к нему с заявлениями, что собираются говорить с губернатором. В нашей камере прежде всех выступили Петин и Сокольцев.
– О чем хотите говорить? – сумрачно спросил их Лучезаров.
– Проситься о переводке на Сахалин, господин начальник.
– Зачем?
– Да никак невозможно, господин начальник, отбыть наш срок в этой тюрьме, очень строго. А на плечах по тридцати, по сорока лет каторги.
– А на Сахалине разве срок уменьшится? Вздор говорите. Нечего лезть с такими глупыми просьбами. Да если бы губернатор и вздумал удовлетворить их, то вы бы сами раскаялись: ведь Сахалин в десять раз хуже Шелайской тюрьмы; туда ссылаются кроме забайкальских уроженцев, только особо важные преступники, в виде наказания.
– Все-таки дозвольте, господин начальник, изложить нашу просьбу.
– Пожалуй, излагайте. Только знайте, что она не будет уважена. Ты что, Луньков, вертишься?
– Я, господин начальник… так как я не в меру понес наказание, то… позвольте просить.
– Жаловаться?
– Гм… Да.
– Не советую. Ты полагаешь, что тебя наказали несправедливо, а я думаю, что вполне справедливо.
И с этими словами Лучезаров удалился в другие камеры. Больше часу продолжался этот обход. Везде просились на Сахалин и в другие рудники, и все получали отказ. Тем не менее у многих назрело твердое решение говорить с губернатором, как бы ни озлился на них за это Шестиглазый. На следующий день к вечеру неожиданно для всех явился в тюрьму иностранец-проповедник со своим переводчиком, в сопровождении одного лишь старшего надзирателя. Лучезарова не было дома – он куда-то отлучился. Высокий сгорбленный старик с седой бородой, в черном сюртуке и с грудой Евангелий под мышками, начал обходить камеры и читать арестантам немецкую проповедь, которую переводчик дословно переводил на русский язык:
– Эта книга – великая книга, одинаково необходимая как для крестьянина, так и для императора. Учение, заключающееся в этой книге, истинно. Оно не только истинно, но также и в высшей степени практично, полезно. Стоит искренно уверовать и попросить бога – и он исполнит все наши просьбы и желания.
Только что успел проповедник произнести в нашем номере эти слова, как раздалась оглушительная команда "Смирно!!" ив камеру влетел с надзирателями запыхавшийся, но весь сияющий, Лучезаров. Иностранец смутился и замолк.
– Начальник Шелайской тюрьмы, штабс-капитан Лучезаров! – отрекомендовался ему бравый штабс-капитан.
Старик назвал свою фамилию, поклонился, подал руку и тотчас же вытащил из кармана бумагу, свидетельствовавшую О целях его путешествия и о разрешении посещать каторжные тюрьмы. С наивностью, доходившей до остроумия, арестанты рассказывали после, что Шестиглазый, как только явился, сейчас же потребовал у иностранца "пачпорт".
– Вот молодчина-то! – говорили про него не то с насмешкой, не то с действительным восхищением.
– Он никому не уважит. Он и самому губернатору, пожалуй, двадцать очков вперед даст!.
– Ну что ж, – сказал Лучезаров после нескольких секунд неловкого молчания, возвратив старику его "пачпорт", – вы уж поговорили с ними?
Старик, узнав от переводчика смысл вопроса, кивнул головой в знак согласия и начал раздавать арестантам книги, спрашивая наперед, грамотны они или нет. Но все назывались грамотными, даже и те, которые знали лишь азбуку. После этого посетители отправились в другие номера, при чем при входе в каждый из них раздавалось громогласное: "Смирно!" Иностранцу, вероятно, не сильно понравилось проповедовать при таких условиях. Он поспешил удалиться, а арестанты принялись со всех сторон судить и рядить его. К сожалению, я не слышал среди этих суждений ни одного слова о том, ради чего посетил он тюрьму и что говорил. Толковали об его внешности, об одежде.
– Вот такого бы гуся на дороге встретить, – бравировал Андрюшка Повар, – небось с одного б слова все отдал, что при ем есть, и часы, и сюртук, и деньги!
– Деньжонки-то у него, надо быть, водятся, – подтверждали другие.
– А чего б ему стоило нам десятку-другую подарить? Нате, мол, ребята, за мое здоровье обед хороший сварите. Скупой, видно.
Тяжело было слышать подобные речи, больно думать, что для таких именно результатов приезжал за тысячи верст этот старик, быть может искренно веривший в святость и значение своей миссии, от чистого сердца мечтавший заронить в душевную тьму этих людей искру того божественного света, которым горело собственное его сердце… Но кого было и винить, с другой стороны? Их ли одних?
Розданные арестантам Евангелия в большинстве получили, как водится, совсем не то назначение, какое им давал проповедник, и пошли на курево и на другие, еще более низменные потребности…
Наконец наступил день, в который ожидали приезда губернатора… С. раннего утра надзиратели, нарядившиеся в папахи, праздничные мундиры и белые перчатки, в необыкновенном волнении бегали по тюрьме и раздавали арестантам свои распоряжения. Прежде всего опять приказали мыть и красить охрой полы, накануне только что вымытые. Но когда их вымыли, явилась новая забота: успеют ли они просохнуть? Раскрыли настежь все окна в камерах и коридорах, все двери… И все-таки волновались и ежеминутно бегали смотреть, как подвигается просушка. День был ветреный и пасмурный. Пообедали, отдохнули; все не было ни слуху ни духу о губернаторе. Все чувствовали себя утомленными от необычного душевного напряжения. Наконец, когда уже вернулись из рудника горные рабочие, пролетел слух, что со станции прискакал вестник:
– Сял!.. Едет!..
Все опять заволновалось и закопошилось. Но и после этого только через полтора часа приехал губернатор, и тогда арестантам велели наконец собраться в камеры, одеться в халаты и построиться… У ворот действительно раздался пронзительный свисток: мы построились. Только самые бойкие стояли еще в коридоре и заглядывали на двор, где должна была появиться начальствующая свита. Соглядатаями от нашей камеры были Луньков и Петин. Оттуда приходили одна за другой "телеграммы". По первому известию, губернатор был высокого роста мужчина с рыжей бородой и сердитым взглядом; по позднейшему – толстенький и маленький, чернявый… Так же противоречивы были "телеграммы" и о внешнем виде Шестиглазого. Луньков сообщал, что он бледен и "ровно не в себе", тянется перед генералом и держит руку под козырек – по всем признакам нагоняй большой получает! Сохатый, влюбленный в военную выправку Лучезарова, утверждал, напротив, другое.
– Трепач! Мараказ паршивый! Чего врешь? Шестиглазый герой героем глядит. Разве видали где в другом месте такого артиста? Ему разве штабс-капитаном бы быть? Он за самого фельдмаршала сойти б мог!
– Губы еще не обсохли у твоего Шестиглазого, У нас в Воронеже один частный есть: так за пояс может всех их таких заткнуть! Усы как смоль черные, походка точно что иройская… А этот жиром заплыл!
– Болван, что ты понимаешь? В уме дело, а не в роже.
– А чем он умен, твой Шестиглазый?
– Тем, что в страхе умеет вашего брата держать, скидок лишает, порет… Самого бога не боится!
– Брось смеяться! Это вас, дешевых, запугать он может, а мы не испугаемся. Я вот жаловаться стану губернатору, а посмотрим, как ты ни жив ни мертв стоять будешь.
– Болван!
– Да бросьте вы, черти!.. Патоку когда вздумали тереть. Ведь придут сейчас!
– Идут, идут! – кинулись со всех ног вестники, стоявшие в коридоре.
Все построились, откашлялись, встали – точно аршин проглотили.
– Смир-рно!! – скомандовал надзиратель, и в камеру вошли: губернатор, его адъютант, заведующий каторгой, Лучезаров, исправник, прокурор и много других лиц высшего и низшего разбора. Губернатор оказался человеком среднего роста, пожилой, с проседью в бороде. Он обошел выстроившиеся ряды арестантов, пристально вглядываясь каждому в лицо, и затем, повернувшись, спросил, нет ли у кого просьб или претензий. Лучезаров указал на Петина.
– Что нужно? – спросил губернатор, подходя к Сохатому.
– Ваше превосходительство, явите божескую милость.
– Какую именно?
– Отправьте па Сахалин.
– Это для чего же? Петин замолчал.
– Срок очень большой, ваше превосходительство, – вмешался Лучезаров, – так он надеется, основываясь на арестантских слухах, что там сразу выпустят его на волю.
– Ты очень ошибаешься, дружок, – сказал губернатор, – закон везде одинаков. Да к тому же я не знаю еще здешних порядков. Имею ли я власть сделать это? – обратился он к заведующему каторгой. – Как у вас это делается?
– Получаются время от времени затребования, и тогда производится к весне выборка здорового и годного народа. Обыкновенно же посылаются только забайкальские уроженцы.
– Вот видишь ли, голубчик, – обратился губернатор к Петину, – и сделать-то это трудно. Впрочем, если будет требование…
– Ваше превосходительство, – заговорил внезапно Ногайцев, который не заявил Лучезарову о своем желании говорить с губернатором. Бравый штабс-капитан даже вздрогнул от неожиданности и, насупив брови, поднял изумленное лицо.
– Ваше превосходительство, – храбро продолжал Ногайцев, – и меня тоже отправьте на Сахалин… Будьте так любезны… Окажите такую любезность…
– Оказать тебе любезность? Видите, чего захотел! – улыбнулся губернатор, обращаясь к свите. – Ну почему же ты хочешь на Сахалин? Почему он так люб вам?
– Да так, ваше превосходительство! Чтоб уж к одному, значит, берегу пристать.
– То есть как это к одному берегу?
– Так. Крутом, значит, вода, и некуда деться… Путаться бы уж перестал тогда по белому свету.
– Путаться? Можно, и здесь оставаясь, бросить путанье. Кто еще что-нибудь имеет?
Лучезаров указал на Сокольцева. – Вот тоже на Сахалин просится… Их полтюрьмы таких наберется… путешественников.
– Ага! А каково их поведение?
– Особенно дурного пока ничего нет, – покривил душой Лучезаров, метнув искоса взгляд в сторону арестантов.
– Больше никто ничего не имеет заявить?
– Ваше превосходительство, – заговорил детски пискливый голосок Лунькова.
– Что такое?
– Изнуряют нас здесь непосильной работой… взыскания несправедливые налагают!..
– В чем дело, расскажи подробнее.
– Мы роем канаву… Уроки очень большие задаются… Я не мог выработать… Меня лишили скидок и дали сто розог…
– Правда это? – обратился губернатор к заведующему каторгой, положив в то же время руку на плечо Лунькову. Что-то мягкое, сочувственное к этому хорошенькому арестантику, почти еще мальчику, мелькнуло, казалось, в лице старого генерала.
– Он лжет, ваше превосходительство, – подскочил бравый штабс-капитан, – господину заведующему хорошо известно, что он наказан не за плохую работу, а за оскорбление, нанесенное надзирателю.
Заведующий каторгой, подтвердил эти слова.
Губернатор снял руку с плеча Лунькова и спросил его:
– Зачем же ты врешь, голубчик? Это нехорошо.
Опешивший Луньков молчал. Губернатор, видимо недовольный, вышел вон – с тем чтобы направиться в другие камеры.
Сожители мои сдвинулись в одну кучу и принялись шепотом обсуждать случившееся. Луньков с Петиным тотчас же поругались, начав критиковать один другого. Петин обзывал Лунькова болваном за то, что он не сумел оправдаться.
– Как дошло до дела, и воды в рот набрал! Точно обухом его по лбу стукнули! У, трепач, хвастунишка… Вот ужо поплатишься теперь, мараказ проклятый!
– Я-то мараказ, а вот ты-то, иркулез-великан, Сохатый по прозванью, как ты-то не умел своего дела обсказать? Не мог объяснить, зачем на Сахалин просишься…
– Осел! Идиот! Да зачем мне было объяснять, коли за меня сам начальник мазу держал? Ну что! Согласен теперь, что штабс-капитан Лучезаров герой перед ними всеми? Какой это губернатор? Ни дородства, ни осанки, ничего… А у того, по крайности, тела сколько! Румянец на лице… И развязность есть!
Спор разгорался все жарче и жарче, начав переходить от шепота к галденью, когда пронесся наконец слух, что губернатор уже вышел из тюрьмы. Тогда все кинулись из камеры в коридор, где столпилась вся тюрьма и сообщались новости. Оказывалось, что в каждом почти номере просились два-три человека на Сахалин и что губернатор в одном из них сказал заведующему: "Что ж, отправьте их к весне!" Ликование было полное.
– А я слышал другое, – объявил вдруг сапожник Звонаренко, по прозванью Кожаный Гвоздь, глава тюремных вестников, – я слышал, как заведующий сказал губернатору в коридоре: "Вряд ли следующей весной будет выборка". А он отвечал: "Пущай надеются! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало". Вот и надейтесь теперь, отправят вас на Сахалин!
Известие это подействовало в первую минуту на мечтателей как ушат холодной воды; но так как верить хотелось тому, что сулило какую-нибудь надежду в жизни, а никак не тому, что было вернее, то в следующую затем минуту общее негодование обрушилось уже на самого вестника. На несчастного Кожаного Гвоздя неизвестно за что посыпалась такая отборная ругань, что он едва успевал отгрызаться. Дело чуть не кончилось дракой. Она прекращена была новым известием, что Лунькова и Ногайцева повели в карцер.
– Как? За что? Кто велел посадить?
– Шестиглазый. За неправильные и самовольные разговоры.
Все на мгновение онемели.
"Ну, теперь пропишет им Шестиглазый, – думалось каждому, – будут помнить кузькину мать!"
XIII. Ночь{43}
Ночь. Уже прошло больше часа после барабанного боя в казацких казармах; все разговоры давно смолкли, и сожители мои лежат вповалку – кто на нарах, кто на полу, забывшись крепким сном. Тишина мертвая и в камере и в коридорах тюрьмы; изредка только надзиратель подкрадется кошачьими шагами к дверному оконцу и, звякнув ключами, отойдет прочь. Раздастся чей-нибудь храп, кто-нибудь повернется на другой бок, проворчит или простонет во сне, брякнет кандалами – и опять все тихо, как в могиле… Лампа, висящая на стене, запоет порой тонким, комариным голосом – и тоже опять затихнет, точно сама испугавшись своего не: верного пения. Но я все еще бодрствую, один среди множества живых, распростертых вокруг меня тел, и мучительная тоска постепенно овладевает душою, поднимаясь, как морской прибой, волна за волной, с тихим, но все усиливающимся ворчаньем и ропотом…
– Здравствуй, знакомая гостья, дитя тюремной бессонницы! Я знаю, сегодня ты опять промучишь меня вплоть до утреннего рассвета, опять истерзаешь мне нервы, тело и душу… Мифический Протей,{44} сколько у тебя изменчивых форм и образов, сколько орудий пытки! Мертвящая скука, чудовище с ледяными объятиями и бездонными темными ямами вместо глаз; чувство томящего одиночества, от которого так хочется плакать, плакать и кричать, без надежды кем-либо быть услышанным; страх, поднимающий волосы на голове, пробегающий морозом по всему телу…
Мрачные думы встают одна за другою неизвестно из каких глубин мозга, и длинной похоронной процессией проходят перед глазами картины прошлого, милого, дорогого прошлого, которое, увы! воскресить невозможно. А страшное, тяжелое, проклятое прошлое, вечно живое, стоит бессменно тут, у изголовья, со всеми своими ошибками, падениями, обидами…
Однако… что за странная галлюцинация? Где я? Какие трупы лежат возле меня – и справа, и слева, и там, внизу, под ногами? Неужели я один живой среди мертвых? Нет! Кто-то пошевельнулся… Да, да, припоминаю… Стоит мне крикнуть, не совладав с ужасным кошмаром, – и трупы эти вскочат на ноги, зазвенят око-. вами, заговорят, задвигаются, и улетят прочь призраки ночи… Но зачем? Они ведь и живые мертвы для меня. К чему закрывать глаза на горькую правду? Я – один. Один, как челнок в океане, как былинка в пустыне, один, один! Мне нет здесь товарищей, как бы ни жалел я этих бедных людей, как бы ни хотел перелить в них часть своего духа; нет сердца, которое билось бы в такт моему сердцу, нет руки, на которую я доверчиво мог бы опереться "в минуту душевной невзгоды"…{45} Горе, горе! Как попал я в эту смрадную яму, над которой носится дыхание разврата и преступления?.. Что общего между мною, который порывался к светлым небесным высям, и миром низких невежд, корыстных убийц? Кровь, кровь кругом, разбитые вдребезги черепа, перерезанные горла, удавленные шеи, простреленные груди… И над всем этим ужасом витают тени погибших, отыскивая своих убийц, отравляя их сны черными видениями…
Как изболела душа… Как устал я хранить вид равнодушного философа… Как страстно – хотелось бы отдохнуть па близкой, родимой груди! Иметь возле себя товарищи, думающего те же думы, переживающего те же чувства…
Ах, сколько говорили бы мы —
О Шиллере, о славе, о любви!{46}
Всего два года,[62] а как давно уже, кажется мне, оторван я от всего, чем живет образованный мир. Что случилось там за эти два года?
Быть может, изменилась физиономия всего политического мира; всплыли наверх и стали на очередь великие жгучие вопросы, которые тогда, при мне, казались еще столь преждевременными, столь отдаленными… Забила ключом могучая жизнь, брызнули яркие волны неслыханного света… Туда, туда бы скорее, разделить все восторги, все труды и заботы моих братьев, стать в ряды простых, скромных работников и, если нужно, погибнуть с ними за дело прогресса и благо народа!
А быть может и то: над Европой нависла мрачная туча безвременья… Лучшие бойцы сошли со сцены, и суетятся лишь мелкие, корыстные мошки и букашки. Туда бы, все-таки туда бы! Страдать и гибнуть там, на воле, со всеми!
А что делается теперь в науке, в литературе, нашей родной литературе, поэзии, искусстве? Я кинул их в трудную годину, когда сходили с арены последние могикане великой эпохи и "в храме истины, священном храме слова" начинала возвышать голос мелкая, бездарная литературная "шпанка". О, неужели и там царит теперь мерзость запустения?! Нет, нет, не может быть! Вспыхнули новые яркие звезды, хлынули свежие потоки сил, явились бодрые вожди света и правды, не давшие погибнуть бесследно трудам стольких поколений. Явился могучий поэт, ударивший по сердцам с неведомою силой, народился славный художник, отразивший в большом романе все, что…
Боже, боже! Прозябать в этой жалкой норе и ничего не знать, не идти на посильную помощь… Быть может, и умереть здесь, в мрачном мире отверженных, умереть всеми забытому, с клеймом общего презрения на челе, со стоном бессильного отчаяния в сердце и проклятия, кому – неизвестно!..
Ах, усни, беспокойное сердце! Замолчите, безумные думы!
1893 г. Июль – август Лазарет Акатуевской тюрьмы{47}







