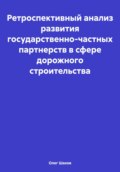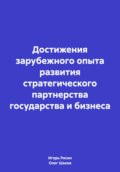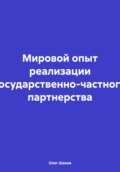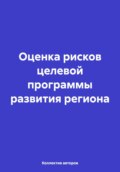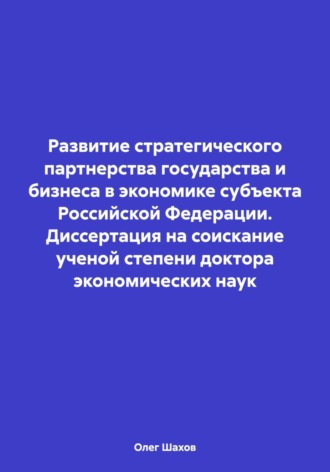
Олег Федорович Шахов
Развитие стратегического партнерства государства и бизнеса в экономике субъекта Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук
1.3 Эффекты стратегического партнерства государства и бизнеса
Анализ имеющегося теоретического задела в исследуемой нами предметной области свидетельствует об отсутствии постановки, а, следовательно, и решения задачи идентификации эффектов стратегического партнерства государства и бизнеса.
Такое положение, на наш взгляд, объясняется устоявшейся, широко распространенной в научной литературе позицией, согласно которой понятия «результат» и «эффект» определяются как синонимы.
Полагаем, что отождествление понятий «результат» и «эффект» применительно к стратегическому партнерству государства и бизнеса не является корректным.
Предварим обоснование авторской позиции характеристикой подходов к оценке эффективности реализуемых проектов партнерства государства и бизнеса. Эти подходы содержатся в законодательных документах, нормативных актах государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих организацию и деятельность разных форм партнерства.
В Федеральном законе от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» (ст. 9) предусмотрено, что оценка эффективности проекта ГЧП проводится перед рассмотрением проекта на определение его сравнительного преимущества на основании следующих критериев:
1) финансовая эффективность проекта государственно-частного партнерства;
2) социально-экономический эффект от реализации проекта государственно-частного партнерства, рассчитанный с учетом целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического планирования [2].
Важно и указание на то, что рассмотрение сравнительного преимущества проекта допускается в случае, если проект будет признан эффективным по каждому из вышеназванных критериев. При этом сравнительное преимущество проекта определяется на основании соотношения следующих показателей:
– чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта государственно-частного партнерства и чистых дисконтированных расходов при реализации государственного контракта;
– объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта государственно-частного партнерства и объема принимаемых таким публично-правовым образованием обязательств при реализации государственного контракта [2].
Как видно, ожидаемый эффект определен как экономия бюджетных средств, которую государство сможет получить при осуществлении проекта ГЧП в сравнении с их использованием при реализации государственного контракта. Что касается социально-экономического эффекта, то очевидно, что его значимыми составляющими будут созданные рабочие места, объем произведенных товаров и оказанных услуг, в том числе, общественных.
Не оспаривая значимости зафиксированных эффектов, полагаем, что их состав вряд ли является исчерпывающим, если учесть, во-первых, что наряду с государством действует частный партнер, который ожидает получения эффектов, реализующих его особенные интересы; во-вторых, ожидания конечных потребителей товаров и услуг.
В статью 6 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» внесено дополнение, суть которого в установлении органами публичной власти для особой экономической зоны показателей эффективности ее функционирования (поправка введена Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 213-ФЗ). В соответствии с этой нормой постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон» установлен порядок такой оценки.
Предусмотрено использование в оценке эффективности, в том числе, таких показателей, как:
– количество резидентов особой экономической зоны, включая количество резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне с привлечением иностранных инвестиций;
– количество рабочих мест, созданных резидентами особой экономической зоны на территории особой экономической зоны;
– объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами особой экономической зоны на территории особой экономической зоны в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в особой экономической зоне;
– объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов;
– объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны;
– объем средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны;
– объем налогов, уплаченных резидентами особой экономической зоны в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
– объем таможенных платежей, уплаченных резидентами особой экономической зоны;
– объем используемых резидентами особой экономической зоны налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет;
– объем используемых резидентами особой экономической зоны льгот по уплате таможенных платежей;
– объем используемых резидентами особой экономической зоны налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет;
– количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны, построенных на территории особой экономической зоны и введенных в эксплуатацию (плановое и фактическое значения), а также их проектная мощность;
– доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов особой экономической зоны, в общей полезной площади особой экономической зоны (плановое и фактическое значения);
– доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов особой экономической зоны, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых.
Как видно, предложен заметно расширенный состав показателей эффектов, ожидаемых от использования этой формы пространственной организации экономики. Заслуживает внимания и тот факт, что в этом составе есть показатели эффектов, значимых не только для государства, но и для частного бизнеса.
Вместе с тем отметим, что ряд показателей вряд ли имеет отношение к эффектам, поскольку они не фиксируют сравнительную выгоду, которую получает государство именно от партнерства с бизнесом в рамках особой экономической зоны.
К таковым, на наш взгляд, относятся следующие показатели: объем налогов, уплаченных резидентами особой экономической зоны в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, объем таможенных платежей, уплаченных резидентами особой экономической зоны.
Другое дело, если бы были использованы показатели прироста налогов и таможенных платежей, получаемых государством от бизнеса, участие которого в ОЭЗ обеспечило рост масштабов предпринимательской деятельности, внешнеэкономического оборота.
Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» предусмотрено, что оценка социально-экономических последствий создания территории опережающего развития должна учитывать динамику роста объема дополнительных доходов, поступающих в соответствующие бюджеты в связи с созданием территории опережающего социально-экономического развития; число инвесторов, заключивших с уполномоченным федеральным органом соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест.
Заслуживает внимания акцент именно на приросте бюджетных доходов, обусловленных функционированием территории опережающего развития, объеме привлекаемых инвестиций, количестве создаваемых рабочих мест.
Тем не менее, на наш взгляд, этот состав показателей эффектов не является исчерпывающим.
В «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации» в качестве основных показателей, отражающих степень достижения задач по формированию условий для эффективного развития кластеров и обеспечению эффективной поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности кластеров, определены, в том числе, следующие:
– темпы роста производительности труда на предприятиях, образующих кластеры;
– темпы роста объемов инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций в предприятия, образующие кластеры;
– темпы роста объемов несырьевого и высокотехнологичного экспорта, осуществляемые предприятиями, образующими кластеры [347].
Заметим, что исследователи, занимающиеся разработкой региональной кластерной политики, уже обращали внимание на неполноту состава этих показателей.
Так, И.Е. Рисин и Ю.И. Трещевский считают, что для обеспечения адекватной оценки эффектов кластеризации целесообразно использование следующих показателей: объем инвестиций, привлеченных участниками кластера, для обновления производства, освоения новых видов продукции (услуг); объем привлеченных иностранных инвестиций, в том числе, прямых; число передовых производственных технологий, созданных участниками кластера; число используемых участниками кластера передовых производственных технологий; доля добавленной стоимости, созданной в кластере в валовом региональном продукте; число видов инновационной (для российского и мирового рынков) продукции (услуг), производимой кластером; объем инновационной продукции (услуг) кластера; доля инновационной продукции в общем объеме продукции, производимой в кластере; объем импортозамещающей продукции, производимой кластером; объем экспорта продукции, производимой кластером; доля экспортной продукции, производимой кластером, в общем объеме экспорта региона; численность занятых на предприятиях и в организациях кластера; число вновь созданных рабочих мест, в том числе, высокотехнологичных; производительность труда (рассчитанная по добавленной стоимости) в кластере [172].
Заслуживает внимания широкий спектр показателей, предложенный названными авторами для оценки эффективности такой формы пространственной организации экономики, как кластер. Тем менее, и в этом случае эффекты, значимые для бизнеса, представлены, по нашему мнению, не в полном формате.
Выборка из этого перечня показателей осуществлена коллективом авторов, включившем в него: виды инновационной (для российского и мирового рынков) продукции (услуг), производимой кластером; объем инновационной продукции (услуг) кластера; долю добавленной стоимости, созданной в производстве инновационной продукции, в общем объеме добавленной стоимости, созданной участниками кластера; численность занятых на предприятиях и организациях кластера; число вновь созданных рабочих мест; производительность труда (рассчитанная по добавленной стоимости) в кластере; объем привлеченных инвестиций, в том числе, иностранных; география рынков сбыта [149].
Как видно, появился новый показатель – география рынков сбыта продукции (услуг) кластера, что, на наш взгляд, вполне может использоваться в оценке эффектов деятельности кластеров, стратегия развития которых предусматривается их экспансию на новые рынки. Иными словами, такой показатель является избирательным.
Заметим, что в обоих случаях авторами не предложена идентификация самих эффектов деятельности партнерства государства и бизнеса, что затрудняет оценку адекватности предложенных перечней показателей.
Резюмируя, полагаем обоснованным вывод о том, что задача идентификации эффектов стратегического партнерства государства и бизнеса пока не решена.
Предлагаем авторский теоретико-методологический подход к ее решению, раскрывающийся в следующих положениях[16].
1. Необходимо различать два вида результатов деятельности стратегического партнерства государства и бизнеса.
Первый вид результатов фиксируется участниками партнерства в момент его создания. Для содержательной интерпретации этого положения обратимся к конкретным формам партнерства государства и бизнеса.
Так, в соглашениях между участниками государственно-частного партнерства (ГЧП) результатом является строительство и (или) реконструкция объекта соглашения [2].
Заметим, что этот результат всегда детерминирован ресурсной базой, мобилизуемой государством и бизнесом в конкретном проекте ГЧП.
В партнерстве государства и бизнеса, обеспечивающем пространственное развитие экономики регионов, таким результатом будет законодательное утверждение особой экономической зоны, территории опережающего развития и др. Значимыми характеристиками такого результата будут:
– географическое положение (территория одного или территории нескольких муниципальных образований);
– профиль деятельности (например, применительно к особым экономическим зонам устанавливается их тип – промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, для кластеров – фиксируется характер их экономической деятельности – традиционной, или инновационной, виды деятельности).
В партнерстве государства и бизнеса, связанном с разработкой стратегий социально-экономического развития регионов, таким результатом будет соответствующий программный документ, утвержденный законодательным актом (федеральным или региональным законом, постановлениями исполнительного органа публичной власти).
Второй вид результатов стратегического партнерства государства и бизнеса проявляется (за исключением сотрудничества в стратегическом планировании) в объемах и качественных характеристиках производимой продукции и (или) оказываемых услуг. К основным показателям такого результата относятся: валовой региональный продукт (ВРП) – для оценки результата реализации стратегии развития экономики региона, ВРП на душу населения; объем и динамика роста произведенной продукции, оказанных услуг; доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг участниками проектов ГЧП, различных форм пространственной организации экономики.
2. К эффектам стратегического партнерства государства и бизнеса относятся результаты, обеспечивающие достижение стратегических целей его деятельности, в которых учтены общие и особенные интересы партнеров.
Состав эффектов определяется спецификой экономической, институциональной, организационной природы форм партнерства. Поэтому идентификация эффектов стратегического партнерства должна осуществляться применительно к каждой из его форм.
3. Инвариантным для всех форм стратегического партнерства государства и бизнеса является проявление эффектов как во внутренней, так и во внешней среде партнерства, в происходящих и ожидаемых изменениях ее значимых параметров.
4. Учет стратегических целей и интересов субъектов государственно-частного партнерства и партнерства, связанного с пространственным развитием экономики, позволяет отнести к эффектам таких партнерств:
– ресурсную базу партнерства, мобилизованную и использованную его участниками;
– выгоды, полученные партнерами от результатов совместной экономической деятельности;
– прирост используемой в коммерческом обороте государственной и частной собственности;
– выгоды конечных потребителей товаров и услуг, предоставленных партнерством.
Учет стратегических целей и интересов субъектов партнерства государства и бизнеса в сфере стратегического планирования позволяет отнести к его эффектам:
– ресурсную базу партнерства, мобилизованную и использованную его участниками;
– выгоды, полученные партнерами от результатов совместной плановой деятельности.
5. Эффекты стратегического партнерства государства и бизнеса имеют количественную и (или) качественную определенность. В их характеристике востребованы не только показатели (перечень которых является более широким, чем тот, который ныне предлагает государственная статистика), но и экспертные оценки.
Самостоятельной и значимой группой экспертов являются конечные потребители общественных и частных товаров (услуг), предоставленных партнерством.
Реализация предложенного нами теоретико-методологического подхода к идентификации эффектов позволила определить их состав применительно к каждой форме стратегического партнерства государства и бизнеса, предложить перечни показателей их оценки.
Систематизация эффектов государственно-частного партнерства и их показателей представлена нами в Таблице Д1. В их характеристике отметим следующее. Фиксация в качестве эффектов партнерства использованных в его деятельности ресурсной базы и инноваций аргументируется тем, что при отсутствии проекта ГЧП ни государству, ни частному партнеру не удалось бы мобилизовать необходимые для строительства или реконструкции конкретного объекта инвестиционные и трудовые ресурсы, государство не смогло бы обеспечить использование имеющихся у частного партнера продуктовых и технологических инноваций в тех сферах экономической деятельности, которые находятся в зоне его ответственности.
Акцентируя внимание на таком эффекте, как дополнительный доход, полученный государством от использования с более высокой отдачей принадлежащего ему имущества, укажем, что нередко в проектах ГЧП задействуется имущество, находящееся в государственной собственности, но не используемое в хозяйственном обороте. В этом случае весь доход, полученный государством, становится для него эффектом от деятельности партнерства. В других случаях эффектом будет разница между величиной дохода, полученного государством от деятельности партнерства, и доходом, которое приносило это имущество в прежнем режиме его хозяйственного использования.
Систематизация эффектов партнерства, обеспечивающего пространственное развитие экономики региона, дана в Таблице Е1. Систематизация эффектов партнерства, связанного с разработкой стратегий социально-экономического развития субъектов РФ, дана в Таблице Ж1.
Таким образом, в данном разделе представленного исследования проанализированы основные эффекты реализации партнерства государства и бизнеса с использованием авторского теоретико-методологического подхода к систематизации обозначенных эффектов.
Подведем итоги первой главы диссертационного исследования. В ней были получены следующие основные научные результаты, обладающие признаками научной новизны:
1. Предложена уточненная и дополненная трактовка стратегического партнерства государства и бизнеса, в соответствии с которой такое партнерство определяется как ориентированное на достижение стратегических целей социально-экономического развития страны, ее регионов долговременное и взаимовыгодное сотрудничество партнеров в экономической и управленческой сферах деятельности, основанное на совместном использовании принадлежащих им ресурсов, реализации общих и согласованных особенных интересов.
2. Обосновано, что стратегическое партнерство государства и бизнеса в экономике региона реализуется в различных формах, в числе которых выделены:
– государственно-частное партнерство, используемое для производства общественных и частных благ в широком спектре видов экономической деятельности;
– партнерство, обеспечивающее пространственное развитие экономики региона;
– партнерство, связанное с разработкой стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
3. Сущность стратегического партнерства государства и бизнеса раскрыта в экономических отношениях между партнерами, опосредующих мобилизацию и совместное взаимовыгодное использование ресурсов, принадлежащих партнерам. Эти отношения проявляются в интересах сторон.
Идентифицированы общие и особенные интересы участников стратегического партнерства применительно к каждой из его форм.
Аргументировано положение о необходимости согласования интересов партнеров, как на этапе формирования партнерства, так и в процессе его деятельности.
4. Содержание стратегического партнерства государства и бизнеса раскрыто в:
– особенных характеристиках его форм;
– составе стратегических сфер, в которых используются конкретные формы стратегического партнерства;
– составе стратегических целей, с достижением которых связывается использование каждой формы стратегического партнерства.
5. Аргументировано положение о необходимости различать два вида результатов деятельности стратегического партнерства государства и бизнеса. Первый вид результатов фиксируется участниками партнерства в момент его создания. Второй – проявляется в объемах и качественных характеристиках результатов экономической и управленческой деятельности партнерства.
6. Обосновано, что к эффектам стратегического партнерства государства и бизнеса относятся результаты, обеспечивающие достижение стратегических целей его деятельности, в которых учтены общие и особенные интересы партнеров.
Состав эффектов определяется спецификой экономической, институциональной, организационной природы форм партнерства. Поэтому идентификация эффектов стратегического партнерства должна осуществляться применительно к каждой из его форм.
Установлено, что инвариантным для всех форм стратегического партнерства государства и бизнеса является проявление эффектов, как во внутренней, так и во внешней среде партнерства.
7. Доказано, что состав эффектов государственно-частного партнерства и партнерства, обеспечивающего пространственное развитие экономики региона, включает:
– ресурсную базу партнерства, мобилизованную и использованную его участниками;
– выгоды, полученные партнерами от результатов совместной экономической деятельности;
– прирост используемой в коммерческом обороте государственной и частной собственности;
– выгоды конечных потребителей товаров и услуг, предоставленных партнерством.
Партнерство, связанное с разработкой стратегий социально-экономического развития субъектов РФ, включает:
– ресурсную базу партнерства, мобилизованную и использованную его участниками;
– выгоды, полученные партнерами от результатов совместной плановой деятельности.
8. Реализация авторского теоретико-методологического подхода к идентификации эффектов стратегического партнерства государства и бизнеса позволила определить их состав применительно к каждой его форме, предложить перечни показателей оценки установленных эффектов.