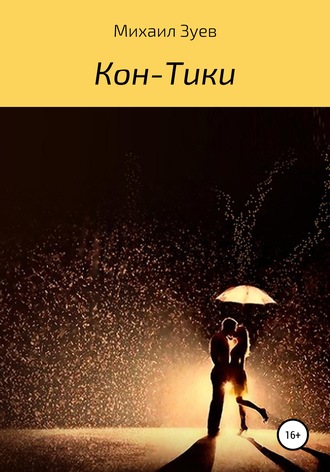
Михаил Зуев
Кон-Тики
– Хорошо. Ждите меня через три минуты в вестибюле проходной, – мембрана разразилась короткими гудками, не обратив внимания на мое «большое спасибо».
Ровно через три минуты, секунда в секунду, в помещении проходной появился повелитель телефонной мембраны – высокий, крепкий, статный, лет, наверное, пятидесяти, одетый в одну операционную форму на голое тело, как будто на улице был июль. Сквозь чуть затуманенные стекла модных очков он коротко взглянул на меня, сказал основательному охраннику:
– Пропустите. Товарищ ко мне, – и, не дожидаясь реакции, развернувшись, двинулся в обратном направлении. Я хвостиком поспешал за ним следом. Мы прошли небольшой дворик, вошли в опрятный корпус желтого кирпича, поднялись по лестнице на третий этаж.
– А… пальто?.. – спросил я, пока поднимались по лестнице. Николай Васильевич посмотрел на меня через плечо и ничего не сказал. В коридоре он толкнул четвертую или пятую по счету дверь, и мы оказались в маленьком, но светлом и опрятном кабинете: высокое окно, стол, несколько стульев, диван, рукомойник, вешалка, шкаф, портрет Пирогова на стене, чуть ниже – с десяток фотографий в деревянных рамочках.
– Раздевайтесь, руки мойте, садитесь, – приказал мне начмед Московской бассейновой больницы.
– Куда? – спросил я.
– Что – куда?
– Садиться куда?
– Куда понравится. У нас теперь демократизация и новое мышление. Слыхали? – иронично поинтересовался Николай Васильевич.
– Слыхал, – с той же интонацией подтвердил я.
– Бумаги давайте.
Я извлек из портфеля диплом, свежие корочки врача-хирурга первой категории, свой отчет для квалификационной комиссии, две характеристики, отдал тоненькую пачечку начмеду и робко присел на краешек стула. Не обращая на меня вообще никакого внимания, горообразный Николай Васильевич внимательно читал мой восьмистраничный отчет, периодически останавливаясь, перелистывая на страницу-другую назад, что-то там примечая и снова двигаясь вперед. Закончив чтение, он впервые поднял на меня взгляд.
– Так-так, Степан Иваныч, хорошо, очень хорошо… Как к нам попали?
– По рекомендации доктора Коровкина, Николай Васильевич.
– Так-так. А Коровкин вам кем приходится?
– Другом… Институтским другом, – поправился я.
– Так-так. И что вы себе думаете?
– Я хочу работать врачом на флоте.
– Море любите? Романтика там, паруса, человеки-пароходы? А? – человек-гора смотрел на меня безо всякого юмора. Я понял: вопрос не просто так. Отвечать следовало честно. Очень честно.
– Нет, Николай Васильевич. Море не люблю. Романтикой не страдаю.
– Вы серьезно?! – прогремел Николай Васильевич, глядя на меня в упор из-под спущенной на нос оправы дорогих очков.
– Да, – твердо парировал я.
– Фу, слава богу, уже легче, – впервые улыбнулся мне начмед. – Значит, без глупостей. Зачем вам тогда в море?
– Мне деньги нужны, – глядя ему прямо в глаза, твердо сказал я.
– А я еду, а я еду за деньгами, а за туманом едут только дураки… – тихо промурлыкал под нос начмед. – Остается спросить устами незабвенного героя незабвенного романа: Стёпа, зачем вам деньги?
А он не страшный, и даже юморной, подумал я, а вслух сказал:
– Женюсь.
– Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки?.. – снова мурлыкнул Николай Васильевич. Я улыбнулся. – Так-так. Приятно иметь дело. Не врете, уже хорошо. Какой раз женитесь-то?
– Первый, – ответил я, и отчего-то смущенно покраснел.
– Ну, если старый убежденный холостяк… вы, ведь, старый убежденный?.. – я кивнул, – если старый убежденный холостяк решает изменить себе, значит, все серьезно. Так? – я кивнул снова. Этот большой человек начинал мне определенно нравиться. – Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа… Ну, ладно… – Николай Васильевич снял очки, положил на стол, зажмурился, потер веки, открыл глаза. Без очков взгляд его оказался по-детски беззащитным. – Ладно, вы, Стёпа. Можно вас так называть? – Я поспешно кивнул. – Ладно, вы. А как же ваша избранница? Только обретет мужа, и вот уже вам – звон склянок, и карета в тыкву, и раскинулось море широко…
– Мы справимся, – твердо сказал я.
– То, что вы справитесь, я не сомневаюсь. А она?! Вы в поход – в море, наполненное морем новых впечатлений. Это потом, года через два спустя, вам все обрыднет, а пока – пока будет ново и интересно. О вас не беспокоюсь. А она останется одна. Не боитесь?
– Боюсь, – очень тихо сказал я.
– Так какого черта?! – подался вперед начмед.
– Нам помочь некому. Мы всё сами. Нам деньги нужны. Очень.
– Хотите чаю? – после длинной паузы спросил Николай Васильевич.
Мы пили чай с ватрушками, появившимися из начмедовского стола. Васильич поглядывал на меня светло и ласково.
– Я поначалу думал, не возьму тебя. Знаешь, почему? – Я мотнул головой. – Переквалификация у тебя. Нам люди такой высокой квалификации в плавсоставе не нужны. Нам бы там чего попроще. Я бы тебя к себе сюда взял.
Я напрягся.
– Да ладно, не дрейфь. Успокойся. Понимаю твою ситуацию. Тут у нас валюты-то и таких окладов как своих ушей не увидать. Но только помни: ты Русалочкой будешь.
– Это как? – спросил я.
– Да так. Русалочка – она что? Хвост потеряла, ножки обрела. А дара речи лишилась.
– А я?
– Ты – денег поднимешь. А квалификацию свою растеряешь.
– Как так, Николай Васильевич?
– Да просто все как божий день, Стёпа. Послушай, что скажу. К нам во флотскую медицину по объявлениям в газетах не попадают. Почему? Да потому что нет в природе таких объявлений. Если их давать, косяком пойдут романтики и прочие идиоты. Как их отсеивать? Поэтому у нас только по рекомендации, по наводке тех, кто уже работает. Чтобы человек мог поручиться за новичка, что тот без закидонов. У нас ведь как? Система хитрая. Двойное подчинение. Ты, с одной стороны, врач, и подчиняешься начмеду бассейна. А, с другой, ты помкапитана, и подчиняешься… – он вопросительно взглянул на меня.
– Капитану, – закончил я фразу.
– Молодец, – улыбнулся начмед. – И вот тут-то собака и порылась. Если ты капитану не понравишься, если терки с ним какие, проблемы, он, ведь, с тобой церемониться не будет, он тебя с судна спишет прямо посреди рейса, – и все дела.
– За борт, что ли?
– За борт – это, в крайнем случае, – засмеялся Николай Васильевич. – Разжалует в пассажиры. И будешь сидеть в кубрике – никем и ничем. Без денежного довольствия и на баланде, до ближайшего порта советской юрисдикции. А если поход на полгода и наших берегов не видать, так и просидишь все полгода. Были случаи.
– Какие случаи, Николай Васильевич?
– Малохорошие. Когда коса на камень. У нас же какая основная проблема на советском торговом флоте? – Я недоуменно пожал плечами. – Сухой закон. На советском торговом флоте принят сухой закон. – Я кивнул. – Только вот незадача, юнга. Закон принят, а пьют все. Иногда не просто пьют, а до чертиков и белочек. Вот, допустим, ты видишь – человека списывать надо…
– Ну?
– А как ты его спишешь, если капитан против?!
– По показаниям.
– Ай, молодца! Списывай. По показаниям. А следом капитан тебя спишет. Капитан – между прочим, тоже человек. Ему тоже нужны две вещи. Какие? – Я опять пожал плечами. – Первое. Деньги. – Я кивнул. – А второе, еще поважнее первого, потому что без него никакого первого не будет. Ти-ши-на. Тише, мыши, кот на крыше… Нужна тишина. А как только ты кого спишешь, то…
– Кирдык тишине, – сказал я.
– Именно, – глотнул остывшего чаю начмед. – Так и это еще не все. На каждом судне у тебя десятки, а то сотни членов команды. Они все – люди. Правильно? – Я вновь кивнул. – Только они особые люди. Им болеть нельзя. Им, как и тебе, деньги нужны, валюта нужна. А если заболел – все, завертелась машина. Пиши пропало, спишут, и накроется его валюта. Дай бог, если потом вэ-ка-ка на берегу пройдет, и обратно возьмут. А если не пройдет? А если – не возьмут?! Что из этого следует? Ну?
– Из этого следует, Николай Васильевич, что они жаловаться на здоровье не будут.
– Именно, Стёпа! Именно так! Он у тебя на вахту полутрупом заступать будет, а не расколется. Пока не упадет. А если упадет – кого шкурить будут?
– Меня, – сказал я.
– Ну и последнее. Ладно, если команда небольшая. А если плаврыббаза? А там баб двести штук? Что тогда?
– Наверное, тогда не все спокойно.
– Тогда к пьянке в команде, Степа, присоединяются поножовщина на почве ревности и заболевания, передающиеся половым путем!
– На море клипер, на палубе шкипер, у шкипера триппер! – заржал я.
– Молодец, в общем фольклоре ориентирован!.. – загрохотал начмед. – Ну и, помни, не будет тебе никакой хирургии. Будешь лечить ушибы, фурункулы, алкогольный делирий, пневмонии, растяжения, переломы, поверхностные ножевые ранения, зубы драть будешь. Спасавиацию на себя вызывать, если что посерьезнее, и воды наши, или в чужом загранпорту больного до госпиталя и обратно сопровождать. Тю-тю твоя квалификация, даром, что получил первую категорию. Все честно тебе рассказал. А теперь – решай сам.
– Вы меня возьмете в плавсостав? – спросил я. Начмед лишь грустно кивнул.
– Твоего Коровкина я так же отговаривал. Не помогло. Настырные вы. Ну, да ладно. Господу видней.
Я ждал Цаплю внизу, у глухой стены кольцевой «Парк культуры». Увидел еще на эскалаторе. Рассекая серое море голов и плеч, она белой лебедью плыла ко мне через всю станцию – и глаза ее лучились, и походка была грациозна, и волна тепла, одному мне предназначенная, накатила девятым валом, и вот я, весь теперь внутри ее родного облака, тихо прошептал:
– Цапелька, они меня берут…
***
– Ну же, Шура! Ну-у-у, куда едешь?! Все колдобины собираем! Того и гляди, колеса отвалятся! – выставив руку в открытое окошко орала, ошалевшая от солнца и «крепляка» из горла, Дерюгина.
– Да ладно тебе! Вот же указчица нашлась! – смеялся в ответ Коровкин, сжимая двумя руками узкую черную баранку. – Тут как не поедешь, все равно – яма на яме! И вообще – младший состав действия штурвального попрошу не обсуждать! Что ты прицепилась?!..
– Сам дурак… – обиженно надула губки Дерюгина.
Мы с Цаплей, обнявшись, врастали друг в друга на заднем диване. Места для цаплиных ног не было совсем. Даже сильно сдвинутое вперед дерюгинское кресло не помогало; Цапле пришлось каким-то невероятным образом сложиться и скрючиться. Она напомнила мне улитку в тесном домике. Я ухмыльнулся, развязно подумав: да, такая женщина достойна совсем другого автомобиля, – и тут же осекся от стыда: у меня для нее не было никакого.
С пыльной Ленинградки, крутанувшись на развязке-«клевере», свернули на такой же пыльный, четырехполосный, с разбитой бетонкой и газоном-разделителем МКАД.
– Пусто как сегодня… – протянул я, глядя в окошко.
– Так все савейские граждане еще со вчерашнего, а то и с позавчерашнего по дачам сидят, Стёпский, – отозвался Коровкин. – Первомай, как положено, справляют. Это мы из-за твоего дежурства припозднились.
– Ничего, наверстаем! – заорала Дерюгина, в очередной раз присасываясь к бутылочному горлышку.
– Дерюгина, хорош тебе жмотничать! Ты так все сама допьешь! Передай в президиум! – Цапля сзади левой рукой обняла подругу за шею, а правой вытащила у нее бутылку.
– Чаплина, блин! Отдай взад! Взяла моду обижать маленьких! – дурашливо звенела Дерюгина.
– Девки, не ссорьтесь! Как допьете, я остановлю, еще достану! У нас полбагажника – бухло, а остальное – жратва!.. – как мог, пытался усмирить бунт на корабле морской волк помкапитана Коровкин.
Наш путь продолжался двухполосным шоссе. Вскоре свернули; дорога стала еще уже; петляя, пошла через лес, пару раз прохватывая маленькие мостики через узкие ручьи. Потом вдали замаячило озеро, но до него мы не доехали, – оно как-то внезапно скрылось из виду.
Цапля протянула мне бутылку. Я отстранил ее руку – нет, сначала ты. Цапля сделала глоток, – и вот только тогда я, с нескрываемым наслаждением смакуя вкус следов ее слюны, втянул в себя крепленую дрянь, которая, будучи приправленной терпким ароматом губ Цапли, была для меня желанней какого угодно райского нектара.
Коровкин свернул на полуразмокший проселок. Из-под колес по сторонам полетела грязь. Совсем скоро «шестерка» скрипнула тормозами возле обшарпанной штакетной ограды, за которой виднелся такой же облезлый от дождей и снегов немолодой двухэтажный дощатый домик с несуразно огромной телевизионной антенной на крыше.
– Приехали, граждане, – доложил честно́му сброду Коровкин.
Как наиболее сознательный член коллектива, я вылез из машины и, разминая затекшие ноги, отправился открывать ворота. Хозяйственный Коровкин лихо заехал в дворик задним ходом: «так выезжать удобнее будет».
Внутри домик оказался каким-то таким очень крепко сбитым: чистым, незахламленным, неожиданно для меня – уютным, будто хозяева час назад были здесь, а незадолго до нашего появления куда-то вышли.
– Родители с начала апреля, по снегу еще, в этом году приезжали на неделю – расконсервировали с зимы. Мороз не страшен, тут печка. Стоит оставить постройку, как она начинает сыпаться, – обстоятельно говорил Коровкин. – Отец перед зимой всю гидроизоляцию крыши обновил, так нет же, все равно натекло.
– Живите в доме, и не рухнет дом…5 – обняла меня сзади Цапля.
Коровкин еще говорил что-то. Дерюгина разгружала сумки, гремела тарелками. Коровкин открывал бутылки, потом, прихватив пару оцинкованных ведер, убежал на улицу к водопроводной колонке. А я стоял. Стоял, не шелохнувшись, боясь, что вот сейчас Цапле надоест, или позовут ее помочь у стола, тогда она разожмет руки; ослабнут, упадут объятья, считанные секунды спустя растает тепло от ее тела – и вот я останусь совсем один, такой же – ненужный, такой же – беззащитный, как и прежде, когда не знал никакой Цапли; и обочиной шел, пиная пыльные земляные комки, неизвестно откуда и неизвестно куда. Но были крепки руки, и обнимало сводящее с ума тепло, и стучало мне в спину ее сердце, и я взлетал, глупо улыбаясь; взлетал над чужим домом, что в эту минуту стал единственным и – я нутром знал это наверняка – незабываемым навсегда причалом моего счастья. Того самого, настоящего, о котором не принято говорить вслух. Оказывается, счастье – это не когда хочется петь и смеяться. Счастье – это когда ты наполнен, и наполнен так, что знаешь: не расплескать.
К не самому позднему вечеру Дерюгина с Коровкиным напились страшно, раздухарились, пошли вразнос и играли в карты на раздевание.
– Стеша, пойди, печь растопи, без нее скоро замерзать начнем – вечера еще холодные. Этим-то доверять нельзя, весь дом спалят.
Я с сожалением вздохнул, отцепился от Цапли, вылез из-под брошенной на диван перины и выбрался в сени. Взял там газетной бумаги, острым ножиком настругал щепок от полена. Принес с улицы дров. Хорошо, под навесом сухие: коровкинские родители, видать, такие же хозяйственные, как и сын. Проверил тягу – труба гудела, язычок пламени стоял торчком, – и принялся за дело, что в жизни делал всего раза два или три.






