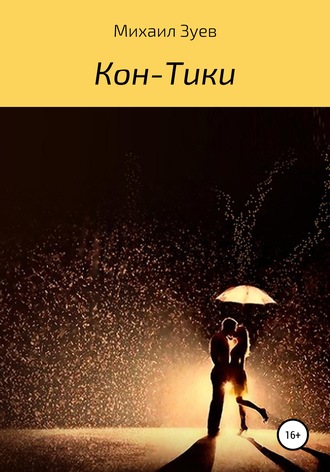
Михаил Зуев
Кон-Тики
– Спал, – безразлично сказал я, – мог еще полчаса спать. Доброе утро, мама.
Взгляд матери был тяжел. Амитриптилин, прописанный от непрекращающейся мигрени профессором Гехтом из Первой больницы МПС, действовал все хуже, нам пришлось увеличить дозу и побочных явлений стало больше.
– Ты меня бросил, – сказала мать. – Бросил. Променял на эту жердь лопоухую.
– Мама, можно я умоюсь и поработаю пару часов?
– Да делай что хочешь. Я же тебе не указ. Ты теперь с проституткой живешь.
Я не мог с ней разъехаться. Один раз, в сердцах, пообещал. В тот же вечер она нажралась снотворного с тавегилом. Не уследил. Все закончилось токсикологией Склифа. Когда ее так несло, море ей было по колено. А мама у меня все же была одна.
– Вер, что мне делать? Что нам делать? – спросил я Верку Бондаренко, учившуюся в соседней группе, а теперь работавшую в той самой токсикологии. Верка только вздохнула. Потом стала говорить. Говорила долго. Выход был только один. Амбулаторное и стационарное психиатрическое наблюдение. Без вариантов.
– Валентина Ивановна вчера приходила. Спрашивала, как мой дражайший сын. А мой сын теперь шастает черт знает где. Ему и я, и Валентина Ивановна до лампочки.
Валентина Ивановна была нашей соседкой по коммуналке, когда я родился. Вскоре мы получили квартиру; с тех пор я видел Валентину Ивановну раз в пять лет и теперь совершенно не понимал, какое я имею к ней отношение.
– Ты когда у отца был последний раз на кладбище?
– Мама, можно мне встать, умыться и поработать? – сказал я и позорно сбежал в ванную.
Было понятно, что работать она мне сегодня не даст. После ванной я быстро оделся, сжевал бутерброд с плохой докторской, пропихнув его в глотку спитым чаем и стал зашнуровывать ботинки.
– Мама, я в больницу.
– Тебе Коровкин звонил. Он вернулся.
– Да ну!
– Телефон у него новый. Я записала. На секретере лежит в большой комнате.
Я расшнуровал обувь, зашел в комнату, сграбастал листочек с семью неровно записанными дрожащей рукой цифрами.
– Спасибо, мама!
Почему – всякий раз, вглядываясь в ровный пробор на некогда цвета воронового крыла, а теперь совсем седой голове, мне так отчаянно хочется плакать?..
***
Я сменился с дежурства звонким субботним утром. Макушка марта. Жизнь с выдоха вышла на вдох. И вот: бестолковая капель, норовящая влезть прямо за шиворот тяжелого зимнего пальто. Жирная грязь на бугристых от недавно проснувшихся грунтовых вод тротуарах. Полные мутью лужи, что вечерами морщат непрочным хрусталем серебряного льда.
Усталость. Авитаминоз. Бессонница. Наглое бесцеремонное солнце, безумно бликующее в кривом зеркале мира. Мне никогда не нравилось это больное время года – короткое, хрупкое, обманчивое, неверное. А вот, как назло, угораздило родиться именно этими днями.
Разложенный стол в гостиной, ожидавший четверых, был подозрительно велик.
– Зачем здесь? – спросил я. – На кухне, что ли, места мало?
– Садись, садись в кресло, – оттеснила меня от стола Цапля. – Ты устал. Я все сама принесу. Ты же заслужил. Всю ночь работал. Ты – заслуженный! – руки Цапли мягко погрузили меня в венерину мухоловку кресла, а губы едва коснулись моей макушки.
– Хрен-то! Я не заслуженный. Я – народный!
Я и не думал ей сопротивляться. Это старое некогда салатовое кресло в углу, под трехламповым торшером, напротив пыльного телевизора, определенно было моим, пусть раньше я почему-то никогда в него не забирался. Не приходило в голову.
– Кого ждем? – спросил было я.
– Секрет! Увидишь! – рассмеялась Цапля.
Первой пришла Дерюгина. Полюбовалась на растекшегося меня, по-братско-сестрински поцеловала, вручила сверток с одеколоном. Девчонки скрылись на кухне – оставалось дождаться второго и последнего гостя.
Вдыхая легкие нотки-отголоски цаплиных духов, слыша краешком уха тихие переливы смеха, доносящиеся с кухни, я проваливался куда-то, уходил, ускользал от реальности. «Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон…»4.
Никогда в моей недолгой жизни еще не было так странно, чисто внутри, будто я впервые увидел себя со стороны, и понял, что это на самом деле – я. Ведь как было? Я – функция. Сын. Ученик. Студент. Комсомолец. Ординатор. Врач. Пассажир. Покупатель. Посетитель. Читатель. Зритель. Функция. Чертова проклятая функция. Треугольник а—бэ—цэ, синус альфа, эм—це квадрат. Меня не было. Не существовало без каких-то, не от меня зависящих, условий. Чужих условий. Совсем чужих. Пешка на чужой доске.
Теперь же, сквозь «сон – не сон», доносящийся с кухни голос Цапли, существующий отдельно от реальности, – лишал меня всех условий. Я знал: вот она, моя Цапля – на кухне, но она со мной. Вот я в операционной, а она – со мной. И даже если я на другом конце Земли, – все равно: она со мной.
Цапля не ставила мне условий. Она была со мной безусловно. Ей была не нужна функция: ей нужен был – я. Настоящий, свежий, мгновение назад рожденный или доживающий последнюю секунду, лишенный скорлупы, сильный, слабый, больной, здоровый, умный, потерявший рассудок, – да какой угодно! Я! И я, – без условий и условностей, – сбросил с себя потрескавшуюся корку, очистился от гнилой коросты. Я стал собой и таким предстал перед ней и миром. Безусловным. Безо всяких функций.
– Здравствуйте, должно быть, вы Степан Иванович, ну, а я – Лев Сергеевич…
– Нет, не так, – сказал я, поднимаясь с кресла и приходя в себя, – нет, нет, Лев Сергеевич. Я – Стёпа. Просто Стёпа. И, пожалуйста, если можно, говорите мне «ты».
На вид чуть больше сорока, хотя я знал – пятьдесят. Густые рыжие волосы с проседью, аккуратная шкиперская бородка. Совершеннейше цаплины – глаза, брови, скулы, такой же аккуратный нос, такие же красивые руки, чуть сутулая спина. Определенно Цапля уродилась папиной дочкой. Правда, папа не дотягивал до нее по росту. Они были такими, дети военных лет, голодными и холодными. А, ведь, чтобы расти, нужно быть теплыми и сытыми.
Цапля могла часами говорить об отце. Не об отце, конечно, не так – о папе. Папа был Синдбадом-мореходом и Аладдином. Папа был письмом из далекой экспедиции и пожелтевшей от времени фотографией из морского похода. Папа был знакомым всей стране голосом из радиорепортажей и камерой документалок «про зверушки» для телевидения. Вот еще фотки, еще, еще… Это папа с Сенкевичем, это – с Кусто, а вот – с Опариным. Папа мог быть дотошным телевизионным редактором-очкариком с четвертой программы, и сразу – бесшабашным гулякой на приятельской даче в Переделкине, с бутылью чачи – в одной, шампуром шашлыка – в другой, и с висящей на шее семилетней Цаплей… Папа мог быть где угодно и кем угодно. Важно было то, что он – был.
– Вот и хорошо, Стёпа. Будем проще, будем на «ты» – Лев Сергеевич протянул мне маленький полированный чемоданчик. – С тридцатилетием! Открывай!
Я отщелкнул замочек, поднял крышку. В глубине, на ложе красного бархата, лежала необыкновенной красоты черная изогнутая курительная трубка.
– Дело в том, Стёпа, я не курю. Бросил давно. В зимней экспедиции, в казахской степи. У нас все кончилось, табак в том числе. Вот и бросил. Ты ведь куришь?
Я кивнул.
– Тур Хейердал подарил. Он ведь в прошлом году был в Москве. Помнишь? Вот… У меня будет лежать без дела. А тебе пригодится.
Лев Сергеевич с год как жил с новой женой. Цапля сказала как-то: мать всю жизнь папу шкурила, а Виолетта в макушку целует. Я смотрел теперь на него и думал – а как можно его не целовать?
Поздним вечером мы сидели вдвоем с Львом Сергеевичем на кухне. Я слушал его нескончаемые рассказы, как-то внутри удивляясь, что теперь это не голос из радиоприемника; неловко сопя, пытался обкуривать хейердаловскую трубку, и понимал важное. Такое важное, как никогда прежде. Я обретал дом.
Дерюгина отправилась к себе лифтом тремя этажами ниже. Уехал к Виолетте Лев Сергеевич. Цапля крепко спала, умаявшись за день. Я тихо разделся, лег рядом. Мне было тепло. Я вспомнил чудесное лицо Льва Сергеевича, вновь услышал его бархатный голос. И вдруг… господи… – да ведь таким будет мой сын! Наш с Юлькой сын! Она – папина дочка, а он будет – мамин сын. Папины дочки и мамины сыночки бывают в этом мире счастливыми. Таким будет мой сын. Я беззвучно рассмеялся. Пусть его пока нет, нет даже в проекте. Но он будет. И пройдет совсем немного лет, и я стану глядеть на него снизу вверх. Я буду любоваться ими – дедом Львом, моей Цаплей, и тем, у кого пока нет имени. Не беда. Будет.
Всё теперь – будет.
***
С Коровкиным был уговор: с половины седьмого до семи у входа в «Советскую». Я ехал прямо с комиссии горздрава, боялся опоздать. Зря боялся – все закончилось без пяти шесть. Вольфсон договорился, меня вызвали последним. Зашел, предложили сесть. Длинный стол. Пятеро членов комиссии. Секретарь. И я – в дальнем торце, ближе к входной двери. Председательствовал профессор Полозов. Нам госпитальную хирургию в институте читал. Сильно постарел за десять лет, но все ничего, такой же, бойкий и ехидный – однако, как и раньше, без злобы.
Сказали: зачитать мой отчет. Я зачитал. Секретарь, шамкая гуляющим верхнечелюстным протезом, прочла вслух две характеристики – общую, от главнюка, и по специальности, от Вольфсона. Общей я раньше не слышал, а специальную – так ту вообще сам про себя писал. Вольфсон туда только пару фраз добавил, да расписался – вот и все. За высокими окнами быстро темнело. Свет старорежимных люстр не добивал до барочных сводчатых потолков. Люди в помещении ощущали себя неуютно; вели себя казенно. Им хотелось домой, за столы с ужином и в теплые кресла перед телевизорами. Вопросов по специальности, даже для проформы, мне не задавали. Категорию дали, голосовали единогласно. «За корочками зайдите через неделю. Выписку из протокола – для администрации больницы – можете взять сегодня, но только через час, когда будет готова, а то завтра – заходите в канцелярию в любое время в течение дня».
Было без десяти семь. Я переминался с ноги на ногу на углу Ленинградки и Расковой. Вход в вестибюль «Советской», большой такой, помпезный, огромная двустворчатая дверь, – с Расковой. Я не знал, откуда ждать Коровкина. Если поедет с «Белорусской» – тогда спрыгнет с троллейбуса на Ленинградке. А если пойдет от «Динамо» – появится пёхом со стороны универмага, вынырнув из подземного перехода под Беговой. Как назло, зарядил мелкий противный дождеснег. У входа в «Советскую» очередь в ресторан, внутри за дверью стоит швейцар, просто так не зайти. Можно было дойти спрятаться в кассах театра «Ромэн», вход с Ленинградки, но тогда я бы вообще ничего не смог увидеть. Оставалось покориться судьбе да мокнуть на ветру.
С Ленинградки на улицу Расковой, едва не задев замешкавшегося на переходе мужика, бешено елозя «дворниками» по грязному лобовому стеклу, свернула уляпанная подколесной жижей белая «шестерка». Сбавив ход, едва-едва поползла по Расковой, явно выискивая место для парковки. Остановилась, громко хрустнула коробкой передач и стала неуклюже, вихляя багажником, сдавать задним, пытаясь притереться к обочине в свободном промежутке между машинами. С первого раза задача не решилась, водителю пришлось повторять маневр дважды. Обезьяньи ужимки шофера так увлекли меня, что я забыл, зачем здесь стою.
Водительская дверь открылась, на свет под уличным фонарем появилась широкая мужская фигура, облаченная в длинную дубленку и меховую шапку. Фигура открыла заднюю дверь, достала портфель, захлопнула обе двери, щелкнула ключом и направилась в мою сторону.
– Обнимемся, что ли, Стёпский! – в ту же секунду я оказался в самом центре облака югославского одеколона, тискаемый стальными медвежьими объятиями Шуры Коровкина.
– Шурик, ты-ы-ы… – только и смог выдавить из себя я, обминаемый стальными коровкинскими клешнями.
– Я, а кто еще! – довольно пророкотал мне на ухо Шурик. – Давно мерзнешь?
– Да не очень…
– Ты уж прости, брат, прости, Стёпский, если опоздал. Езжу я недавно, езжу пока плохо. На Горького, в начале вот, застрял, потом на Белорусском мосту таксисту чуть в корму не въехал! Пойдем! Есть как охота!
Очереди на вход для Коровкина не существовало: столик был заказан заранее, швейцар распахнул дверь, и мы ввалились в тепло, к лампам, пальмам и оркестру главного зала ресторана «Советский».
– Пить-то – что с тобой будем? – в возбужденном предвкушении спросил Коровкин.
– Ну, ничего, наверное, – робко сказал я, – ты за рулем, я из солидарности…
– Да ладно тебе, Стёпский! Отцу позвоню, приедет, развезет нас по домам.
– Ну, тогда…
Сборная мясная солянка под «Столичную» из граненого пузатого графинчика вернули меня в полноту жизни.
– Восемь лет! Восемь! – гремел раскрасневшийся Коровкин. – Учились-то когда, помнишь, каждый семестр вечностью тянулся! А тут – как у фокусника с цилиндром и кроличьими ушами – раз, два, алле-оп!.. дамы приглашают кавалеров… – и нет восьми лет… Как живешь, Стёпский? У тебя ведь всё то же выражение лица…
– Какое? – спросил я.
– Наше, Стёпский, наше. Родное. Такого больше теперь увидеть негде, – вдруг тихо, чуть ли не шепотом, сказал Шурик и внезапно замолчал. Глаза его заблестели.
– Ты чего, Шурик? – я придвинулся ближе.
– Ничего, Стёпский, так, пустое… Мышка пробежала, хвостиком махнула. Бывает.
Оркестр заиграл босанову. Нам принесли мясо.
– Ну что, поздравляю тебя! Прими! Рад, рад искренне. Первая категория – не хрен собачий, – справившись с набежавшей грустью, лучился улыбкой Коровкин.
– Ну да, Шур… Не собачий, – собачачий, – гадостно скаламбурил я.
– Какие перспективы?
– Заведующего обещают. Старый – на пенсию, новый в Израиль, через пару месяцев. Говорит, кроме меня некому. Он мне и категорию сосватал.
– Кроме тебя некому? Наивный ты, Стёпский. Это сейчас некому. Ты же впахиваешь, да?
– Ну.
– А ему еще дела сдавать. Перед отъездом. Да?
– Да.
– Значит, ему сейчас проблемы даром не нужны. Зато нужен кто-то, кто ему жопу прикроет. Ты и прикрываешь.
– И что?
– А то! Как он встанет на крыло, и настанет пора кадровых подвижек, тут-то и слетятся с разных сторон компетентные товарищи – как мухи на говно! С чего ты взял, что тебя завом поставят? С его обещаний? Так он к тому времени будет уже в небе над Шереметьевым – ту-ту, това’гищи, ту-ту… У меня поначалу была та же история. Приписали к посудине – сначала каботажное десять недель, а потом сразу Сингапур, длинное, со всеми вытекающими ништяками. И что ты думаешь? Под конец каботажа меня на берег, а на мое место – человека из пароходства. Ту-ту-у-у, Сингапур. А мне – новый каботаж до конца северной навигации, на медведей в торосах любоваться.
– Так ты плаваешь?
– Плавает говно, Стёпский, а мы – ходим. Ну да. Судовой врач, он же помощник капитана, Коровкин Александр Леонидович! Разрешите, тас-сзать, представиться.
– Как это тебя угораздило, Шура?!






