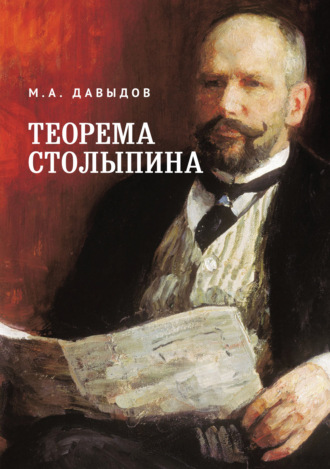
М. А. Давыдов
Теорема Столыпина
Удивляться будем?
Полагаю, не только у меня приведенная выше критика Запада порой вызывала удивление.
Почему Россия, какой она была во 2-й четверти XIX в., в лице своих интеллектуалов предъявляла к Европе претензии нравственного свойства и поучала ее?
Как могло случиться, что умнейшие русские люди, живя в отсталой культурно и экономически стране с крепостным правом и неграмотным на 90 % населения и т. д., видели себя спасителями цивилизованного мира от неминуемой гибели?
Неужели они думали это всерьез?
Чем они собирались его спасать? Какими снадобьями?
Что такого они могли предложить, чего не знал Запад?
Другой тип взаимоотношений между людьми? Как между крестьянами и помещиками? Или как между Николаем I и дворянством?
Православную веру?
Между тем наше недоумение объясняется просто – тогда и Запад, и Россия оценивались с другой точки зрения, исходя из других критериев.
Но каких?
Ведь, кажется, есть вечные параметры сравнения – уровень развития культуры, экономики, образования и грамотности, уровень свободы граждан, наконец. И едва ли Николаевская Россия была тут лидером.
Все верно.
Однако это отнюдь не исчерпывает проблему.
Что делать народу, который, хотя и отстает по указанным «параметрам», но нисколько не чувствует себя ущербным? Который считает себя самым могущественным на поле боя и который при этом, несомненно, ощущает свой интеллектуальный и духовный потенциал, пусть пока и нераскрытый?
Надо объявить отставание мифом, точнее, вывести его за скобки привычной диагностики, привычных сравнений, наметить другое поле для сопоставления, а также ввести столь любимое в России будущее время, отложив на грядущее ликвидацию неграмотности и др.
Вся критика Запада одновременно была ВЫБОРОМ ПУТИ.
И здесь не очень важно было то, что наши наблюдатели, что вполне естественно, не очень понимали европейскую жизнь.
Н. А. Ерофеев в своей прекрасной работе «Туманный Альбион» показывает, как это происходило, как в то самое время, когда Англия вошла в пору расцвета и могущества, в сознании русских людей формировался образ стоящего на краю гибели «дряхлого Альбиона».
Этот образ «не был итогом изучения реальности, а возник как бы априорно, т. е. еще до того, как явились факты, способные его подкрепить. Тем не менее он оказал сильное и длительное влияние на русские представления об Англии: он не только окрасил эти представления в определенный цвет, но, позволив соединить воедино отдельные разрозненные факты, предопределил возникновение единой и связной картины»250.
В основе этого образа лежала специфичная оценка духовной жизни Англии, вытекавшая из тогдашней шкалы ценностей русских людей.
Эта шкала ставила на первое место не материальные достижения и успехи, а именно духовные ценности, идеальные аспекты бытия. И это оправдывало изъяны русской жизни – бедность населения, отсталую экономику и многое другое. «В результате все успехи англичан на поприще материальной жизни отнюдь не вызывали в России восхищения или зависти»251.
Более того, технические достижения лишь укрепляли мнение, что британцы слишком поглощены практической, вещественной стороной своей жизни, материальными заботами, так что на мысли о вечном времени у них остается немного.
Ерофеев заключает: «Перед нами – яркий пример того, как предвзятая точка зрения мешает не только правильно понимать, но даже наблюдать и видеть то, что есть. В самом деле, надо было страдать настоящим ослеплением, чтобы отказывать в духовных ценностях стране, которая дала миру великих поэтов, писателей и философов»252.
Тем не менее, Одоевский, Шевырев, Погодин и славянофилы отстаивали право России идти своим путем. И они во второй четверти XIX в. исходили из других приоритетов, нежели многие из нас.
В их мире о числе университетов и грамотности населения даже не вспоминают.
Здесь технический прогресс не является абсолютной ценностью, поскольку в обществе еще нет понимания его принципиальной важности для цивилизации.
В этом мире вопрос о необходимости строительства железных дорог дебатируется буквально в гамлетовском дискурсе «быть или не быть», хотя, казалось бы, для России с ее пространствами это не требует доказательств. И даже такой умный человек, как граф Е. Ф. Канкрин, аргументировал их ненужность для России мыслью о том, что они будут поощрять бродяжничество.
Россия – патриархальная страна, и в этом качестве она осуждала непохожий на себя мир со своей собственной точки зрения, что вполне естественно.
Декабристы – это доли процента от тысяч русских офицеров, побывавших в Европе. Остальные делали другие выводы, или не делали их совсем. Мир модернизации русские люди не знали, не понимали, да и не хотели знать. Им было вполне комфортно в привычной среде.
Необсуждаемый критерий № 1 в этой системе ценностей – военная мощь.
Уместно, полагаю, здесь привести фрагмент из известного письма Герцена историку Жюлю Мишле: «Там (на востоке Европы – М. Д.), как темная гора, вырезывающаяся из-за тумана, виднеется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идет, как лавина, на Европу, что оно, как нетерпеливый наследник, готово ускорить ее медленную смерть.
Это царство, совершенно неизвестное двести лет тому назад, явилось вдруг, без всяких прав, без всякого приглашения, грубо и громко заговорило в совете европейских держав и потребовало себе доли в добыче, собранной без его содействия.
Никто не посмел восстать против его притязаний на вмешательство во все дела Европы.
Карл XII попытался, но его до тех пор непобедимый меч сломился; Фридрих II захотел воспротивиться посягательствам петербургского двора; Кёнигсберг и Берлин сделались добычею северного врага. Наполеон проник с полумиллионом войска в самое сердце исполина и уехал один украдкою, в первых попавшихся пошевнях. Европа с удивлением смотрела на бегство Наполеона, на несущиеся за ним в погоню тучи казаков, на русские войска, идущие в Париж и подающие по пороге немцам милостыню – их национальной независимости.
С тех пор Россия налегла, как вампир, на судьбу Европы и стережет ошибки царей и народов. Вчера она чуть не раздавила Австрию, помогая ей против Венгрии, завтра она провозгласит Бранденбург русскою губерниею, чтобы успокоить берлинского короля»253.
Этот фрагмент несколько усложняет наше представление об этой проблематике – в сравнении с уже известными нам мыслями русских людей того времени.
А критерий № 2 – политическая стабильность. Революция в России никому не нужна.
Здесь ценят дух народа, который проявляется в годину испытаний, как в 1812 г., и, в числе прочего, доказывает наше моральное превосходство над эгоистичными и расчетливыми европейцами.
О том, какое нравственное превосходство над миром свободных людей может иметь страна с крепостным правом, мы скажем чуть ниже.
А пока заметим, что в ряде пунктов критика Запада была совершенно справедливой.
Вильчек как-то великолепно сказал, что «заря капитализма была такой мрачной, что Маркс ее принял за закат».
Ведь, согласитесь, трудно ожидать иного отношения, кроме негативного, к таким «прелестям капитализма», как детский труд у станков, рост нищеты и др. так что реакция русских людей, на мой взгляд, вполне нормальная – даже сейчас, почти двести лет спустя, человечество отнюдь не смирилось с этим.
Однако эти обвинения девальвирует одно печальное обстоятельство – их выдвигают представители господствующего сословия в стране, где половина населения – крепостные крестьяне, а остальные – хотя лично свободны, но также являются «аппаратом для вырабатывания податей».
Например, для Аксакова, как и для Одоевского, высшим воплощением порочности Запада являются – кто бы мог подумать? – США: «Северная Америка вся насквозь проникнута эгоистическим, холодным началом и вся представляет обширную общественную сделку людей между собою, лишенную всякой любви, сделку спокойную, крепкую, ибо основанную на себялюбивом расчете; разве только личные страсти могут на минуту заставить забыть этот расчет; в пределах же сделки эти страсти действуют со всею своею пожирающею силою.
Нигде нет такого полного признания этой личности в каждом, как в общественной сделке Северной Америки; нигде нет такой страшной деятельности, устремленной, главное, на выгоду, как в Северной Америке; и зато нигде нет такого страшного эгоизма, такого бездушного тиранства и унижения себе подобных, как в Северной Америке, разводящей и продающей людей, искалеченных общественною сделкою, людей, не признаваемых людьми, несчастных негров…. Самое сильное проявление начала личности и условности, самую резкую противоположность началу общины и свободе жизни представляет в наше время Северная Америка. Это великолепное общество-машина.
Не таково, конечно, призвание человека. Духовные потребности живут в нем и не падут в борьбе с материальным смыслом. Но есть русский народ, верующий в высокое начало общины, народ, который должен сказать миру слово жизни и разума»254.
Что и говорить, прекрасные слова! Если забыть о том, что их пишет не самый бедный русский помещик, чья семья, чьи единомышленники и друзья в тот момент владели тысячами «почти» негров только с кожей белого цвета, которые, как известно, были предметом рыночного оборота.
Как крепостная Россия может осуждать рабство в США?
Может, ибо крепостное право для множества образованных людей – никоим образом не рабовладение. Достаточно вспомнить «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.
Крепостничество – это система социального патронажа, это покровительство сирым и убогим крестьянам.
Притом же такая аберрация, как любил говорить в подобных ситуациях С.Ю. Витте, «это слишком по-человечески».
Вспомним Уложенную комиссию 1767 г., когда депутаты, мечтавшие о дармовой рабочей силе, требовали крепостных и не скрывали этого.
Уже в конце XVIII в. подобная откровенность «на людях» стала не очень приличной и потребовался некий фиговый листок. Так набрала популярность идея о крепостном праве как своего рода системе социального обеспечения, без которой крестьяне пропадут. И этого стали держаться. Что ж, логично.
Дворянство в массе по-прежнему не считало крепостничество злом, а Одоевский, например, был убежден, что в 1900 г. дворяне будут сдавать экзамен на звание помещика255.
В то же время капитализм критиковался с позиций нравственных как нечто чудовищно аморальное.
Напомню известную мысль А. С. Пушкина: «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, сколько мучений! Какое холодное варварство, с одной стороны, с другой – какая страшная бедность! Вы думаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян? Совсем нет: дело идет о сукнах г. Смита или об иголках г. Джэксона. Кажется, нет в мире несчастнее английского работника: но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять и шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию. У нас нет ничего подобного…
Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его сметливости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна: проворство и ловкость удивительны… В России нет человека, который бы не имел собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях… Судьба крестьянина улучшается со дня на день»256.
Это очень важный фрагмент.
Конечно, несложно прокомментировать его иронически – дескать, Пушкин сострадает не судьбе своих (и чужих!) крепостных, а горькой участи британского пролетариата!
Однако это слишком примитивное объяснение.
Все сложнее, поскольку, в сущности, здесь – как и почти всегда в то время при обращении русских людей к этой проблематике – попытка оценивать Запад и Россию в контексте проблемы Великого инквизитора.
Наша страна вместе со всем человечеством не одну сотню лет пытается разрешить дилемму, которую часто обозначают так: что лучше для людей: раздать им рыбу или вручить им удочку, чтобы они могли ловить ее сами?
Что правильнее: гарантированная пайка или возможность самому определять свою жизнь?
Что справедливее: сытость в рабстве или рискованная свобода?
Конечно, каждый подобные вопросы решает для себя самостоятельно (И этот ответ не столь очевиден даже и в начале XXI в. Нельзя не заметить, что многие люди в постсоветской России выбрали бы привычный гарантированный прожиточный минимум).
Однако иногда за народ ответ дает его элита.
Русское дворянство вместе с Пушкиным в массе, безусловно, считало правильным ответом первый из предлагаемых, и здесь речи нет о лицемерии, о примитивной «защите своих классовых интересов». Точнее, эти интересы, конечно, присутствуют, но это не противоречит искренней вере в чисто бытовые преимущества крепостного состояния.
Коллективный идеал помещиков той эпохи, полагаю, может быть выражен так: «Ничто не препятствует русскому мужику наслаждаться счастливым бытом и довольством в жизни. Он имеет участок земли, который возделывали его отец, дед и прадед и который он почитает своей родиной…
Нашему мужику недостает только некоторой воздержанности от горячих напитков, строгой нравственности в семейном быту, ясных понятий о своем долге (перед кем, интересно? – М. Д.) и искусстве; иначе он был бы Крезом перед иностранными крестьянами и блаженнейшим созданием в земледельческом мире.
Народный обычай равного раздела земель между всеми поселянами, жителями одного ведомства, есть признак народного доброжелательства и братского союза, которым можно гордиться и который носит на себе превосходный отпечаток глубокого христианского чувства»257.
Некоторые дворяне сочли бы излишним пафос, с который излагаются эти мысли, и не все из них были склонны в таких случаях апеллировать к христианским чувствам, однако остальные идеи автора вряд ли бы вызвали возражения.
Таково химически чистое отношение большинства дворян к народу.
Таков общий для большинства образованных русских людей взгляд, вытекающий из социального расизма и патернализма.
При этом неадекватное восприятие русскими людьми Запада вовсе не было отвлеченной проблемой.
Напомню, что император Николай I так до конца и не смог осознать, как устроена политическая система в Англии, и это в большой мере обусловило ту бесшабашность, с которой Россия начала Крымскую войну258.
Вдумаемся! Главный человек в стране не понимает не устройство телеграфа и не 2-й закон термодинамики, а то, как принимаются решения правительством страны, которая считается основным оппонентом России на международной арене. И некому объяснить ему этот бином Ньютона.
Как это возможно?
Sapienti sat…
Приезд «ученого немца»
«Timeo Danaos et dona ferentes»
В том, что к середине XIX в. община уже превратилась в миф национального самосознания, огромную роль сыграл труд упоминавшегося в начале этой книги барона Августа фон Гакстгаузена (1847 г.).
Этот немного подзабытый «герой» нашей истории «открыл», как говорили в XIX в., общину в 1843 г., когда с разрешения правительства и за его счет несколько месяцев путешествовал по России.
Его прозрения, в большой мере навеянные общением со славянофилами в Москве были весьма неожиданными и, строго говоря, выходили за рамки, очерченные выше Кофодом (община – продукт «русского народного характера» и защищает крестьянство от пролетаризации).
Он объявил, что «во всех других странах Европы глашатаи социальной революции ополчаются против богатства и собственности: уничтожение права наследства и равномерное распределение земли – вот лозунг этих революционеров. В России такая революция невозможна, так как утопия европейских революционеров в этой стране получила в народной жизни свое полное осуществление», поскольку в общине все равны и каждый новый ее член получает свою долю земли259.
То есть западные социалисты борются за ситуацию, которая уже реализована в русской крепостной общине! Да, в Европе это, возможно, будет сделано немного иначе, чем в России, и тем не менее!
Туган-Барановский отмечал, что прусский консерватор нашел в России панацею от социальных бед, угрожавших Западу: «Крепостная Россия Николая I оказалась воплощением мечтаний французских революционеров, и каким удивительным воплощением!
Не только не угрожающим гибелью порядку, собственности и монархическим принципам, но, наоборот, являющимся самым крепким оплотом реакционной Европы, страной самой сильной власти и самого образцового порядка».
Поэтому Гакстгаузен считает, что этот «удивительный общинный строй заслуживает того, чтобы позаботиться о его сохранении», а поскольку внедрение западных форм промышленности неизбежно разрушит его, то он категорически против индустриализации России.
Тот факт, что живущие в общине крестьяне несвободны, что они не являются владельцами обрабатываемой ими земли, его нисколько не смущает.
Это, скорее, смущает нас – ведь мы привыкли, что социализм – по крайней мере, на словах – это синоним понятия «свобода», а здесь оказывается, что крепостничество и даже его облегченный вариант у государственных крестьян – оптимальная форма для реализации социалистических идей!
Нельзя, видимо, лучше и эффектнее уравнять крепостничество и социализм, чем это сделал Гакстгаузен.
Ведь если А равно В, то ведь и В равно А.
Тот факт, что именно Гакстгаузен впервые гласно поставил фактический знак равенства – пусть и примерного равенства – между нашим крепостным правом и западным социализмом хорошо понимали современники.
Именно в этом смысле, полагаю, Дмитрий Аркадьевич Столыпин, двоюродный дядя реформатора, отмечал, что Гакстгаузен первым «под влиянием социалистических идей на Западе открыл у нас общину. Восхваление общины, к чему стремились коммунисты того времени и что, казалось, было осуществлено крепостною общиной в России, – идея прямо пришедшая к нам с Запада, такою ее и выставил барон Гакстгаузен Западной Европе.
До тех пор мы все знали общину на практике, и никто из современников, могу это утверждать, не думал о ее восхвалении до появления книги барона Гакстгаузена. Для всякого беспристрастного лица увлечение общиной есть увлечение западными воззрениями на социализм»260.
О том же фактически писал и Чичерин: Это (сельская община – М. Д.) был один из коньков славянофильской школы, которая в нашей сельской общине видела идеал общественного устройства и разрешение всех грозных экономических вопросов, волнующих Западную Европу. Известный путешественник барон Гакстгаузен именно с этой точки зрения написал свою книгу о России»261.
И это обстоятельство крайне важно для понимания идейных пружин нашей истории последних 150-ти лет.
Поразительно, однако, как внимательно в нашей стране прислушиваются к благожелательным мнениям иностранцев! Как дорожат комплиментами! До сих пор, кстати. При всем высокомерном отношении к Западу, который не вышел ни территорией, ни размахом души.
Между тем, с точки зрения «теории заговора» весьма вероятно, что ни одна операция никакой разведки, никакие группы или агенты «влияния» нигде и никогда не имели такого поистине сокрушительного успеха, как непреднамеренная «операция Гакстгаузен»!
Так или иначе Гакстгаузен сильнейшим образом содействовал идеализации общины и оказал огромное влияние на выработку мировоззрения всего русского общества середины XIX в., хотя ясно, что именно славянофилы подтолкнули его, условно говоря, к месту, где зарыт клад. Он серьезно подкрепил ключевой пункт социально-экономической идеологии славянофилов – тезис об общине как истинной выразительнице «народного духа» России[66].
С этих пор подхваченный славянофилами тезис Киселева об общине как гарантии от пролетаризации крестьянства, стал восприниматься множеством умеющих читать людей как незыблемая истина, вроде шарообразности земли; и противники П. А. Столыпина отстаивали его в 3-й Государственной Думе 60 лет спустя.
Здесь еще нужно помнить, что это теперь мы знаем произведения славянофилов, а в то время их идеи для широкой публики гласно прозвучали именно в работе Гакстгаузена.
Кстати, его роль не ограничилась тем, что в 1847–1852 гг. он как бы поставил «знак качества» на воззрениях славянофилов и придал им европейскую известность. Его авторитет в глазах Александра II был настолько высок, что он сыграл определенную роль в подготовке реформы 1861 г.
Я не собираюсь демонизировать Гакстгаузена (хотя и принижать его роль было бы неверно). Важнее понять, почему его мысли оказались так востребованы. Думается, что едва ли «проект Гакстгаузен» имел бы такой оглушительный успех, если бы он одновременно не угадал и не угодил.
То есть если бы его построения не соответствовали мыслям и желаниям – тайным и явным – русского общества видеть в России нечто большее, чем просто задавленное самодержавием громадное пространство.
Это очень большая тема.
Для нас сейчас важна идея о том, что это нечто в будущем позволит России дать человечеству, в числе прочего, образец новых по-настоящему духовных взаимоотношений между людьми, о чем твердили славянофилы.
Ведь то глобальное значение, которое они придавали «русскому социализму», – т. е. общине, дающей «всесветный» пример сочетания «христианской идеи с потребностями внешнего, материального существования», т. е., попросту говоря, с жизнью, – получало в трактовке Гакстгаузена не только подтверждение, но и более масштабное звучание.
Так, волшебным образом Россия переставала быть «задворками Европы» и как бы оказывалась впереди всего мира в движении к «светлому будущему», становилась своего рода маяком человечества.
Эти идеи были крепко усвоены поколениями российского образованного класса и стали мифом национального самосознания.





