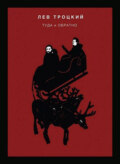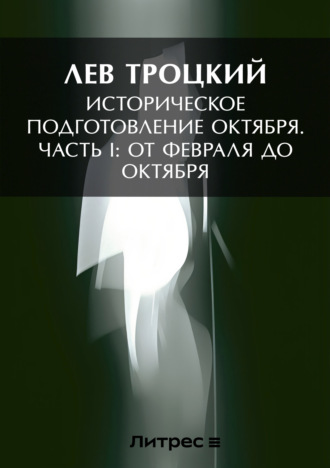
Лев Троцкий
Историческое подготовление Октября. Часть I: От Февраля до Октября
Л. Троцкий. ПАРВУС[155] И ЕГО «АГЕНТЫ»
(Письмо в редакцию)
В «Речи» от 7 июля г. Бурцевым[156] напечатано письмо, в котором говорится по поводу Парвуса: "Как до, так и во время войны он, Парвус, всюду находил для себя послушных и деятельных помощников, как, например, бывшего члена 2-й Гос. Думы Зурабова,[157] Перазича и Л. Троцкого". И дальше мое имя снова упоминается в том же смысле. По этому поводу считаю нужным установить:
1. В русской социалистической печати я первый разоблачил недостойную связь Парвуса с германским империализмом, констатировал полную политическую и нравственную несовместимость такой политики с революционной честью и призывал всех русских социалистов порвать какие бы то ни было политические связи с Парвусом.
2. Моя статья в этом духе, напечатанная в феврале 1915 года в парижской газете «Наше Слово»,[158] была воспроизведена в петроградском журнале «Современный Мир».
3. Мною же первым были разоблачены в той же газете «Наше Слово» и пригвождены к позорному столбу Скоропись-Елтуховский, Басок-Меленевский, как агенты австрийского генерального штаба.
4. На эти разоблачения последовал в свое время официальный ответ Украинского клуба австрийского рейхсрата, причем в этом ответе я, само собой разумеется, назывался защитником интересов царизма.
5. Ввиду основанного Парвусом научного института, куда были приглашены для работы социалисты, я печатно рекомендовал русским социалистам воздерживаться от работы, дабы не дать лишнего повода для клеветы на таких безупречных людей, как Перазич и Зурабов.
6. В связи со всем сказанным ясно, что за время войны у меня не было и не могло быть ни политических, ни личных, ни прямых, ни косвенных связей с Парвусом. Всякие противные утверждения представляют собою ложь и клевету.
Л. Троцкий.
«Новая Жизнь» N 69, 8 июля 1917 г.
Л. Троцкий. АЛЕКСИНСКИЙ – МИЛЮКОВ
Когда какой-то жандарм сообщил из третьих рук, что в киевской охранке служил когда-то агентом какой-то «Каменев», милюковская «Речь», которая не пьет, не ест, а стоит на страже общественной нравственности, немедленно встрепенулась: «Позвольте, отстранен ли большевик Ю. Каменев от общественной деятельности впредь до выяснения вопроса?».
В Москве, на совещании выступал от второй Думы Алексинский. Что такое Алексинский, знают все. Даже Булат,[159] которого никто не обвинит в излишней брезгливости, счел необходимым уйти с заседания, чтоб протестовать против избрания Алексинского. Но кадеты… они голосовали за клейменого клеветника.
Алексинский подписал прошение Керенскому о предоставлении Плеханову слова вне списка. Под этим прошением подписался Милюков. У Алексинского есть достаточно оснований демонстрировать свою благодарность Плеханову, который не раз вытаскивал его за уши из грязи. А у Милюкова есть достаточно интереса поддерживать ходатайство Алексинского в пользу Плеханова. «Прекрасную речь произнес Алексинский» – пишет газета Милюкова и выражает надежду, что г. Алексинский скоро займет место социал-демократического «вождя».
Что такое Алексинский, знают все. Но не мешает напомнить, что в числе многих других подвигов этого профессионала клеветы имеются покушения на парижского корреспондента «Речи» Е. Дмитриева. Вместе с несколькими другими шантажистами Алексинский обвинял Дмитриева в том, что он живет под псевдонимом, тогда как фамилия у него «немецкая», что он – германофил; что он издавал газету на немецкие деньги. Словом все, как полагается. Союз иностранных журналистов в Париже разобрал все дело и объявил Алексинского клеветником. Этот союз (синдикат) состоит не из большевиков и циммервальдистов, а из корреспондентов патриотической буржуазной прессы стран Согласия и сочувствующих Согласию «нейтральных» газет. Все это, значит, единомышленники Алексинского. И вот эти английские, итальянские, русские, американские, бельгийские и пр. патриотические журналисты единодушно признали, что их единомышленник Алексинский – бесчестный клеветник. Это подтвердил особым постановлением союз русских корреспондентов в Париже. Третья парижская организация (литературное общество) исключила Алексинского из своей среды. Г. Милюков прекрасно осведомлен обо всем этом лично от своего корреспондента Дмитриева и в свое время обещал, «в случае надобности», поднять эту историю в «Речи». И можно не сомневаться, что, если бы Алексинский оказался, например – не интернационалистом, нет, а хотя бы союзником Чернова, «Речь» не замедлила бы обличить Алексинского, и все Гессены негодующе трепетали бы от лысины до пят по поводу того, что таких субъектов, как Алексинский, допускают в среду «революционной демократии», Изгоев[160] непременно выполз бы из-под лавки и тоже предъявил бы свое бессильное жало… Но так как Алексинский состоит неофициальным чиновником особых (т.-е. особо гнусных) поручений при контрразведке, то «Речь» не только не разоблачает Алексинского и не требует его отстранения от общественной деятельности, а, наоборот, всячески его поддерживает и даже просовывает в какие-то «вожди».
С одной стороны, – т. Каменев, на политической чести которого нет ни одного пятна, и против него милюковская «Речь» пускает в оборот гнусные никем не проверенные жандармские сплетни. С другой стороны, – Алексинский, осужденный и изгнанный за клевету, сотрудник протопоповской «Русской Воли», человек, удаленный из социал-патриотического «Призыва»[161] и из «Современного Мира», человек, не допущенный в Петроградский Совет по мотивам нравственного характера, человек, которого без протестов с чьей бы то ни было стороны члены Центрального Исполнительного Комитета публично называли «негодяем» и «рыцарем политической проституции», – его, Алексинского, милюковская «Речь», как и вся буржуазная печать, поднимает, как героя, на щит.
Такова мораль буржуазного мира, где лицемерие братается с предательством и где всякого перебежчика из социалистических рядов, как бы презренен он ни был, принимают с распростертыми объятиями и одаряют вещественными и невещественными знаками признательности!..
P. S. Так называемый Центральный Комитет организации так называемого «Единства» признал, что участие его членов в контрразведочном журнале «Без лишних слов» недопустимо, после чего Алексинский выступил из «журнала» и остался в «Центральном Комитете». Что сей сон значит? Можно подумать, что Алексинский случайно попал в какой-то нечестный и неприличный журнал. Но ведь Алексинский создал этот журнал. «Без лишних слов» – это дневник Алексинского. И если журнал бесчестен и неприличен, то только потому, что таков его создатель и редактор. Если Алексинский «выступит» из своего собственного журнала, то бесчестье свое он целиком внесет с собою в «Центральный Комитет». Не место красит человека, господа из «Единства», а человек – место.
«Пролетарий» N 7, 2 сентября (20 августа) 1917 года.
(Помещено под псевдонимом П. Танас).
2. Июльские дни
Л. Троцкий. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ 3 – 5 ИЮЛЯ[162]
(6 июля)
Тов. Троцкий говорит о различии между революционной демократией и революционным пролетариатом.
Не может быть и речи о каком-либо подчинении нашего классового самосознания каким-либо требованиям какого-то непролетарского порядка. Все представители даже демократического порядка сперва пишут: «Свобода, равенство и братство», а потом: инфантерия, кавалерия, артиллерия.
Классовая пролетарская организация не может брать на себя роль палача даже при эксцессах революционного пролетариата. Мы не считаем крестьянство принадлежащим к пролетарскому классу. А поэтому наиболее ясной и верной точкой зрения в оценке развертывающихся событий мы считаем точку зрения пролетарского сознания.
Теперь мы закончили роман мелкой буржуазии с крупной и средней буржуазией и кончили этот роман очень радикально. Неужели весь пролетариат Петрограда, этот цвет рабочего класса России, вышел на улицу только под влиянием провокации? Вызвать его не могли никакие провокации – вызвали его какие-то особо глубокие причины.
«Известия» N 112, 8 июля 1917 г.
Л. Троцкий. ДНИ ИСПЫТАНИЯ
На улицах Петрограда пролилась кровь.[163] В русской революции прибавилась трагическая глава. Кто виноват? «Большевики», отвечает обыватель, руководимый своей печатью. Весь итог трагических событий исчерпывается для буржуазии и услуживающих политиков словами: арестовать вождей, разоружить массы. Цель этих действий – установление «революционного порядка». Социалисты-революционеры и меньшевики, арестовывая и разоружая большевиков, собираются установить «порядок». Вопрос только: какой и для кого?
Революция пробудила в массе великие надежды. В массах Петрограда, игравших в революции руководящую роль, надежды и ожидания отличались особенной остротой. Задачи социал-демократии состояли в том, чтобы эти ожидания и надежды превратить в определенные политические лозунги, направить революционное нетерпение масс на путь планомерного политического действия. Революция ставит ребром вопрос государственной власти. Мы, как и большевистская организация, с самого начала стояли за переход всей власти в руки Центрального Представительства Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Сверху, в том числе и эсерами и меньшевиками, массы призывались к поддержке правительства Милюкова – Гучкова. До последнего момента, т.-е. до часа отставки этих наиболее ярких империалистических фигур первого Временного Правительства, обе названные партии солидаризировались с правительством по всей линии. Только после перестройки правительства массы населения узнали из тех же своих газет, что им не говорили всей правды, что их вводили в заблуждение. Затем им объявили, что доверять нужно новому «коалиционному» правительству. Революционная социал-демократия предсказывала, что новое правительство по существу не отличается от старого, что оно не даст ничего революции и снова обманет ожидания масс. Это подтвердилось. После двух месяцев политики бессилия, призывов к «доверию», многословных увещеваний, замазывания действительности, правда прорвалась наружу. Массы оказались снова и в еще более острой форме – обмануты в своих ожиданиях. Нетерпение и недоверие нарастали в петроградских рабочих и солдатских массах не по дням, а по часам. Эти настроения, питающиеся затяжной и безвыходной для всех участников войной, хозяйственной дезорганизацией, надвигающейся все ближе приостановкой важнейших отраслей производства, находили свое непосредственное политическое выражение в лозунге: власть – Советам.
Выход кадетов в отставку[164] и окончательное обнаружение, в связи с этим, внутренней несостоятельности Временного Правительства еще более укрепили массу в том, что она была права против официальных вождей Совета. Колебания эсеров и меньшевиков подливали масла в огонь. В том же направлении влиял переходивший в травлю натиск на петроградский гарнизон в связи с наступлением. Взрыв становился неизбежным…
Все партии, и в том числе большевики, принимали все меры к тому, чтобы удержать массы от выступления 3 июля. Но массы выступили и притом с оружием в руках. Все агитаторы, все представители районов сообщали вечером 3 июля, что выступление 4 июля – ввиду длящегося кризиса власти – совершенно неизбежно, что никакими призывами удержать массы невозможно. Только поэтому большевистская партия, а вместе с нею и наша организация, решила: не отходить в сторону, не умывать рук, а сделать все, чтоб ввести движение 4 июля в русло мирной массовой демонстрации. Только этот смысл имел призыв 4 июля. Было ясно, что в случае почти неизбежных атак со стороны контрреволюционных банд, могут возникнуть кровавые конфликты. Можно было, конечно, политически обезглавить массу, отказать ей в каком бы то ни было руководстве и предоставить ее собственной участи. Но мы, как рабочая партия, не могли и не хотели проводить политику Пилата. Мы решили быть и оставаться с массой, чтоб внести в ее бурное движение максимум достижимой в этих условиях организованности и тем свести к минимуму возможные жертвы. Факты известны. Кровь пролилась. И теперь «руководящая» пресса буржуазии и пресса, услуживающая ей, пытаются всю тяжесть ответственности за события – т.-е. за нищету, истощение, недовольство и возмущение масс – возложить на нас… И для того, чтобы округлить эту работу контрреволюционной мобилизации против партии пролетариата – выступают анонимные, полуанонимные и клейменые прохвосты, чтобы пустить в оборот обвинение в подкупе: кровь лилась по вине большевиков, а большевики действовали под указку Вильгельма.
Мы переживаем сейчас дни испытания. Стойкость массы, ее выдержка, верность ее «друзей», все подвергается сейчас испытанию. Мы пройдем и через это испытание окрепшими и еще более сплоченными, как проходили через все предшествующие. Жизнь с нами и за нас. Новая перестройка власти, продиктованная безвыходностью положения и жалкой половинчатостью руководящих партий, ничего не изменит и не разрешит. Необходимо радикальное изменение всей системы. Нужна революционная власть.
Политика Церетели – Керенского направлена сейчас на разоружение и обессиление левого фланга революции. Если б им при помощи этих методов удалось установить «порядок», они первыми – после нас – оказались бы его жертвами. Но они не будут иметь успеха. Слишком глубоки противоречия, слишком велики задачи, чтоб можно было справиться с ними посредством полицейских мер.
После дней испытания наступят дни восхождения и победы!
«Вперед» N 6, 22 (9) июля 1917 г.
Л. Троцкий. ПИСЬМО ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Граждане министры!
Мне сообщают, что декрет об аресте, в связи с событиями 3 – 4 июля, распространяется на т.т. Ленина, Зиновьева, Каменева, но не затрагивает меня.
По этому поводу считаю необходимым довести до Вашего сведения нижеследующее:
1. Я разделяю принципиальную позицию Ленина, Зиновьева и Каменева и развивал ее в журнале «Вперед» и во всех вообще своих публичных выступлениях.
2. Отношение мое к событиям 3 – 4 июля было однородным с отношением названных товарищей, а именно:
а) о предполагаемом выступлении пулеметного и других полков т.т. Зиновьев, Каменев и я впервые узнали на заседании соединенных Бюро 3 июля, причем мы немедленно предприняли необходимые шаги к тому, чтобы это выступление не состоялось; в этом смысле т.т. Зиновьев и Каменев снеслись с центрами большевистской партии, я – с товарищами по «междурайонной» организации, к которой принадлежу;
б) когда демонстрация тем не менее состоялась, я, как и т. т. большевики, многократно выступал перед Таврическим Дворцом, выражая свою полную солидарность с основным лозунгом демонстрантов: «Вся власть Совету», но в то же время настойчиво призывал демонстрантов немедленно же возвращаться, мирным и организованным путем, в свои войсковые части и свои кварталы;
в) на совещании некоторого числа членов большевистской и междурайонной организации, происходившем глубокой ночью (3 – 4 июля) в Таврическом Дворце, я поддерживал предложение т. Каменева: принять все меры к тому, чтобы избежать 4 июля повторения манифестации; и только после того, как все агитаторы, прибывшие из районов, сообщили о том, что полки и заводы уже решили выступать, и что до ликвидации правительственного кризиса нет никакой возможности удержать массы, все участники совещания присоединились к решению приложить все усилия к тому, чтобы ввести выступление в рамки мирной манифестации и настаивать на том, чтоб массы выходили без оружия;
г) в течение всего дня 4 июля, проведенного мною в Таврическом Дворце, я, подобно присутствовавшим там т.т. большевикам, неоднократно выступал перед демонстрантами в том же самом смысле и духе, что и накануне.
3. Неучастие мое в «Правде» и невхождение мое в большевистскую организацию объясняются не политическими разногласиями, а условиями нашего партийного прошлого, потерявшими ныне всякое значение.
4. Сообщение газет о том, будто я «отрекся» от своей причастности к большевикам, представляет такое же измышление, как и сообщение о том, будто я просил власти защитить меня от «самосуда толпы», как и сотни других утверждений той же печати.
5. Из всего изложенного ясно, что у вас не может быть никаких логических оснований в пользу изъятия меня из-под действия декрета, силою которого подлежат аресту т.т. Ленин, Зиновьев и Каменев. Что же касается политической стороны дела, то у вас не может быть оснований сомневаться в том, что я являюсь столь же непримиримым противником общей политики Временного Правительства, как и названные товарищи. Изъятие в мою пользу только ярче подчеркивает, таким образом, контрреволюционный произвол в отношении Ленина, Зиновьева и Каменева.
Лев Троцкий.
10 июля 1917 г. Петроград.
«Новая Жизнь» N 73, 13 июля 1917 г.
Л. Троцкий. РЕЧЬ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ЦИК И ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ ПО ВОПРОСУ ОБ ИЮЛЬСКИХ ДНЯХ (17 июля)[165]
Докладчик ЦИК Дан сделал мне честь, напомнив о словах, сказанных мною[166] 12 лет тому назад о том, что, призывая к вооруженному восстанию, мы зовем рабочих умирать, а не убивать. Жалею о том, что Дан не цитировал ответ прокуроров Камышанского и Бальца (последний теперь, кажется, находится в рядах сотрудников Временного Правительства), утверждавших, что мы звали не умирать, а убивать.
Как видите, Камышанский и Бальц отвечали теми же словами, какие употреблял здесь Дан, причем речь Дана настолько подходила к аргументации этих прокуроров, что даже тов. Исув вынужден был сделать поправки к его прокурорскому тону.
Я не знаю, был ли Дан хотя бы на одном митинге в течение июня и первых дней июля, где выступали мы. Я лично выступал 2 июля перед Пулеметным полком, в части которого были особенно деятельны призывы к июльскому выступлению, и, как во всей нашей кампании за переход власти в руки Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, я заявил, что мы в Петрограде шагнули вперед в сравнении с провинцией, но мы не можем перескочить через собственную голову. Мы должны притянуть к себе крестьянские массы. (Голос: «это невозможно».)
Это возможно. Я верю, что русская демократия была права, призывая к переходу власти к Совету Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Мы знаем, что в Петрограде восстание могло бы в 24 часа устранить министерства и заменить их другими, но это была бы авантюра, ибо министерства должны опираться на поддержку масс. (В зале поднимается сильный шум; председателю с трудом удается установить спокойствие.) – Троцкий обращается к залу и заявляет: Здесь есть ваши напрошенные союзники – представители буржуазной прессы: «Биржевки», «Русской Воли»,[167] «Нового Времени»,[168] «Речи» и других грязных органов, которых мы презираем так же, как и вы. Завтра в этих газетах появятся заметки о том, что в уголовных преступлениях обвиняется большинство демократии. Я просил бы вас обратить внимание на центральный пункт выступления.
Еще 2 июля, когда мы сидели в ЦК, мы узнали, что готовится выступление. Эта весть, как искра, облетела все полки. Мы, несмотря на свою осведомленность, совершенно не знали, откуда идут эти слухи. В то время, как кадеты вышли из министерства, какая-то неизвестная рука пыталась арестовать Керенского и Чернова. (Крики: «это сделали кронштадтцы – краса и гордость русской революции».) Это свидетельствует о черносотенных попытках воспользоваться уходом кадетов. (Шум.)
Эти факты войдут в историю, и мы пытаемся установить их такими, как они были. Я утверждаю, что кто присутствовал при этой попытке, тот знает, что ни матросы, ни рабочие не знали, что делалось около входа в Таврический Дворец. Я выступал с речью и видел, что около входа стоит толпа негодяев. Я об этом говорил тов. Луначарскому и тов. Рязанову. Я говорил им, что это охранники, что они пытаются ворваться в Таврический Дворец. (Луначарский с места: «правда».) Когда Чернов вышел, эти негодяи за спиной массы пытались арестовать Чернова. Когда я выскочил к ним, я заметил, что это была группа из 10 человек, которая пыталась выполнить свою грязную работу. Я мог бы их узнать в десятитысячной толпе. Когда я пытался об этом довести до сведения масс, то оказалось, что ни один из рабочих и матросов не знал их. Банда расстроилась, и – Чернов возвратился во дворец. Никто не знал об отъезде Керенского на фронт, и попытка арестовать его могла исходить только с фронта.
Попытка вызвать Церетели не имела целью его арестовать, ибо рабочие и матросы кричали: пусть Церетели выйдет к нам и расскажет нам об истинном положении вещей. Если были другие крики, то они исходили из той же среды, которая пыталась арестовать Чернова. Три четверти всей конструкции восстания было основано на попытке арестовать министров. (Крики: «ничего подобного».) Пресса последних дней это доказала.
Вооруженное восстание вооруженных людей должно иметь цель, которую эти люди пытаются осуществить. Какая же могла быть у них иная цель? Таврический Дворец был совсем обезоружен. Вооруженными массами не было произведено попытки захватить какие-либо стратегические пункты или политические центры. Если стать на эту точку зрения, то вооруженного восстания не было. Это доказывает стихийность и элементарность движения, в которое вмешались контрреволюционные элементы.
Когда Дан говорил о заседании рабочей секции, он не упомянул, что мы настаивали на чистке контрреволюционных гнезд, представители которых ведут свою работу в низах рабочих и солдатских масс. 3 июля мы требовали этого от нашего полномочного органа, и это доказывает, что мы не были слепы. Нас обвиняют в том, что мы создаем настроение масс. Это неправда, мы только пытаемся его формулировать.
Когда в мае и июне указывали на то, что буржуазные группы занимаются саботажем, нам говорили, что мы демагоги. А когда ушли кадеты, то тов. Чернов и газеты «Дело Народа» и «Рабочая Газета»[169] повторяли наши же слова.
Неудивительно, что, когда ушли кадеты, рабочие массы сочли нужным предостеречь демократию от объединения с буржуазными группами. Вот на какой почве создалось движение.
Массы взяли оружие, потому что они знали о контрреволюционных попытках.
Мы считаем вместе с вами, что это была ошибка. С этой же трибуны тов. Войтинский говорил, что большевики предостерегали массы от выступления. Когда же массы вышли, мы поняли, что наша роль – ввести планомерность в это движение. Мы говорили этой массе: ваши лозунги справедливы, но все-таки не выступайте и возвращайтесь домой.
Я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Если революционная диктатура считает, что мы совершили преступление, то она должна расправиться с нами со всей силой революционной власти. Кто-то говорил здесь, что неизвестен мой адрес. Это неправда, он имеется в списках членов ЦК. Вы своим пассивным отношением создали атмосферу, в которой вы задохнетесь вместе с нами. В этой атмосфере грязные обвинения бросают Ленину и Зиновьеву. (Голос: «это правда». – В зале поднимается шум. Троцкий продолжает.)
В этом зале есть люди, которые сочувствуют этим обвинениям. Здесь есть такие, которые только примкнули к революции. (Шум. Председательский звонок долго восстанавливает спокойствие.)
Здесь есть меньшевики и с.-р., наши глубокие, но идейные противники, но есть и другие, которые преследуют другие цели.
Ленин боролся за революцию 30 лет. Я борюсь против угнетения народных масс 20 лет. И мы не можем не питать ненависти к германскому милитаризму. Утверждать противное может только тот, кто не знает, что такое революционер. Я был осужден германским судом к 8 месяцам тюрьмы за борьбу с германским милитаризмом, и это все знают.
Когда в этом зале находятся люди, которые прикладывают свою революционную печать к гнусным обвинениям против меня и моих товарищей, то этим самым они дают возможность контрреволюции говорить своим языком.
Не позволяйте никому в этом зале говорить, что мы наемники Германии, потому что это голос не убежденных революционеров, а голос подлости.
«Известия» N 121, 19 июля 1917 г.