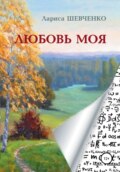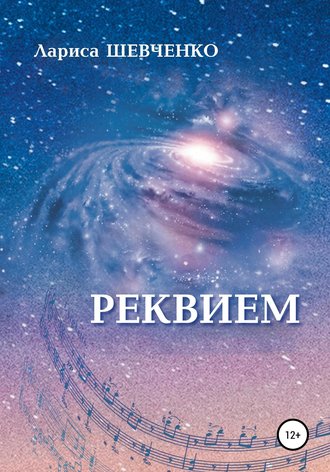
Лариса Яковлевна Шевченко
Реквием
Лена вспомнила горькие слова одной своей знакомой об одинокой бездетной тете, к которой та не успела приехать в больницу. Ей нескольких минут не хватило, чтобы застать её живой. «Старушка лежала с вытянутыми в сторону двери руками, будто хотела призвать к некоему печальному свидетельству. Рот её был перекошен то ли обидой, то ли страхом. В остекленевших глазах застыла мольба и последняя безнадежно-тоскливая просьба, на которую никто не откликнулся». Говорят, просила привести священника. «Худенькая, усохшая и почерневшая до вида мумии, она напомнила мне любимого гусёнка из далекого детства, погибшего от зубов соседской кошки. Он лежал лапками кверху такой несчастный, бездыханный. И его слабенькая, тощенькая шейка, и его открытый мучительно вялый клювик… Я так плакала». А тут к родному человеку опоздала».
«Возможно, моя знакомая услышала где-то эти проникновенные, тронувшие её сердце горькие слова, и с одного раза на всю жизнь запомнила, – решила я тогда. – Хотя, наверное, у каждого ребенка был свой цыплёнок, котёнок или воробышек».
– Нет, лучше вырвись потом, ближе к концу. Но я могу принять твои условия только при неукоснительном выполнении моих.
Даже в такой ситуации Инне обязательно надо было сопротивляться, немного поломаться, заставить себя упрашивать и только потом, как бы нехотя, подчиниться. Иначе это была бы не Инна.
– Чуть что – срочно звони. Я легка на подъем: саквояж в руки и вперед. Заодно по пути наведаюсь в родные пенаты или в любимое гнездышко. Удостою внимания.
Лена своей последней тирадой попыталась отвлечь Инну от тоскливых мыслей, но она прозвучала слишком легкомысленно. «А вдруг обиделась на меня? Старею, глупею, – разозлилась она на себя и поспешила стереть впечатление от своей оплошности:
– Инночка, не бери в голову. Может, еще не понадобится. Если только на будущее. Говорят, бабушка надвое сказала. Ведь симптомы можно и так и этак оценить. «Глупости говорю». Может, выяснится, что болезнь законсервировалась и больше ни с места. Не развивается. «Опять глупости говорю? А вдруг нет?»
– На картах погадать: сбудется – не сбудется? Я уже устала бояться, – усмехнулась Инна. – Помнишь ахматовское: «Всего прочнее на земле печаль». Пророческие строки. Что мне осталось? Жуткое прозябание? Судьба не оставляет альтернативы, кроме как: «Прощение и прощание – печальная скрижаль». И всё. Это как раз тот случай, когда я не исключение. – Нечто вроде усмешки опять скользнуло на Инниных, по-прежнему красивых губах. – Кто-то сказал: «Последняя степень свободы погибающего человека – вера. И никакой власти не удается лишить человека этой веры». Вера… Я сама себе священник. Знаешь, у Мандельштама – святое для меня имя – есть слова: «До смерти хочется жить». Вот и все, во что я теперь верю. И Лермонтов начинал одно из своих прекрасных стихотворений словами «Я жить хочу…» А еще: «Мне бесконечно жаль… не надо скорби». Такая вот преамбула перед последним актом моей пьесы. Только в эти пустые и горькие месяцы я наконец-то поняла, что к жизни надо относиться, как к дорогому сердцу подарку. А раньше не до того было. Суета сует.
Жаль, что мне не всегда хватало смелости жить так, как хотелось самой. Часто жила, как ожидали от меня другие. Я, например, любила языки, они мне легко давались. И рисовать у меня хорошо получалось. Но я во всем, как и ты, была слишком ответственна. Надо было чуть больше времени посвящать себе, для радости. Как поздно мы это понимаем! Жадность жизни не пропадает.
Во мне было много такого: и туда, и сюда. А ты умела быть сама собой. И ложь во мне жила, и чувствовала иногда себя гадкой. Всё было.
– Мало в тебе лжи было. Так, по острой необходимости и во благо другого.
– Живи за нас двоих, и подольше. Я там за тебя буду радоваться. Говорят же, что уход из жизни – это просто переход… туда, где ждет кара Всевышнего, – добавила она с печальной усмешкой. – Если это правда, то в определенном смысле мы остаемся, совсем не исчезаем, хоть и без телесной оболочки. Я допускаю, что эти представления неправильные, но хочется верить, что души и интеллекты суммируются, образуя биосферу, из которой черпают следующие поколения. Красивая сказка.
– А как ты насчет вскрытия или кремации?
– Категорически против. Не хотела бы предстать перед Всевышним в «разобранном» виде.
– Люди предъявляют Ему только души.
– Лучше подстраховаться, – подобие улыбки промелькнуло на бледном лице Инны.
– Если вдруг… ты же знаешь, я на низком старте… примчусь. Надеюсь, это не скоро случится. Судьба опомнится, смилостивится, и мы еще повоюем… и поживем. Есть у меня такое предчувствие.
Только так могла Лена выразить подруге то, что та отчаянно желала и на что в тайне надеялась.
– Мама совсем недавно оставила этот мир. Неужели я с нею… в один год? – Эта неожиданная мысль заставила Инну вздрогнуть. – Господи, это же так несправедливо! Крамольная мысль. Как её осилить?
Почему «в этом лучшем из миров» так много человеческого горя? За что люди так истово чтут богов, хотя верят далеко не все? Хотят хоть где-то быть счастливыми? Никто, наверное, в предсмертный час не атеист.
«Ропщет Инна. Мечется: верить – не верить? Извелась, совсем лишилась сил. Хочет избавления от инквизиторской боли, ищет, на кого бы переложить хоть часть этой немыслимо жестокой пытки. Уже не может выносить ее в одиночку. – Лена незаметно вздохнула. – И бабушка мечтала, чтобы милосердная смерть поскорее её прибрала. А она не торопилась, измывалась над редкостно святой».
– Крепче прижмись. – попросила Инна. – Когда обнимаешь, кажется, будто ты передаешь часть своей энергии, своей воли и оптимизма, что мне добавляется безнадежная храбрость андерсеновского портняжки.
– Сестричка, маленькая моя, золотко ты мое.
– Самоварное.
32
– Под музыку Вивальди мне вспоминается самое дорогое и радостное, но в последние минуты я хотела бы услышать «Ноктюрн» Бабаджаняна на слова Роберта Рождественского в исполнении Муслима Магомаева. Какой прекрасный триумвират! Под влиянием красоты этого произведения гнев, раздражение и обиды уходят из сердца. Оно заполняется особой высокой любовью. «Печаль светла», и не так страшно уходить. Последнее время я бесконечное число раз прокручиваю в голове эти поразительно прекрасные слова и эту великую мелодию.
В юности я мечтала услышать музыку, способную передать близость сердец. И вот услышала. Помнишь? «Как тебе сейчас живется, милая моя, нежная моя, свет моей любви, боль моей любви!.. Радостно живи!» Эти слова во мне живут как молитва. Пусть бы она провожала меня с крыльца дома в последний путь. А после нее чтобы была тишина, необъятная, сердечная. Тишина – это тоже музыка, чистый звук.
Я была бы не против и реквиема Верди. Его музыка – разговор с вечностью. Бессмертная музыка о смерти. Я будто прорываюсь сквозь страх потерь, боли, конца и ухожу в звездопад. Там бесконечность и вечность. Это музыка другой планеты. В ней каждая нота на вес золота. Но восемьдесят пять минут молитвы слишком много для провожающих, тем более стоя, – словно извиняясь, сказала Инна.
– Не хочешь хмурой чинности современных обрядов, выказывающих уважение к почившим?
– Да не то слово.
– Некоторые не поймут.
– Меня это уже не будет волновать. «А не боишься услышать вместо плача мой дикий предсмертный хохот»
– Ну, если только увижу «тоску всезнания в глазах».
– После музыки Верди не захочется быть излишне экстравагантной. Да… Все же ритуалы усугубляют скорбь. Ты по мне не очень страдай. Бабушка говорила, что скорбь тревожит дух покойников. Хотя что мы можем знать?.. Над нами всеми одно бескрайнее небо. Вокруг нас бесконечное мироздание… А вдруг там, наверху, есть кусочек и моей галактики, в которой заключены все мои добрые думы и чаяния, и они не исчезнут вместе со мной, а будут вплетены во всемирную гармонию… Размечталась?
– А я сначала «Вечный покой» – эту симфонию человеческих переживаний при прощании с жизнью прослушала бы, а потом знаменитый блюз памяти гениального джазового саксофониста и композитора Чарли Паркера в исполнении автора, знаменитого кларнетиста Тони Скотта. В нем возвышенная печаль по глубоко любимому человеку и музыканту. Этот блюз – прощание с земным чудом жизни. В нем светлая чистая высокая печаль и вечная память. Она погружает меня в состояние непередаваемого словами транса. Я и сейчас слышу эти пронзительные ноты на фоне тихой похоронной музыки. Эти удивительные блюзовые переборы… Я хотела бы, чтобы эта мелодия сопровождала меня у самой черты. Еще я желала бы, чтобы это произошло в тихий солнечный день, все равно – в зимний ли, летний. Чтобы как по лучику в небо, в новый путь, в неизведанный мир… – сказала Лена.
– А как насчет «Джийежеры»? Духовное аскетичное произведение тринадцатого века неизвестного автора. Его использовали во все времена в своих операх почти все великие композиторы мира.
– Строгая, суровая вещь. Возвышенная, духовная. Дыхание перехватывает. Мощная трагическая красота! Так бы зачерпнула, взяла в пригоршню хотя бы часть мелодии и унесла с собой, чтобы не расставаться.
– Так ведь о смерти и на смерть. Что-то типа молитвы перед боем, в котором все до единого идут на верную гибель.
– В отдельном, самостоятельном, как говорится, в чистом виде, я это произведение не смогла найти.
Лена уловила завладевшее Инной напряженное беспокойство и замолчала.
– Традиционные мероприятия – почтительная трогательная забота об ушедших. Она им уже не нужна. Но не стоит нарушать заведенный порядок. Наверное, это нужно тем, кто остается, для веры, что их тоже проводят как должно и будут помнить.
У меня тоже в тяжелые периоды жизни в голове случается реквием Верди… как «пропуск в грядущий покой». Это музыка боли. Еще Моцарт. Иногда «День гнева» шумит в ушах, давит. Еще реквием Пендерецкого. И во всех тема смерти.
– Я поляка не слышала, – сказала Лена.
– В чистом виде лакримоза. Восхитительная трактовка. Ничего расплывчатого, неясного, непоследовательно-сумбурного. Все четко. Гордое, возвышенное, но печальное оплакивание.
– Скорбное.
Инна утвердительно качнула головой.
– Вспомнились слова из какой-то религиозной книги: «Боль – есть память о нашем высшем предназначении на Земле». Уж и не знаю… Я полагаю, есть память любви и боли в сердцах близких. Конечно, все живое обречено на умирание, и все же невозможно, трудно смириться. И фразы не облегчают…
Инна тихо застонала. Лена приподнялась на локте.
– Не о том мы завели речь. Все нормально?
Взгляд Инны блуждал, ни на чем долго не задерживаясь. Дыхание сделалось беспомощно слабым.
– Не волнуйся. Очередная волна. Спадет.
«Все обговорили, все вспомнили. А будто и не беседовали. – Лена вздохнула. – Ночью всегда тоскливые мысли одолевают. Отдохнет, и завтра ей будет легче. И продолжит она бороться с неиссякаемым упорством».
– Паршиво мне. Помнишь, волнующе пахло летом… Вечерний аромат маттиол в деревенских палисадниках, оркестр насекомых. Дурманящий запах цветов белой акации. Симфония запахов! Природа! Бесконечная череда созиданий и разрушений… Что следовало предпринять? Где переломная точка невозврата?.. Каковы границы человеческих возможностей? К чему фатально сводились мои сладкие надежды юности?
Я на дереве, вся исцарапанная и счастливая, как в раю. Беспорядочно теснящиеся хибары… Моя милая родина! Дорогие, смешные, добрые соседи снуют туда-сюда… Я стою на мосту – тонкая, гибкая, изящная. Наглухо застегнут воротничок школьного платья. Распускаю тяжелый узел темных волос. Они падают медленным водопадом и рассыпаются по плечам. На меня восхищенно смотрят наши мальчишки. Я простая и гордая. Я счастливая…
«Опять бредит? Ее мысли – порождение больного зыбкого сознания… Похоже, ожидая, когда пробьет его час, человек не решает мировых проблем», – подумалось Лене. И всепоглощающая, грустная нежность к подруге захлестнула ее. На ресницах повисли слезинки.
В мысли Лены проник слабый голос Инны:
– Слушай, если завтра я буду не в форме, произнеси на встрече от моего имени мой любимый тост: «Пусть будут счастливы все, кого мы любим».
Лена уловила в просьбе подруги, в едва заметном усилии сохранить ровную интонацию намёк на душевную боль. Но у нее автоматически вырвалось:
– Конечно, произнесу.
Но она тут же испуганно подумала: «Вовсе спросонья не соображаю! Я произнесу? Истребить надежду – значит окончательно сгубить!»
– Нет, ты обязательно скажешь это сама. Я верю. Ты сможешь прийти. Я буду рядом, – воскликнула она слишком поспешно. А пару секунд спустя поймала зыбкий взгляд подруги и осторожной улыбкой попросила прощение за непроизвольно выскочившие бестактные слова.
– Какие у нас прекрасные мальчишки и девчонки! Как я хочу с ними увидеться! – внятно произнесла Инна. И вдруг побелела. Испарина покрыла высокий бледный лоб. У нее как-то жутковато закатились какие-то уже нездешние, принадлежащие другому миру глаза. Под ними резко обозначились темные полукружья. В одно мгновение посинели губы. Лена поразилась неожиданно происшедшей в подруге перемене.
– Ты меня слышишь? Чем помочь? – с испуганным участием зашептала она и привстала, опираясь на здоровое колено и на руки, как бегун на старте короткой дистанции, и зависла над Инной в напряженной выжидательной позе.
Прошло секунд двадцать. Они стоили Лене недель жизни. О, эта жутко затянувшаяся тишина… Инна пришла в себя и вяло улыбнулась. Безумное потустороннее выражение сменилось на тупое, устало-безразличное, потом на устало-осмысленное.
– Тебе больно? – спросила Лена так тихо, что ей почти удалось скрыть удушье от сжавшей ее горло жалости.
– Не более, чем всегда. Ты испугалась?
– А вдруг боль опять вернется? Может, все-таки хоть на короткое время в больницу?
– Не суетись. В больнице вся обстановка угнетает, а дома даже пустые гулкие стены милы. Опять наваливается мрачная смертельная тоска и отупение. Я… тебя… куда… Совсем голова отказывается соображать… Финальный аккорд. Рай, ад… Там живут отлетающие души. «Пройдем же по аду и раю, где нет между ними черты». Мусульмане говорят, что рай находится под ногами наших матерей. Мама, мамочка! Как с этим жить? Я здесь, на земле для другого. Во мне живет генетическая память предков. Спрут вечного сна, большой и сильный, обвивает меня, и я уже себя не чувствую… Я не принадлежу себе…
Лена еле разбирает вялый бессвязный шепот подруги. «Опять бредит», – в который раз пугается она.
– Может все-таки «скорую?» Открыть форточку и ты лежа покуришь? Уже не получается отвлекаться сигаретой? Ты меня слышишь?
– Неслыханное облегчение. Боль еще существует во мне, но уже не заслоняет весь белый свет, – через силу шутит Инна. – Я тут, наверное, «начирикала» всякой ерунды? Все смешалось в голове: школа, работа, племяши. Охватило нервное предчувствие конца. Не могла ни ощутить себя, ни нащупать. Ерунда какая-то. Пригрезились яркие астры, хризантемы и ноготки, присыпанные снегом. Еще почему-то деревенская печь, ломкие тени по хате. Не удавалось мне собрать разрозненные мозаики, связать прошлое с настоящим. Потом темно стало, как в гробу.
– Это страх. Он разрастается и опутывает. Если трудно говорить, молчи.
– Задыхаются и от счастья, и от страха.
– Но по-разному.
– Чувствую, включилась в понимание.
«Глаза с блеском, значит, уже слава Богу. Только на бок сильно завалилась. Сейчас она слабая, как выжатая, и грустная, но живительная мысль уже бьется в ее измученном мозгу, омывая сознание волнами невыразимого блаженства: «Пронесло, отлегло. Еще не время», – понимает Лена.
– Как хорошо! – не сдержав эмоций, воскликнула она голосом радостного облегчения, когда страх прошедшего чуть ли не смакуют, ликуя в настоящем.
Лена подала подруге лекарство. Та приняла и взглянула на нее с молчаливой признательностью.
«Надолго ли отсрочка? Который раз за сегодняшний день она «прикладывается» к пузырьку? Просто накачана лекарствами», – думает Лена и грустно шутит:
– У нас с тобой теперь на десерт только таблетки. Ты сегодня страшно переутомилась. Засыпай спокойно. Я рядом. Спи крепко. Завтра нам надо выглядеть.
– Не получится.
– Заснешь, куда денешься. Прижимайся ко мне. Я уютная. А может, хочешь рюмашечку коньячка?
– Для меня пить хороший коньяк что попусту добро переводить. Я за русскую водочку всегда стою. Это ты у нас гурман.
Обе надолго замолчали. Накопившееся напряжение дня, потрясение бессонных часов ночи вновь разом обрушились на них, пробив барьер натянутых, как струны, нервов. Они безмолвно застыли, утратив все ощущения, не в силах ни думать, ни реагировать.
– Не отвел Он от меня беду… Знаешь, есть мужество умирать… – не в бреду, осмысленно сказала Инна.
– А еще есть мужество жить. И нам с тобой его не занимать. «Думая о смерти, помни о живых». Обо мне помни. Ты мне нужна.
– Блуждала в тумане жизни, негодовала, завидовала, осуждала и скорбела. Во мне часто угадывалось надменное и злорадное торжество «добродетельной» души.
– Не глупи. Твои мысли чаще возносились к светлым высотам духа.
– «Привлечь к себе любовь пространства. Услышать будущего зов».
– Пастернак, – сказала Лена.
«Слова поэта в данной ситуации прозвучали слишком двусмысленно», – вздохнула она, поняв их новый горький смысл в устах подруги. И подумала: «Не дает судьба ей легкой смерти».
И будто подслушав мысли Лены, Инна сказала глухо:
– Надобность во мне отпала. Судьба мне плохой знак подала. Гроза неделю назад была, когда я у могилы матери стояла. Зима – и вдруг молния…
– Предрассудки. Ты – и плебейское суеверие? А может, это знак перемены к лучшему?
– На ладан дышу. Не заслужила я светлой памяти.
– Ты еще скажи: на века.
– Соблазн велик.
Что-то подсказывало Инне, что Лена понимает её лучше, чем они обе выразили в словах.
Она глубоко и судорожно вздохнула.
– С кем я буду соседствовать… навсегда?
– Это твой выбор. Приму любой. Но не торопись отдаваться в руки… во власть неизвестности. Моей бабушке врачи давали год жизни, но она полтора протянула. А у тебя прекрасные лекарства. Я завтра же подключу всех своих друзей на поиски новых. Смена лекарств часто действует положительно.
– Если что… тот наш договор остается в силе. Все документы в черной сумке на антресолях. Я во всем рассчитываю на тебя. Я там и твоему внучку очаровательный сувенир припасла на добрую память. Предметы хранят в себе много чего хорошего о владельце. От них исходит энергия. Существует дух места, дух предмета.
Не люблю ночные мертвые окна, – непонятно к чему сказала Инна внезапно угасшим голосом. Она свернулась калачиком, уткнулась Лене в плечо и затихла. Подруга обняла ее. Они больше не испытывали желания говорить, зная, что не смогут скрыть в словах смысл этого молчания. И дело тут было даже не в истощении физических сил.
«Ладони под щеку пристроила, как маленькая. Не спит. Скрылась под надежную защиту собственного горя. Взвинчена до предела. Пытается перевести свои мысли в более спокойную бытовую плоскость. Лежит в терпеливом доверчивом молчании. Хочет, чтобы я уснула первая. Даже сейчас бережет меня», – с теплой грустью думает Лена, пытаясь осторожно, чтобы не потревожить подругу, удобнее уложить на матрасе больные ноги. (Их нещадно ломило.)
Неожиданно Ленина благодарная влага покатилась по Инниной щеке, разлилась по губам и та ощутила горько-соленый вкус жемчуга ее слез… и их сладость.
На душе у Лены неспокойно. Она боится засыпать. Почему-то припомнились откуда-то явившиеся слова: «Откровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Из Святого Писания? Кроткого? Кроткого, но сильного. Потом в её сознании, как обрывок незаконченного рассуждения, промелькнула смутная мысль: «Надо бы уточнить».
Прошло несколько минут тихо стонущей в ушах пугливой тишины. Инна дышала ровно и спокойно. Сон оградил её от тоскливых мыслей. «Нет ни боли, ни забот, ни надежд, ни будущего?» Лена тихонько позвала подругу, потом осторожно отняла затекшую руку и повернулась на бок. Чтобы уснуть, ей необходимо было отвлечься от дум о подруге, да и о себе тоже, отринуть волну накатившей меланхолии. Но ей никак не удавалось сдержать вновь нахлынувший поток преследующих воспоминаний. Внутри неё всё еще подрагивало. И это было верным признаком долгого незасыпания.
Прошло достаточно много времени, прежде чем мысли Лены обратились к родному дому: «Недавно была в командировке. Телефонный звонок в гостиничном номере. Внучок картаво залопотал: «Бабушка, я тебя люблю и очень жду». Лена улыбнулась: «Вот чего мне сейчас не хватает для душевного комфорта, чтобы окунуться в сон. Но не время для бесед с малышом, ночь на дворе. Разное держит людей на земле». Уголком пододеяльника она промокнула вмиг увлажнившиеся глаза и подумала: «Слаба я стала на слезы. Меня теперь заставить плакать намного легче, чем смеяться».
«Андрейка, счастье мое, свет очей моих, мой главный и самый яркий лучик… – забормотала она, погружаясь в сон на волнах теплых воспоминаний о внуке. – Господи, дай Миру покой и стабильность, дай людям на земле больше добра, дай моим близким здоровья и счастья. Помоги Инне выжить. Дай мне сил еще пожить и поработать…»
Каждый раз слова у нее выходили разные, но смысл их был один и тот же.
«Господи!» При моем воспитании и образовании это обращение звучит более чем странно. Но оно меня успокаивает. И ведь не религиозная, но вот привыкла после операции, в которой на краю была и особенно после серии изматывающих химий каждую ночь встречать просьбами к Всевышнему. Будто сама себе вменила в обязанность. Так и повелось. Собственно, отголоски религиозности, наверное, есть в каждом из нас. Некоторых она спасает от самоубийства».
Лене вспомнились полушутливые слова матери: «Нас не учили ни молиться, ни медитировать. И чтобы отойти от дня, насыщенного болезненными необоримыми мыслями и заботами, приходится на ночь петь себе колыбельную. А от колыбельной до молитвы – музыки Небес, ведущей к Богу, – один шаг. И причина тому хрестоматийная… Правильная жизнь и есть моя религия. Красота ведет к доброте, поэтому слиться с Природой – все равно что почувствовать высшее наслаждение и сердцем найти дорогу к непознанному, называемому Всевышним. А восхищение Природой и есть молитва».
А казалось, не верила.
«Господи, ниспошли мне сон. Господи, дай людям… – как молитву в который раз привычно повторяет Лена. Её медленно поглощала тяжёлая дрема, приносящая хрупкий, но так необходимый сон. – Это похоже на втягивание релятивистских струй в черную космическую дыру», – подумала она. И это стало последней мыслью, пробившейся сквозь поток обращений к Всевышнему. Наконец и он иссяк, слившись с волнами сна, насылаемыми заботливым Морфеем. Лена спала, и ничто уже не оживляло её усталого расслабленного лица.
33
– Принцесса, весь месяц была серая туманная погода, а сегодня, как по заказу, явилось яркое солнце на чистом небосводе. Такое утро несет в себе обещание удивительного дня! Я будто летаю! – зашептала Лена.
Инна, не открывая глаз, почувствовала счастливую улыбку в голосе подруги и отозвалась тихо, не совсем уверенно и даже как-то растерянно:
– У меня этой ночью – ни снов, ни видений. Поспала и точно заново родилась. Не помню уже, когда просыпалась с желанием жить. Во мне, в моем ощущении себя, этой ночью словно бы наметился, нет – что скрывать, – произошел какой-то перелом. Будто что-то ниспосланное свыше… Я уже не на острие ножа… Будто благодать нисходит… Не могу выразить.
– Жизнь продолжается! – добавила она с осторожной радостью.
– Просыпайтесь, сони. На зарядку по порядку – становись! На раз-два рассчитайсь! – с приветливой неторопливостью хозяйки будит подруг Кира. Она отдернула шторы и раздвинула створки форточки. Ослепительное зимнее солнце хлынуло в окно их временного «цыганского» пристанища, предвещая прекрасный день. Лена улыбалась ему. Оно согревало её больное сердце надеждой. Неразличимый свет ночника, который горел всю ночь, растворился в свете нового дня. Но Кира его заметила и выключила.
– Вставайте! День занялся морозный, бодрящий. Он будет чудесным!
– И на редкость счастливым! – подсказала Инна чуть сонно, но искренне и радостно.
«Твоя беда отступила! И погода не подвела», – сказали Инне сияющие глаза Лены. И они понимающе улыбнулись друг другу.
2003 г.
Продолжение следует.
Контакты
Уважаемый читатель! Буду Вам благодарна, если Вы поделитесь мыслями о моих книгах на сайте, где скачали эту книгу. Если проблемы, поднятые в моих книгах, созвучны с Вашими переживаниями и взглядами на жизнь, или Вы хотите поделиться эмоциями или историями лично – вот мои контакты:
Вконтакте:
https://vk.com/shevchenko.larisa
Сотовый:
+7-919-162-6620
Skype:
e.shevchenko25021945
email:
larisa.shevchenko.lipetsk@yandex.ru
Сайт:
Пишите, звоните. Буду рада общению!
Отзыв: В каждом образе – судьба
Воспоминания Ларисы Яковлевны Шевченко «Вкус жизни» состоят из семи книг, которые являются единым целым и которые в то же время можно читать как самостоятельные произведения.
«В поисках утраченного смысла», «Мгновение и вечность», «Реквием», «Ее величество», «Дневник замужней женщины», «И она случилась…» и др. – своеобразные портреты, сделанные внимательным и чутким человеком, педагогом: бывший ученик, ныне учитель сельской школы, чета вузовских преподавателей – друзья по студенчеству, любящая бабушка – светлый луч из детства, поэтичный возлюбленный, предавший нежное чувство, и сын – счастье и смысл жизни…
И одновременно – множество случайных, на первый взгляд незначительных, зарисовок: испорченный мальчишка-попрошайка на вокзале, обездоленный, лишенный родительской любви малыш на ледяном балконе, доктор спасательной группы, рыдающий о погибшей дочери, коллеги по работе и посторонние чиновники, женщина, стоящая на коленях у могилы, – как воплощение потери…
А фоном наблюдения и размышления главной героини – мудрой, любящей, переживающей за все, что происходит вокруг: с ней, с ее родными и близкими, с друзьями, с чужими людьми, с народом, со страной. И абсолютно гармоничны «переходы сознания» от ЕГЭ к культуре граффити, от неустроенности интеллигенции в современном обществе к эстетике моды и возраста, от проблем «отцов и детей» к уникальности детского творчества, от романтики альпинизма к трагедии потери близкого человека, от сокращения запасов вооружения к рекламе, от истории к религии, о времени, о вечности.
Книгу «Реквием» невозможно пересказать! Но легко воспроизвести каждую отдельную историю, которая складывается в биографию ЖЕНЩИНЫ.
Ларисе Яковлевне удалось невероятным образом создать целостную картину жизни, где поколения, сменяя друг друга, все же сохраняют нечто общее: недаром при чтении возникает ощущение, что в поступках и поведении внучки одной из подруг юности Елены Георгиевны проглядывает лукавая мордашка героини повести «В барбарисовых джунглях». Да и Лена в своих воспоминаниях о детстве похожа на ту искреннюю девочку, что в ранних рассказах «писала, как дышала».
И хотя в предисловии к книге автор просит не искать идентификаций, не пытаться найти себя среди героев, но это невозможно, так как каждая сцена написана с реальности, в каждом образе – судьба как минимум знакомого человека, каждая мысль – искреннее резюме на происходящее в современной России, наполненное болью и одновременно верой в жизнь, в добро, в вечную любовь.
Удивительны в книге тонкие языковые образы, которые позволяют увидеть читателю различные временные пласты, которые в сознании и восприятии героини живут органично, характеризуя различные жизненные этапы: тут и студенческие «лозунги – жизненные принципы» типа «Мне в высшей степени безразлично» или «А главное – дешево», и по-своему смиренная, грустная констатация – «Все мы уже стали для наших внуков частью мира прошлого…» или «Жизнь становится более регламентированной», и беззаветно юношеское – «Если всегда защищать подлецов, мир никогда не станет лучше».
Как драгоценные медальоны в общей архитектуре текста – эмоциональные очерки-впечатления о книгах, о музыке, о женщинах и мужчинах, о первой любви, о возможности видеть окружающий мир и сочинять, выдумывать, творить!..
Так повествование разворачивается в многослойное полотно, где судьбы отдельных людей сочетаются с тем, что принято называть «тенденциями современной действительности», возникает картина жизни, содержащая душевную лирику, общественную драму и историческую достоверность. И хотя Лариса Яковлевна осторожно, со свойственной всем ее произведениям деликатностью обозначает жанр «Реквиема» как воспоминание, внимательный, даже самый придирчивый критик увидит здесь все признаки большого романа.
«Реквием» – книга не простая.
И входить в нее нужно, как в реку.
С первого прочтения – обжигающе просто и ясно, узнаваемо и предметно-образно.
Со второго погружения – осмысленно-строго, оценивая и соглашаясь во многом с автором.
А далее – свободно и глубоко, с любой страницы, в любом настроении, находя ответы на волнующие вопросы и просто наслаждаясь словом, музыкой повествования, вкусом жизни.
Ольга Васильевна Шаталова,
доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный
педагогический университет»
Отзыв: О человечном в каждом человеке
«Люди жестоки, но человек добр». Эти слова Рабиндраната Тагора, процитированные в произведении Ларисы Шевченко «Вкус жизни», я бы определил его лейтмотивом. Верны эти слова и для романа «Реквием», который собирает в единую симфонию жизни мозаичную полифонию новелл.
Собравшиеся на традиционную встречу зрелые уже однокурсницы освежают в общении яркие эпизоды прошлого, созидая (по воле автора) в раздумьях и горестных заметах личных судеб психологический портрет переходной эпохи России, пришедшейся на грань тысячелетий. Крае-угольным камнем художественной и смысловой палитры романа является мысль одной из героинь в новелле «Заботы и проблемы» и в рассказе «Собрание»: «… вдруг как-то остро поняла, что раньше для меня «мы» было я и моя страна, а теперь – только я и моя семья».
Да, это правда. Отдалились и померкли общественные идеалы Отечества нашего, сменившись прагматичной логикой личного успеха. Но и семейные взаимоотношения: проблемы отцов и детей, зрелости и детства, любви и предательства, нравственных падений и духовного роста (вопреки болезням и невзгодам, а возможно, и благодаря им) в обширном и панорамном художественном полотне Ларисы Шевченко указуют нам путь к Человеку, к главному в нем.
Читаешь «Реквием» – и невольно на память приходят «Опыты» Мишеля Монтеня, иных писателей-моралистов эпохи Просвещения, тоже, кстати, переходной. Но там, в «энциклопедиях интеллекта и этики» представлен мужской аналитический взгляд на общество. Здесь – чисто женский, сентиментальный, чуткий к деталям, к таинственному «чуть-чуть». (Этим он и интересен). Когда-то Александр Блок сказал: «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен».