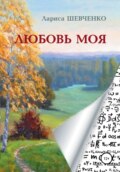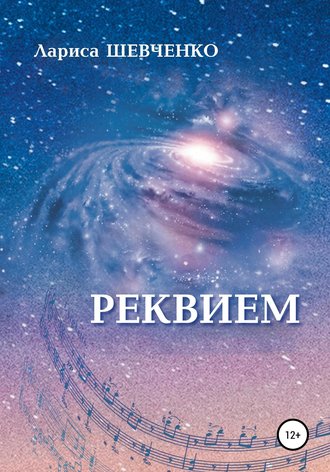
Лариса Яковлевна Шевченко
Реквием
– Прими во внимание и то, что неверие в способность родителей защитить от злых моментов внешнего мира порождает в детях пессимизм. Неумение найти душевный контакт с ребенком или его потеря влекут за собой массу проблем и для родителей, и для детей. А всего-то и надо – уметь любить по-настоящему, – голосом, отяжелевшим от памяти собственных прошлых, застарелых обид, добавила Лена.
– И с Андрюшой ты намаялась предостаточно. Все в одни руки. Не показывать свою слабость и свои проблемы для организма иногда стоит слишком дорого… И вот опять болезнь дотянулась до тебя и сильными корявыми пальцами сжимает то сердце, то горло.
– Последнее время во мне все как-то разладилось. С трудом удается пару лекций прочитать. Преподавание отнимает много сил. Домой прихожу обессиленная, словно после десятикилометрового кросса с полной выкладкой. Валюсь с ног, отдыхаю. В голове совершеннейший вакуум. Ау! Нет эха. Не от чего отразиться, не с чем свериться, – грустно шутит Лена. – И раз за разом мне становится все трудней. К вечеру так устаю, что мысли не додумываются до конца и расползаются, как ночные тени в предутреннюю пору. Чувствую непрерывно сокращающиеся возможности. Оттого, наверное, ослабевает интерес к жизни. Не желаю прихода гостей. Мне часто хочется тишины. Только с внучком могу немного пошептаться. И если у меня не получается, он не обижается. Понимает, бабушка устала.
Память стала подводить, часто не могу соотнести лица и фамилии студентов. Их у меня порядка пятисот, и каждый год все новые. Но пока борюсь. Как шутила актриса Раневская: «Работаю преимущественно над собой, симулирую здоровье». Есть японская пословица: «Я не знаю, как побеждать других, но я знаю, как победить себя».
– Есть другая истина: «Я знаю всё, но только не себя». Иначе бы мы не ждали так рано своего конца, – жестко сказала Инна и резким движением высвободилась из-под одеяла. – У меня часты выпадения памяти. Вижу фамилию в записной книжке, а за ней ничего не стоит. Или наоборот: прекрасно знаю человека, но напрочь забыла его имя. И шансов нет вспомнить.
– Склероз – «очаровательное изъявление уверенности в вероятности катастрофы и ее победы» над нами. Но я пока держусь. Как-то на лекции забыла фамилию одного ученого. Стала читать в уме его стихи и представляешь – вспомнила!
– А знаешь ли ты, что такое «нет сил»?! Это когда впадаешь в состояние тупой озадаченности и пару слов не можешь сказать. Иссыхает горло, язык не ворочается. Сознание работает прерывисто, глаза захлестывает тьма. И тогда понимаешь: всё, душевные и физические силы на исходе. И проваливаешься во тьму. Вот так я узнала, что для того, чтобы говорить, требуется энергия. Совсем недавно для себя открыла эту прописную истину. Раньше не задумывалась и, наверное, посмеялась бы над этим. Я же всегда как сорока тарахтела. А теперь устаю даже от собственных мыслей, – грустно призналась Инна. – Когда я без сил, мне бесполезно что-либо объяснять. Чужие фразы от меня словно мячики отскакивают. И свои слова – подобно проржавевшим петлям ворот гаража – я не могу с места стронуть. И тогда ничто не озаряет мрачного лабиринта моих гибельных мыслей. Они не углубляются в сознание, а скользят по поверхности памяти. Страхи все теснее смыкаются вокруг меня, стремясь окутать и столкнуть в бездну. Я ничего не чувствую, кроме своей боли, лежу, охваченная ужасом, с неистребимой надеждой поскорее уйти в никуда. Я на краю. А когда боль отпускает, в сердце остается ненужная, позорная, сосущая пустота. Лекарства пока снимают боль до терпимого уровня. А что будет через месяц?
«Сколько же она его сегодня за сутки приняла, чтобы быть перед девчонками в форме?» – грустно подумала Лена.
– Я критически мыслящий человек, поэтому никогда не жила иллюзиями. Если только в юности. А ведь кто-то хорошо сказал, что фантазии и мечты нам даны, чтобы не умереть от истины. И мне, наверное, было бы легче, если бы я улетала мыслями на другие планеты. Я бы не чувствовала, как теряю самое дорогое. Дальше еще хуже будет, – в усмешке покривила губы Инна. – Знаешь, болезнь многое во мне поменяла. Она послужила толчком к пониманию главной ценности. Раньше на меня часто нападало болезненное безадресное отвращение к жизни, и оно долго не отпускало меня, сопровождая как солдат-конвоир. Апатия губит. Не зря в религии уныние считается грехом. Лекарства стараюсь реже принимать. Терпением зачем-то немного продляю эту жуткую жизнь. Делать ничего не могу, но страшно устаю от тяжелого тупого безделья, от постоянной боли. И тогда начинаются приступы дурноты.
– Соматические.
– Соматические заболевания тоже в каком-то смысле разрушают организм тем, что не выводят из депрессии.
– Они следствие.
– Скажу, не боясь впасть в преувеличение, что у меня часто не хватает сил на элементарные положительные эмоции. И тогда я уже не человек. И под влиянием минуты мне хочется застрелиться или отравиться. Погибнуть в бою – геройская смерть, и там есть вероятность выжить. А у меня…
– У тебя тоже есть.
– Что есть для тебя ад и рай?
– Рай в душе. Это те самые редкие минуты абсолютного счастья, когда ты не чувствуешь ничего, кроме счастья.
– В чем состоит оптимизм верующего человека?
– В том, что духовной смерти нет.
– Ты веруешь?
– Да, но не канонически, по-своему.
– К какому берегу я пристану?.. – задумчиво спросила Инна.
Прошла минута, другая. Инна опять заговорила.
– Обложила меня судьба новыми болезнями, перемежая их со старыми, и ссудила ими в дальнюю дорогу, в зияющую пустоту. Доконали они меня. А было время, когда я не знала, что такое уставать, тем более до полного бессилия.
Лицо Инны сделалось неподвижным и напряженным, словно на веко ей сел тарантул и она, боясь моргнуть, мужественно терпит его присутствие в надежде на свое скорейшее избавление от убийцы.
«Почему тарантул? Детектив про шпионов из детства вспомнился. Не вынесла нежная Иннина душа грубых перекосов жизни», – вздохнула Лена, осознавая неуместность и мелкость своих прежних жалоб. Пытаясь отвлечься, она кое-как встала, размяла ноги и спину, подошла к окну, отогнула край занавески. В окно смотрела темнота, а Лена смотрела в нее.
Морозно. Неровно набухшее утром небо теперь разгладилось. Блеклые звезды, как покрытые изморозью поздние цветы, кое-где проглядывают между сгустками темных, своеобразно сгруппировавшихся облаков. Недосягаемые светила… В обморочно безмолвной мертвенной дали Лена разглядела три красных сигнальных огонька маячившей верхушки телевышки, будто не имеющей на земле опоры. Выхватила взглядом далекий силуэт университета. Он еле угадывался в серой морозной дымке. Перескочила влево на цепочку огней над длинным мостом. Она сияла свежими сочными хризантемами. «Ухудшается зрение. Пора менять очки», – про себя отметила Лена и в грустной задумчивости тихонько постучала костяшками согнутых пальцев по стеклу.
Почему-то вспомнился первый сюда приезд, прекрасное августовское ночное небо, не затянутое облаками, его удивительно глубокая богатая оттенками синева. Выскользнула мысль: «Как грустно прекрасен и сейчас сказочный вид этого уснувшего города, чуть подсвеченного многочисленными уличными огнями! Почему он мне по сердцу пришелся?» И сама себе ответила: «Первый город свободной, самостоятельной жизни – он как первая любовь». Потом ей подумалось: «А в нашей деревне сейчас темень непроглядная». Сердце чувствительно сжалось ласковой печалью. И тут же летнюю ночь себе представила: «Не скупилось там небо на звезды». Бальзамом на душу легло это воспоминание.
Лена перевела взгляд на одиноко светившееся окно в доме напротив. В голове мелькнула недавно услышанная по радио фраза: «Суровые условия жизни. В Рейкьявике с прошлого века у людей сохранилась привычка оставлять на окне зажженную лампу – огонек надежды и помощи путнику». И почему память зафиксировала эту информацию?
Лена увидела в стекле свое прозрачное отражение. «Рисунок лица… в отчаянии набросанный редкими слабеющими сполохами света завода. Вижу его черные трубы»… Как в детстве, сделала себе страшные глаза. Голова почему-то слегка закружилась. Ее качнуло. Она представила себя стоящей у окна вагона поезда: скользящие провода, бегущие кусты, столбы, редкие дома. Вспомнилось из прошлого: «Когда долго смотришь на мир из окна движущегося поезда, то забываешь о себе. Остается только то, что мелькает перед тобой. И ты в это как бы погружаешься и растворяешься в нем».
Мир не нуждается в нашем постижении. Мы в нем нуждаемся.
Посмотрела вниз. Безлюдно. Естественно, ночь ведь. Мороз крепко-накрепко залатал подтаявшие за вчерашний день лужи. Фонарь слабо освещает остатки холодно чернеющей низкой кованой ограды у соседнего дома. Она выглядит как вытравленный серебристо-черный эстамп. Ее рисунок в виде веточек с редкими листочками – на манер обоев в их комнате – как нельзя лучше совпадал по толщине и форме с ветками куста над оградой. Они казались ее продолжением и смотрелись как единое целое: живое – неживое, естественное – искусственное.
Сердце Лены непонятно почему дрогнуло и сильно заныло. Тоска не отпускала. Вспомнился прошлый новогодний праздник по телевизору, преувеличенно наигранная веселость его гостей. «Винегрет мыслей в голове. Отчего у меня сегодня клиповое сознание?»
Опять всмотрелась в конус света от фонаря. Разглядела сверкание редких снежинок. Подумалось: «Дождь очистительный, как слезы, а снег только прикрывает грязь и боль, замораживает их, накапливает. Не люблю межсезонье. И оттепели не люблю. Хрустящий морозный воздух мне слаще. Всякая глупость лезет в голову. Усталость – вот ее причина».
Лена зябко передернула плечами, но не от холода, а от непроходящей грусти. Еще постояла с минуту и тяжело опустилась на матрас.
– А я подумала, ты к Кире с «посольской миссией» – насчет пожрать – отправишься, – грубовато пошутила Инна.
– Или туда, куда царь пешком ходил, – в тон ей сказала Лена. Но прозвучало это натянуто и слишком натуралистично, потому что ей вспомнились недавние стыдливые жалобы подруги о том, что при ночном бодрствовании та часто бегает по малой нужде. И она поспешила затушевать неприятное впечатление рассказом о себе. И начала без предисловия, с того самого места, где остановилась Инна до ее подхода к окну.
– Знаешь, я часто замечаю в себе признаки нашей болезни, и тогда страх вкрадчиво вползает в душу. А моментами от горького бессилия нападает черное парализующее равнодушие. Иногда так плохо себя чувствую, что, кажется, будто дни мои сочтены. Начинаю паниковать. И тут вспоминаю предсказание одной женщины и успокаиваюсь. Спасибо ей. Много дней жизни она мне сберегла.
– И не закрадываются сомнения в правильности ее «диагноза»?
– Думаешь, его можно истолковать двояко?
– Я отказываюсь верить.
– Так ведь хочется.
– Мне ее предсказания – как громкая музыка при головной боли, – раздраженно вскрикнула Инна, не контролируя себя. – А вот что ты запоешь ближе к концу означенного срока?!
– Надеюсь, удастся настроиться. Говорят, что перед кончиной организм сам вырабатывает обезболивающее, чтобы человеку легче было уходить в небытие.
– Только не мой донельзя разбалансированный организм, не способный ни помочь, ни оградить от моментов невыносимого напряжения сил борьбы с болью. Спасает потеря сознания. А из нее можно и не выйти.
– И не мой, наверное, тоже.
– Да, попали мы с тобой в переделку. Обе потерпели поражение в борьбе с болезнью. Вот ты больше молчишь, и я понимаю: дозируешь свои силы. А девчонки, скорей всего, думают, что заносишься. – Нервная дрожь прошлась по телу Инны.
От скорбного взгляда подруги у Лены опять защемило сердце. Она понимала, что ее боль – не только сострадание и жалость в чистом виде к Инне, к ней примешивалась изрядная доля собственных терзаний и страхов.
– Лена, я где-то прочитала анекдот. «Зачем эти боли?» – спрашивает измученный больной. И черт отвечает зловредно: «А просто так». «За что они?» – молитвенно вопрошает страдалец. «Да ни за что», – радостно скалится черт. «Темнишь», – сказал больной и… умер». Это про меня.
– Держись до последнего. Ты сильная. Вера заставляет мозг человека совершать великое, а его организм – невозможное. Мудрый надеется, что всё в жизни не бессмысленно.
– Ничего подобного! Мудрость наша теперь совпадает со скепсисом. Двадцать первый век. Наши знания требуют оставить надежду. Современный мир впадает в сумеречное состояние?
– Так уж и весь мир. Я верна надежде, – мягко запротестовала Лена.
– Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Не избежишь.
– Ты уже дважды выжила ценой невероятных усилий и теперь выдержишь. Бог любит троицу. Не стоит заранее предаваться скорби. Не накликай новых неприятностей. Мысль материальна. От беды беды не ищут.
Но Инна поняла горький оптимизм подруги и уловила в её голосе явно прозвучавшую, с трудом скрываемую тревогу и за себя. И ее мысли о Лене полетели с космической скоростью на орбиту прошлых, многократно прокручиваемых воспоминаний.
3
«Сначала Андрей надломил Лену. Как же, мать-одиночка – социальная трагедия! Наверное, ни одной собаки не осталось в округе, которая не гавкнула бы в её сторону. А того не понимали, что не грех родить ребенка, грех убить. – Тяжкий вздох сожаления вырвался из груди Инны. – Потом гибель Антоши надорвала ей сердце, и окоченела ее душа. Был первый толчок – измена, потом второй, самый мощный стресс – сынок. Он и запустил механизм образования опухоли, а трудная жизнь только способствовала ее развитию. Вот откуда ее болезнь раковая, роковая… Будь Лена счастливой, могла бы еще долго пожить, много хорошего людям сделать.
Новое счастье так и не ворвалось в ее размеренную, распланированную на годы по минутам жизнь. Не улыбнулась ей судьба. Вот и коротает век, самостоятельно справляясь с заботами. А теперь и сама вот-вот уйдет. Господь и от нее беду не отвел. У нее стрессы, а в моей болезни виноваты долговременные обиды. Я позволяла им созревать. Есть к чему привязать этот неопровержимый, недостойный факт. (Инна печально усмехнулась.)
Андрею, наверное, его поступок годков не убавил. А казалось, они как нельзя лучше подходили друг другу. Правда, эта любовь внесла в жизнь Лены то, ради чего стоило жить. Ребенка. Почему же все-таки она жестоко отметала все поползновения обожателей, избегала «горизонтальных» связей? Забыла, простила Андрею надругательство над ее любовью или наоборот? Лена была способна испытывать чувство, за которое могла бы отдать многое. А Андрей?.. Потребности ее тела мог удовлетворить только человек, равный ей, близкий по духу. Но ей больше не удалось найти такого. Вот и держалась за память прошлого, за свою любовь к Андрею.
И Галкиному, и Эмминому мужьям их подлость не аукнулась. Разве мы с Галкой стали бы несчастливыми, не будь у нее Василия, а у меня этого гада Вадима? Его имя для меня – табу. Каждая из нас сама для себя решает, кем для нее стал тот, первый. Я сдваиваю, страиваю наши судьбы? Да, потому что у всех нас душераздирающий финал – ощущение загубленной жизни. Но видит Бог – она у нас чего-то да стоила! Мы жили, мы боролись!»
Внезапно перед глазами Инны всплыло лицо человека, о котором она не позволяла себе вспоминать вот уже много лет. Она хотела его увидеть и надеялась никогда не увидеть.
«Виктор Цой пел: «Смерть стоит того, чтобы жить. Любовь стоит того, чтобы ждать». Да-а… Человек постоянно чего-то ждет, и часто не дожидается. Мы так хотели быть счастливыми! Но наша жизнь с самого начала дала осечку. Кто-то гениально сказал: «Жизнь продолжалась, а судьба уже кончилась». Главное эти мужчины уже сделали: они сломали нас. Но велика ли честь победить более слабого? Не одна я поплатилась за доверчивость. Нас сотни тысяч. И кто наказывал? Те, кого мы любили, те, кого самих надо было линчевать. Вот, мол, Золушка, тебе твой принц, а вот тебе его «Алые паруса»! Непригодные для реальной жизни оказались эти книжки. Они-то при чём? Авторы хотели нас радовать. Читая их, я испытывала счастье, полноту жизни. А теперь только приступы дурноты».
«Хотя и моя вина была», – честно отмечает сознание Инны. – Но это если рассматривать прошлые события с позиции нынешнего возраста. А тогда во мне говорила искренняя юность. Только расплачивалась я за ее глупость по полной программе. К сожалению, наши ошибки мало что дают в познавательном плане, но слишком много отнимают.
Жаль, что родители не говорят детям о пробуждающихся инстинктах, стесняются посвящать в их смысл, в способы преодоления искушений. Конечно, дети думают больше, чем могут выразить словами, но они варятся в собственном соку, в своих до конца не сформировавшихся понятиях. Подросток не может полностью жить только своими мыслями, ему надо не намекать на плохое, не подсказывать, а подробно растолковывать. Это взрослый обязан стремиться жить своим умом. А меня только ругали. Ищу себе оправдание?
Взаимоотношения полов?.. Это мальчишки зацикливались на этой проблеме и всячески подбивали старших товарищей на признания насчет любовных приключений, требовали от них подробностей. А для меня все было просто и ясно. Вырасту, выйду замуж, будут дети. Так было, есть и будет во всем живом мире: в растительном, животном и человеческом. Это само собой разумеющееся. Не надо закрывать глаза на естественные вещи. Они есть и обязаны быть в семье. В этом нет ничего предосудительного, пошлого, грязного. Это обыкновенная составляющая любви. Как у всех. И разрешив для себя эту проблему, я больше никогда о ней не задумывалась. У меня не было терзаний, излишнего любопытства к этому факту. Зачем спорить, выяснять, углубляться? Пока мне не к чему об этом думать. Всему свое время. А сейчас я просто хочу, чтобы меня любили, обожали! И всё. Любви не пристало быть мелкой, обыденной. Вот и была занята тем, что прислушивалась к себе, к тому, что подспудно то тлело, то бурлило во мне. Я ждала от любви чего-то неслыханно прекрасного! И дождалась. Вадима.
Потом были изнурительные приступы уныния и отчаяния. Это была тоска по себе, такой юной, чистой и прекрасной. Отрезвление обесцветило все привычные чувства. Мир стал пресным, неинтересным, гадким. И я ушла в себя, как черепаха в панцирь. Мне хотелось освободиться от всего злого и темного, появившегося в себе, понять, что цель жизни не наслаждение, не призрачное счастье, а что-то другое, пока мне неведомое. Может быть, духовность? Но я стала скороспелым беспросветным циником.
Счастье! О нём мечтается, пока ты здоров. Больному просто хочется жить». – Инна тяжко вздохнула и будто захлебнулась горькими мыслями.
«А о чём задумывается не встроившаяся в нынешнюю жизнь молодежь? Разговаривала недавно с одним таким экземпляром. Имеет специальность, но уже несколько лет живёт на пособие. С одной девушкой «дружит», потому что она работает в столовой и подкармливает его, другую пытается «охмурить» на предмет женитьбы, но она пока сомневается, стоит ли ей брать на себя такой хомут, время тянет, надеется, что он устроится на работу. Спит с обеими по очереди. Ищет новые варианты. И притом курит дорогие сигареты и на «сэкономленные» деньги раз в неделю балует себя посещением ресторана. А в «свободное» время болтается по городу в поисках приключений. Я упрекнула его в пассивности и безделье, в отсутствии чувства ответственности за тех девушек. Он страшно удивился: «Анализировать отношения с женщинами? Из-за них распалять в себе мерзкую тоску, о чем-то задумываться, размышлять, губить свою и без того неудавшуюся жизнь?» – «А им не губишь? Как ты думаешь, они разделяют твою точку зрения?» – возмутилась я. – «Это их проблемы», – спокойно ответил он. И что тут скажешь?»
…Ах, эта детская, недосягаемая пониманию грубых мужчин, целомудренная бескорыстная вера в порядочного человека! Ах, эта чистота помыслов и розовых романтичных мечтаний! Ну как тут не наломать дров? Юному непорочному сердцу непонятна природа предательства. И ведь не растолкуешь, не поверит оно в плохое, пока само не поранится. Такой вот полнейший деревенский наивняк!
Ко времени знакомства с Вадимом я уже прочитала «Воскресение» и «Анну Каренину» Толстого, но моя юная память неосознанно остановилась на тайном вожделении Катюши Масловой, неизъяснимо бродившем и во мне, а не на наказании, которое она понесла из-за неумения думать о последствиях своих поступков.
«Нет, конечно, мне было жаль Катюшу, я ненавидела Нехлюдова и презирала его бездействие, – мысленно возражает себе Инна. – Но я была еще так глупа! Чувства возобладали над умом, которого еще было слишком мало. И теперь я признаюсь себе в этом с удалью крайнего отчаяния».
А тогда мне надо было кого-то любить, благоговеть, видеть в чертах любимого окрылённость, одухотворённость. Я представляла себе его лицо, исполненное воли и мечтательности, полное таинственной жизни. Оно отвечало моим сокровенным мечтам. И я влюбилась в Вадима до одури, до умопомрачения. И это развязывало ему руки. Потому что сама… Дух захватывало, я ничего не соображала, с остервенелой готовностью неслась к нему, расшибая колени, не помня себя, кидалась ему на шею. Он был такой необыкновенный! Помню его первый роскошный выход! Он него исходила такая яркая ослепляющая энергетика! На фоне наших мальчишек он казался мне брильянтовой запонкой на белейшей манжете сказочного принца, огромным сияющим драгоценным камнем в царственной короне.
«Откуда во мне и стеснительность, и решительность? – спрашивала я себя. – Чем объяснить это несовпадение и противоречивость? Лихорадочным, взвинченным, доведенным до экстаза восхищением, возникшим среди страшно пресной жизни?» Ни запретить, ни обуздать. Я радовалась своей способности к возвышенным переживаниям, умению любить. «Я счастлива! И пусть весь мир подождет!» Вот и отдала свою жизнь на поругание. С небес любви и счастья падать очень больно. Страх и обида отравили мою юность. Почему не было предощущения опасности?
Восхищением всё объясняется? Ничуть не бывало! Наивностью, глупостью. И заключение это старо как мир. Кем я была? Девчонкой с сильным эстетическим голодом и убогим восприятием жизни. Красавчик! И этого было достаточно, чтобы влюбиться, пожирать его глазами, млеть? Безнадежный случай. Такой глупышки свет не видывал. Ха! Шокирующий уровень душевной искренности.
Это я теперь так считаю, а тогда старалась попасться ему на глаза, что само по себе было унизительно. Мои желания не укладывались в понимание мной женского достоинства. И это злило. Я стыдилась себя, особенно в редкие минуты отрезвления. Я скулю? Вон Анькина неудачливость превосходит всякое понимание. Но стоит ли оспаривать ее первенство среди наших подруг? Некоторые из них лишались взрослых детей. Когда дети уходят из жизни раньше родителей – это самое страшное».
Из груди Инны вырвался странный захлебывающийся звук. Лена вздрогнула, насторожилась и подумала: «Молчит, значит, вспоминает. Сколько раз она прогоняла в памяти пережитое? И сегодня взвинтила себя донельзя. Бедная. Совсем ее нервы сдают. Взывать к логике бессмысленно».
«Да, я скулю. Да, я знаю, что это самое распоследнее дело! Но иногда мне кажется, что весь этот искорёженный мир населен одними подонками. «Выжженная пустыня моего сердца!» Может, и звучит эта фраза избито и пошло, но она такая точная! О это юное загадочно-возвышенное чудо – «души доверчивой признанье»! Дура. Сама подставилась. Себя в жертву ублюдку принесла. И никто своей праведной молитвой не разрушил его капище, это гнездо зла! Там требовался огнемет.
Я предпочла его, а он осмеял, смял, сломал. От скуки погубил, ради развлечения. И в больницу послал тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность решения моей проблемы. И рукой небрежно вслед махнул, мол, давай, поторопись. Я не знала, как вести себя в этой «нештатной» ситуации, не понимала, к чему это приведет. Была напугана. Уж как водится. Совсем девчонкой была».
Инна вздрогнула, будто голос из прошлого, как вскрик души, как отголосок того страшного дня, опять с прежней силой застучал в ее усталом сердце: «Как болит душа обидой на судьбу!»
Почему оказалась не готовой к превратностям судьбы? Самая смелая, самая дерзкая – и вдруг такое. Это было неожиданно и невероятно. Я даже не пыталась, как часто делала раньше, перевести стрелки на мать, ее обвинить в том, что не уследила, не предотвратила, не пресекла. «А ведь на самом деле: всё детство взрослые нами командуют, «обламывают» нас, а потом требуют серьезных, осмысленных решений! И мы, не умеющие думать, привыкшие подчиняться, не ведая сомнений, делаем ошибки, потакаем теперь уже мужчинам, которые старше нас. Мы им тоже доверяем», – искала я себе оправдание. Но ведь и Ленина мать не допускала возражений. Ленке повезло не встретить подлеца? Я хоть в школе, а она уже в институте промахнулась.
Всю жизнь, сколько себя помню, корила многоопытного Вадима за то, что внушил отправиться в больницу. А там одним днем повзрослела, да поздно было. Пришла ребенком, а ушла обожженной жизнью женщиной. Для себя самой стала как прокаженная. Наверное, именно тогда я впервые по-настоящему испытала к себе жалость. Кого винила? Мать с бабкой, не сумевших воспитать, не заложивших в меня чего-то важного, ситуацию в обществе? Себя, за то, что не научилась самостоятельно думать? Когда к горлу подступала обида, конечно же, перед глазами всегда вставал конкретный обидчик. Кто же еще, если мне шестнадцать, а ему сорок?.. Таков был мой «ответ Чемберлену». А Лена всегда была хозяйкой своих чувств и важных поступков. Но и ей не повезло.
А что сегодня? Ночь. Сонная комната. Почти нет посторонних звуков. Если только иногда через глухо задраенные окна донесется непонятный далекий рокот. Нет людской суеты, заставляющей думать о чем-то постороннем. И я опять вся там, в детстве, в юности, дотошно перебираю в уме пережитое. Девочкой жила, следуя почти вслепую каким-то случайным поворотам судьбы. Одни события ловко вплетались в другие, и оставалось только простодушно, не противясь, следовать их игре. Вилась нить событий, и я плела из нее паутину непредсказуемых выводов. Я с интересом следовала по предложенным судьбой дорожкам, которые приводили к самым неожиданным сюрпризам. Не одну меня сгубило любопытство и сжег ад первой запретной страсти».
Горло Инны зажала в тиски давнишняя боль. Из него вырвался хриплый, сдавленный стон. Теперь вздрогнула Лена. Она поняла: «Инна так и не смирилась». Но прервать мысли подруги так и не рискнула.
«Вадим сжег мою мечту, и стало на душе нестерпимо холодно и пусто. А хотелось жить с любовью, с радостью. Я загоняла обиду в глухие уголки своего сердца, но она вылезала, преследовала меня, всплывала в самые неподходящие моменты. Лоб почему-то покрывался холодным потом, а по спине бежали горячие ручейки… С тех пор моя жизнь – цепь незаслуженных утрат. Сожаленья разрывают мне сердце. Но они бесплодны.
А что бы дал мне тяжелый безрадостный брак с Вадимом? Нет, свобода лучше! Ха! Пламенный привет нашим глупым юным мечтам! Почему до сих пор Вадим не выветрился из моей памяти? Обида не забылась. Я же проклинала его, великовозрастного и жестокого! Я ненавидела себя, юную и глупую! Почему Всевышний наказывал нас, а не Вадима, намеренно губившего юных, чистых, неопытных, невинных? Почему не остерегал, не оберегал, а отдавал на поругание? Наша судьба в наших руках? А как же справедливый карающий меч?.. Зачем мне эти воспоминания? Как отключиться от теребящей душу едкой горечи обид?»
Инна не заметила, как заговорила вслух.
– Лена, верно, помнит мои слезные рулады в периоды депрессий. Эх, вымарать, вытравить бы из памяти и вообще из жизни людей эти страшные для любых ушей слова «измена», «подлость»!
«Каждый шаг на пути к себе Инне давался через боль», – вздохнула Лена.
– Больше падений ниже дна у меня не было, но жизнь не наладилась. Так и не нашла я себе талантливого мужа, с неравнодушным сердцем. Первый раз замуж торопливо пошла. Боялась, что не достанется. Но уроков не извлекла. И со вторым, и с третьим все было так же. А четвертый мужчина был последней ниточкой, за которую я ухватилась. Только и она оказалась не той. Мне опять не хватало тепла, я была одинока. Я надеялась, что с кем-то буду более счастливой и уверенной. Но поражал цинизм, бессердечие мужей. Получалось, мои замужества были чем-то вроде профилактики тоски. Хорошее быстро проходит, а плохое ранит, его всю жизнь чувствуешь и помнишь. Возможно, хорошего было слишком мало? Это как посмотреть. А если каждый день проанализировать? Много наберется?
Инна вдруг нервно засмеялась, заставив Лену внутренне содрогнуться. Как-то странно и страшно истерично прозвучал этот смех в ночи. Но произнесенные слова были тихими, спокойными, парадоксально неожиданными:
– Мне не нравится, когда целуются с языком. Мне кажется, только губы предназначены для этого сакрального действа. Не всякие импровизации достойны повторения и закрепления.
«Она бредит! – подумала Лена. – Или просто не осознает, что говорит вслух? Отнесу эту странность к непонятному проявлению ее болезни».
– …Я всегда любила что-то особенное, мечтала о невозможном. О том, к чему была совершенно неспособна. «Я прекрасно пою и танцую!» Я на самом деле придумала очень чувственный, сексуальный танец, но исполняла его только в мечтах и снах с не очень красивым, но умным, надежным, нежным и очень обаятельным, обходительным мужчиной. С таким, какого хотела бы иметь рядом с собой. Этот танец мне казался идеальным. Я считала, что неподготовленные, незаученные, естественные природные движения, как и прекрасные искренние движения души, наиболее трогают сердце. Но в жизни так и не пришлось ни разу его исполнить. Не с кем было.
«И у Инны от усталости скачки в мыслях, – сочувствует подруге Лена, то впадая в сонную канитель, то вновь через оторопь приходя в ясное сознание. – И мне неплохо бы прикорнуть. Но Инна и её состояние меня пугают».
– Вот так лежу иногда, обшариваю самые темные закоулки своей угасающей памяти и хандру на себя нагоняю. Оглядываюсь назад и что я вижу? Сплошные зигзаги, сбои. И всё во имя любви и счастья! И всего этого – плохого и хорошего – как и не было… Но ведь было!
Мне кажется, что человек может считать себя счастливым, если радостное и доброе в его жизни перекрывает печальное и злое. Вот поэтому, наверное, мы подсознательно стремимся делать добрые дела, чтобы скомпенсировать ими недостаток в себе простой искренней естественной радости. Мы сами себе ее «организовываем». «Дошло, наконец, на пятые сутки». – Эти слова Инна произнесла с безжизненным усилием и так, точно они причинили ей мучительное страдание.