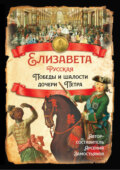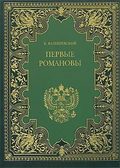Казимир Валишевский
Дочь Петра Великого
Но автор «Синава и Трувора» оказал огромную услугу своему отечеству. Он внушил ему сознание литературной самобытности, и с той поры национальный гений стремился дать ей выход. Он разбудил душу народа, познакомив ее с новым миром образов, мыслей, чувств, где плохо истолкованное и иногда облеченное в странные формы национальное прошлое вспоминалось и восставало в воображении толпы и заставляло ее желать, чтобы переживаемые им ощущения вылились в более художественную форму. Он был первым литератором в своем отечестве. Кантемир был дипломатом, Тредьяковский – профессором, Ломоносов – инженером и промышленником. Сумароков жил исключительно театром и печатью. Он управлял первой русской сценой, затем сделался редактором первого литературного обозрения, появившегося в России: «Трудолюбивая Пчела». Он заполнял его почти единолично не только своими театральными пьесами, но и историческими и филологическими статьями, одами, элегиями, эпилогами, баснями и эпиграммами. Когда через год «Пчела» прекратила свое существование, он перенес свою деятельность на еженедельный сборник «Праздное Время», издававшийся при Кадетском корпусе. Сцена поглощала лишь меньшую часть его деятельности, столь же обширной и разнообразной, как и деятельность Ломоносова. Отчасти из-за соперничества с Ломоносовым, отчасти из подражания Вольтеру, Сумароков испробовал все роды литературы, но многие его произведения нам неизвестны. Его народные песни, увлекавшие современную ему молодежь, никогда не были изданы. Кажется, он был инициатором и в области любовной лирической поэзии и научил свое поколение поэтически выражать чувства нежности.
Общими чертами своего нравственного облика он походил на Ломоносова, обладая, однако, большей точностью при менее всеобъемлющем гении и меньшей суровости темперамента. Он был дворянином и переписывался с Вольтером. Автор «Candide» охотно подписался бы под некоторыми его остротами, приобретшими известность: однажды он обратился со следующими словами к одному лакею, покупавшему в книжном магазине книжку «Честный человек и мошенник»: «Разорви эту книгу и отнеси Честного человека к… Якову Матвеевичу Евреинову, а Плута – своему господину вручи». На вопрос, поставленный в одном собрании: «что тяжелее – ум или глупость?» он ответил: «Понятно, глупость. Вы же знаете, что такой-то ездит четвериком, а для меня довольно и одиночки». В этих остротах сказывается новый оборот мысли, точно так же, как во всем существе их автора – в его произведениях, как и в его обращении, обнаруживается начало новой, обильно насыщенной западными элементами культуры, хотя еще очень поверхностной и в особенности очень непоследовательной. Ум Сумарокова представлял собою хаос и собрание противоречий. В его журнальных статьях ему часто случалось противоречить самому себе, иногда даже на одной и той же странице. Написав панегирик деяниям Петра Великого, он тут же принимается за восхваление старого режима; он называет Александра самым великим человеком и тотчас же сравнивает его с Каталиной, высказывая уверенность в том, что только успех составил разницу в их карьерах. Но не является ли сам по себе этот литературный журнализм, расцветший в последние годы царствования Елизаветы, признаком значительного прогресса? В мире интеллектуальном, как и в мире физическом бессвязность составляет неотъемлемую принадлежность периода формации. От Ломоносова до Сумарокова прогресс этот бросается в глаза, сказываясь главным образом в новой роли, присвоенной чужеземным элементам, не являющимся, как прежде, лишь внешним наслоением, а начинающим проникать в глубину местной культуры и развивать в ней зачатки новой жизни. То была тяжелая и опасная эволюция, в скором времени направившая литературу на путь рабского подражания, но тем не менее преодолевшая все препятствия и в конце концов заставившая Россию усвоить и вполне самостоятельно переработать все формы и идеи, составляющие общее достояние цивилизованных народов.
При свете фактов, слишком бегло, может быть, представленных мною на предыдущих страницах, дело, исполненное в России под руководством дочери Петра Великого, имеет чрезвычайно важное значение. В области политики она сперва стремилась вернуться к принципам преобразовательной эпохи, в особенности в области сношений с внешним миром и использования иностранного элемента. На вершинах административной иерархии не было больше немцев. Даже при замещении низших должностей Елизавета всегда справлялась, нельзя ли заменить иностранца русским. Эта предвзятость заключала в себе временное неудобство, но она в результате образовала мало-помалу в России класс государственных людей и военачальников, составивших славу следующего царствования.
В области экономической, производительные силы и богатства страны, в силу упразднения внутренних таможен, создания кредитных банков, толчка, данного эксплуатации рудников, и развитию торговли с Азией – значительно выросли и окрепли.
Колонизация юго-восточных степей, предпринятая с помощью заграничных славян, вопрос о монастырских владениях, разрешенный в духе Петра I и в тесной связи с учреждением светских благотворительных учреждений, наметили в двух различных направлениях новые пути политического, экономического и социального развития, где современной России остается еще обширное поле для работы.
Созданием Московского университета, организацией среднего образования и основанием национального театра, в особенности деятельностью Ломоносова, о которой Пушкин выразился справедливо: «он создал первый русский университет; он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом», – народ Петра Великого сделал еще один гигантский шаг вперед; не перегнав своих соседей Запада, как то твердили Екатерине иностранные льстецы, а сто лет спустя стали повторять и в России, даже еще и не догнав их, русский народ все же вступил на путь плодотворного умственного и нравственного общения с ними. Наконец, царствование Елизаветы подготовило двор и общество следующей эпохи с ее внешним блеском и пороками, с внедрением в высших слоях роскоши, утонченности, развращенности и сохранением в низших – зияющей раны крепостного права. Но периоды развития и быстрого роста неразлучны с этими болезненными уклонениями. К счастью, периоды эти преходящи.
Часть вторая
«Внешняя история царствования»
Глава первая
Конец Шведской войны. Роман маркиза Шетарди
Исторические сочинения, посвященные восемнадцатому веку и касающиеся внешней политики России – таких трудов немало за границей, и многие из них значительны и ценны, – в большой мере облегчили мне задачу, к которой я теперь приступаю. Но в то же время они и осложнили ее. Я должен предполагать, что они знакомы читателям, хоть не могу быть вполне в этом уверен. С другой стороны, я нашел в работах моих предшественников некоторые пропуски, неясности и даже неточности, которые приводили, как мне казалось, к полному искажению исторической правды. Да простится мне поэтому моя скромная попытка восстановить эту правду, и пусть историки, суждения которых мне придется оспаривать, не откажутся мне верить, что я делаю это без всякого высокомерия или неуважения к ним. Я признаю всецело, как уже говорил выше, достоинства прежних исторических изысканий, позволивших мне предпринять мой труд, который я, в свою очередь, не считаю исчерпывающим. Другие после меня будут продолжать мою работу, стараясь добиться в ней большей точности и полноты; они также пересмотрят и сделанные мною открытия и выведенные на их основании заключения и, надеюсь, воспользуются той долей, которую я вложил в наше общее дело.
I. Елизавета и европейская дипломатия
Мне, разумеется, нечего напоминать читателям, каково было положение Европы при восшествии Елизаветы на престол. Австрийское наследство и грубое нападение Фридриха, жертвой которого сделалась наследница Карла IV, по-прежнему служили предметом раздора между западными державами и делили их на два враждебных лагеря: с одной стороны стояли Австрия и Англия, с другой Пруссия и Франция. Кроме того, чтобы не допустить вмешательство России в пользу ее союзницы Австрии, Франция и Пруссия натравила на Россию Швецию. Шведская армия открыла военные действия против России посреди зимы под тем предлогом, что она требует восстановления прав Елизаветы на наследие Петра Великого. Это была новая война за наследство, искусственно созданная первой австрийской войной. Но когда цесаревна Елизавета Петровна неожиданно для всех действительно села на престол отца, не прибегая при этом к помощи иностранных покровителей, то невольно возник вопрос, положит ли воцарение Елизаветы конец бесславной кампании шведов. Этот вопрос стал волновать дипломатический корпус С.-Петербурга на следующий же день после 25 ноября 1741 года и вскоре возбудил тревогу и надежды во всех европейских канцеляриях, начиная с Берлина и кончая Лондоном. Он осложнялся еще многими другими. Предшественница Елизаветы, Анна Леопольдовна, завещала своей тетке не только один, столь близкий ее сердцу, австрийский союз. С редкой непредусмотрительностью она успела заключить договор и с Англией и с Пруссией и таким образом связывала интересы России с каждой из враждующих сторон. Который же из этих союзов, противоречащих один другому, выберет Елизавета? И, сделав выбор, решится ли она помочь союзнику с оружием в руках?
Эти сомнения довольно долго оставались без ответа. Посреди радостей и волнений своего торжества, молодой императрице было, естественно, не до того, чтоб удовлетворять чужое любопытство. Представители дипломатического корпуса, пораженные ноябрьским переворотом, почти все находились у нее под подозрением более или менее открытой преданности к Брауншвейгской фамилии; им не оставалось поэтому ничего другого, как ограничиться пока официальными поздравлениями, которые ясно показывали их смущение и тревогу. Только один из них мог надеяться на большую откровенность со стороны императрицы. Маркиз Шетарди находился в исключительном положении, созданном его прежними отношениями с Елизаветой. И он не замедлил воспользоваться им. Он уже тогда мечтал о роли, ставшей для него впоследствии роковой, и стремился достигнуть некоторых личных успехов, думая, что они повлекут за собою важные политические последствия в интересах его страны. Поэтому, отказавшись на время от своего дипломатического звания, чтоб уничтожить те препятствия, на которые натолкнулись его коллеги – он признал необходимым исходатайствовать себе у своего правительства новые верительные грамоты к новой государыне, – он просил у нее милости быть принятым ею, «как простой придворный».
Иоахим-Жак Тротти маркиз де ла Шетарди происходил из итальянской семьи и был по карьере дипломатом. В тридцать пять лет он насчитывал уже десять лет службы в Берлине. Но здесь он создал себе, откровенно говоря, лишь репутацию человека остроумного и умеющего жить на широкую ногу. «Маркиз приезжает на будущей неделе, будет чем угоститься», – писал Фридрих, радуясь веселому французскому гостю в одиночестве Рейнсберга. Правда, это было до 1740 года, когда Фридрих был еще и «принцем философом» и другом Вольтера. Посылая маркиза Шетарди в Петербург, Франция поручила играть здесь роль, тоже скорее декоративную, нежели высокого политического значения. Версальский двор по-прежнему считал необходимым блистать на берегах Невы с точки зрения исключительно внешнего великолепия. И маркиз оказался на высоте своей задачи, приехав в Петербург с двенадцатью секретарями, шестью капелланами, пятьюдесятью лакеями и знаменитым поваром Баридо, настоящим художником кухни. Этот повар тоже сыграл при русском дворе свою роль так, что не только посвящал жителей Петербурга в ученые тайны своих тонких соусов, но считался некоторое время высшим авторитетом в вопросах гастрономии и был придворным поставщиком всего необходимого для изящной обстановки, между прочим, искусственных цветов, которыми в то время было принято украшать обеденный стол. Говорят, он нажил на этом недурные деньги. В свою очередь, и пятьдесят тысяч бутылок шампанского его господина тоже произвели в Петербурге настоящую революцию: игристое французское вино сменило венгерское, которое прежде употребляли для тостов. Не считайте все эти подробности ничтожными: они занимают в истории народов более крупное место, нежели принято думать.
В событиях, предшествовавших восшествию Елизаветы на престол, маркиз Шетарди не выходил из пределов предназначенной ему его правительством роли. Цесаревна попробовала было воспользоваться им для своих целей, но должна была отступить перед его сдержанностью. Она произвела переворот 25 ноября без его помощи, но обставила дело так, точно он принимал в нем очень большое участие. Она думала, что в Шетарди нет ни предприимчивости, ни любви к приключениям и – ошиблась. Под своей блестящей внешностью версальского придворного той эпохи и изысканными и церемонными манерами он таил, как многие другие, пылкую и мечтательную душу, готовую проявить себя при удобном случае. К тому же романтичность была у него в крови. Его мать, урожденная Монтале-Вилльбрейль, из старинного, но бедного лангендокского рода, была известна своими похождениями. «Сложенная, как богиня» – по словам Сен-Симона – «высокая, красивая, неумная, но обходительная, всегда вызывающая о себе много толков, очень расточительная и очень надменная», – она давала богатую пищу скандальной хронике того времени. В 1703 году она вышла замуж за маркиза Шетарди, в 1705-м, ожидая рождения сына – будущего посланника – уже овдовела и вскоре вступила в новый брак с баварским дворянином графом Монастеролем. Она блистала среди известных красавиц последних лет царствования Людовика XIV, удивляя Версаль и Мюнхен своими приключениями, пока второй супруг ее не застрелился, прокутив все свое состояние. Графиня Монастероль осталась в крайней бедности и принуждена была нищенствовать, стучась в двери своих прежних друзей. Между прочим, она взывала и к великодушию польского короля, и в благодарность за выпрошенные деньги она обещала ему постоянно носить на память о нем браслет, выражая при этом надежду, что он не забудет приложить этот браслет к деньгам. Как видно, у нее не было недостатка в воображении. У сына же ее было, пожалуй, даже слишком много. Но у него был узкий, ограниченный ум, один из тех умов, которые упорно цепляются за какую-нибудь идею, потому что не могут вместить больше одной зараз.
В программу Елизаветы входило выказывать представителю Людовика XV усиленную благодарность за услуги, которых он не оказывал, и доверие, которого он далеко не внушал ей. Я уже рассказывал, как в течение первого дня после своего восшествия на престол, она шесть раз посылала маркизу Шетарди записки. Но не все ее послания к нему были чисто демонстративны: во втором из них она просила его остановить военные действия шведов. После небольшого колебания Шетарди повиновался и отправил к шведскому главнокомандующему курьера, а она продолжала писать ему о вещах, не имевших, по-видимому, никакого значения. Он не понял ее маневра, и воображение его разыгралось. Он унесся мечтами в те волшебные страны, где принцессы выходят замуж за пастухов, и придворные завоевывают страны при помощи мадригалов. Впрочем, разве действительность в России не походила в то время на сказку, и разве Бирон, сменив Меншикова, не был регентом? Маркиз Шетарди, наверное, вспомнил о них в тот памятный день и в достаточно романтическом настроении отправился вечером к царице.
Он нашел ее в каком-то «вихре» – я привожу слова, которыми он сам рисует свое впечатление, – взволнованную, возбужденную, говорящую быстро и несвязно.
– Что-то скажут мои добрые друзья англичане? – воскликнула она, увидев его. – Им представляется теперь удобный случай поддержать гарантию, данную ими сыну принца Брауншвейгского.
Она называла так маленького низвергнутого императора. Потом продолжала:
– Есть еще человек, которого мне было бы любопытно видеть. Это – Ботта. Мне кажется, он будет немного смущен. Но напрасно; я охотно дам ему тридцать тысяч солдат.
Этих слов было достаточно, чтобы сбросить маркиза с высоты его воздушных замков. Ведь Елизавета раскрывала перед ним всю тайну своей будущей политики и, вместо привета, сообщала представителю Франции, что посылает на берега Рейна тридцать тысяч солдат, чтоб сразиться с войсками его государя. Ботта, как известно, был послом Марии-Терезии в Петербурге. Но молодой французский дипломат уже утратил способность смотреть на вещи здраво. Произнося свои многозначительные слова, дочь Петра Великого улыбалась ему, и он видел только ее улыбку. Впрочем, и сама Елизавета вряд ли отдавала себе полный отчет в том, что говорила. В опьянении новой властью и в страстном желании скорее проявить эту власть и насладиться ею, она играла союзами и армиями, как новой, интересной забавой. В эту минуту она, конечно, не чувствовала никакой нежности к Марии-Терезии. Дружба Венского двора к Брауншвейгской фамилии могла вызывать в ней лишь подозрение. Притом, – как Шетарди узнал это вскоре по личному опыту, – если дочь Петра Великого и царствовала со вчерашнего дня, то она еще не управляла страной. Но все-таки ее слова должны были послужить предостережением для Шетарди, а он не придал им никакого значения. Елизавета заговорила затем о Швеции, и он выказал полную готовность исполнить во всем волю императрицы. В один из ближайших дней главнокомандующему шведской армией, Левенгаупту, который все еще колебался, повиноваться ли ему французскому посланцу, Шетарди отправил второго курьера. Маркиз «все брал на себя» и приводил самые убедительные доводы в доказательство необходимости мира. «Швецию ждет верный разгром», – писал он. Но Левенгаупт был сбит с толку. «Вы убеждали меня как раз в противоположном неделю назад», – возражал он, – «вы говорили мне, что в России нет ни солдат, ни денег!» – «Теперь обстоятельства переменились», – отвечал маркиз и перечислял воображаемые богатства, отнятые Елизаветой у Юлии Менгден! В конце концов он уговорил шведа и остался чрезвычайно доволен собой, убедив Елизавету написать Людовику и попросить его о посредничестве для окончания шведской войны. По-прежнему улыбаясь, императрица согласилась на это под одним условием: чтобы ей прислали портрет короля, «единственного государя, – сказала она, – к которому она чувствует склонность с тех пор, как себя помнит».
Комплимент был тонкий и полный обещаний; но тот, к кому он был обращен, отказался его оценить. Дело в том, что одновременно с письмом Елизаветы в Версаль пришло известие о перемирии, предписанном Швеции, и о тягостном впечатлении, которое это событие произвело в Берлине. Война Швеции с Россией была одним из непременных условий, поставленных Франции прусским королем при заключении с нею союза. А этот союз был теперь очень непрочен: рассыпаясь перед Версальским двором в уверениях в беспредельной преданности, Фридрих имел в то же время в Клейн-Шнеллендорфе свидание с австрийским маршалом Нейпергом и выработал с ним основные пункты соглашения с Австрией. За этим соглашением должно было последовать перемирие и формальный договор. Но, как я уже указывал выше, восшествие Елизаветы на престол, увеличившее опасность разрыва с Россией, и взятие Праги (26 ноября 1741 г.), вернувшее счастье французским войскам, изменили намерения непостоянного короля. Он уже не так сильно боялся теперь австрийцев и опять почувствовал влечение к соотечественникам Вольтера. Но он хотел в то же время воспользоваться всеми преимуществами, которые ему могла дать его преданность общему делу, – преданность, вспыхнувшая с новой силой после неожиданных событий в Петербурге. Мардефельд присылал ему донесения, противоположные тем сведениям, благодаря которым маркиз Шетарди остановил наступление Левенгаупта. По словам прусского дипломата, русские войска с глубоким отвращением думали о предстоящей схватке со шведами и надеялись, что восшествие Елизаветы избавит их от этой неприятности. Они находились в «паническом страхе» и готовы были взбунтоваться, если бы государыня настаивала на кампании. Мардефельд рассказывал при этом про одного солдата, виновного в убийстве, который сам выдал себя властям, говоря: «Уж лучше погибнуть дома, чем быть убитым там».
Фридрих не мог колебаться, кому верить: Мардефельд или Шетарди. Его представление о действительном могуществе России было очень смутно. В первом издании «Истории моего времени», вышедшем вскоре после его вступления на престол, и в «Мыслях о политическом положении Европы в настоящее время», появившихся в 1738 году, он, распределяя европейские державы по степени их военных сил, не знал, куда поместить среди них Россию, и, чтоб выйти из затруднения, просто позабыл упомянуть о ней. И эта забывчивость была, в сущности, очень близка к презрению. В конце концов Фридрих и пришел к этому чувству по отношению к «северным медведям» (Oursomanes), открыто проявляя его при своих сношениях с ними. Но это случилось уже позже. А пока он считал очень полезной шведскую «диверсию», обеспечивавшую ему мир со стороны России. Он охотно верил всем, кто, как Мардефельд, предсказывал Левенгаупту легкую победу, и немедленно указал Версалю, что поведение Шетарди безумно и преступно по отношению к общим интересам обеих союзных стран.
Людовик XV и его советники были поставлены этим в очень неловкое положение: отказаться от посредничества, предложенного Елизаветой, и оскорбить Россию – значило сделать очень рискованный шаг, но поддерживать политику, которую осуждал Фридрих, было зато прямо опасно. Они решили поэтому сделать уступки в обе стороны: статс-секретарь Амло отправил маркизу депешу с формальным выговором, а король написал Елизавете очень любезное письмо, в котором принимал ее предложение. За этой перепиской, естественно, последовал обмен мнений относительно условий будущего мира; казалось, Версальский двор одержал блестящую дипломатическую победу, и Шетарди воспользовался этим тем более широко, что Елизавета продолжала быть к нему чрезвычайно милостива: «Маркиз Шетарди, – писал английский посланник Финч, – по-видимому, теперь главный советник, первый министр и во всех отношениях герцог Курляндский предшествующего царствования». Финч и его товарищи с вполне понятным неудовольствием смотрели на то, что французский посланник, избегая официальных приемов дипломатического корпуса, имеет «свободный вход» ко двору. В то же время в Петербурге распространился слух о браке, который должен был еще более скрепить зарождающуюся близость между французским и русским дворами. Мардефельд подглядел портрет принца Конти, «прекрасного как ангел», который маркиз Шетарди носил при себе на табакерке и часто показывал Елизавете, а Финч уверял, что государыня, склонная, как он думал, руководиться скорее велениями собственного сердца, нежели интересами своего народа, выразила желание видеть и оригинал. Даже гвардия вмешалась в это дело; саксонский резидент Пецольд рассказывает, что солдаты, явившись к Шетарди поздравить его с новым годом, «целовали его в руку и в лицо» и умоляли привезти из Франции – не принца на этот раз, впрочем, а принцессу, чтоб окрестить ее в русскую веру и выдать замуж за герцога Голштинского. И наконец сам Бестужев, бывший всегда убежденным другом австрийцев и относившийся с открытою враждою к французскому влиянию, смягчился, стал уступчив и принял, предварительно поломавшись, пенсию в пятнадцать тысяч ливров от счастливого маркиза Шетарди.
Продолжая хранить в душе глубокое недоверие к представителю «самого интриганского двора в мире», Мардефельд был в то же время ослеплен счастьем французского посла. Он стал подчеркивать, что он – представитель союзницы Франции, делал вид, что вместе с Шетарди работает над тем, чтобы не допустить ратификации англо-русского договора, заключенного при последнем регентстве, находил большое удовольствие в обществе очаровательного маркиза и с наслаждением, искренность которого менее подозрительна, пил шампанское. Он довел свою любезность к Шетарди до того, что любители позлословить стали называть его «пажом» французского посла.
Шетарди был на вершине своей славы, когда, в марте 1742 года, последовал за Елизаветой в Москву на коронацию. Но на следующий же день после их приезда в древнюю столицу России на его светлом горизонте показалась туча. Во-первых, Бестужев, одумавшись, отказался от предложенной пенсии, говоря, что «ничем не заслужил ее». И во-вторых, – словно слова Бестужева были внушены ему свыше – императрица, как показалось Шетарди, стала избегать его. Под самыми неправдоподобными предлогами, ссылаясь на то, что она «идет в баню» или что ей надо примерять платье, она отклоняла свидания, которых Шетарди добивался. Вскоре его право «свободного входа» ко двору, вызывавшее столько острой ненависти, было фактически сведено на нет. Он ломал голову, стараясь понять, что вызвало эту перемену, и что она означает, когда вице-канцлер неожиданно объявил ему, что Россия возобновляет военные действия против Швеции. И действительно, после простого предупреждения со стороны русского главнокомандующего шведскому, казаки рассыпались по неприятельской территории, все громя на своем пути, и, застигнутые врасплох, солдаты Левенгаупта не могли отразить этот неожиданный набег.
Легко представить себе, какое впечатление произвела в Версале эта вопиющая обида, нанесенная Людовику, как посреднику в переговорах между Россией и Швецией. Но когда во Франции узнали, что Шетарди, предупрежденный за неделю до нападения о намерениях русских, не счел долгом известить о них шведского генерала, это негодование против него достигло высших пределов. О чем он думал? Что он делал в Москве? Засыпанный вопросами и упреками, Шетарди сумел найти себе в оправдание только эту жалкую оговорку: «Бестужев уверил его, что возобновление военных действий не помешает переговорам, которые ведутся под покровительством Франции». В действительности же, весь отдавшись своей мечте и настойчиво добиваясь призрачной победы, начинавшей ускользать от него, французский дипломат просто забывал временами, что шведы существуют на свете.
Теперь остается объяснить, чем вызван был этот неожиданный поворот в действиях России, поставивший маркиза Шетарди в такое неприятное положение. Сделать это нетрудно. Политика Версальского двора того времени, как известно, далеко не пользуется репутацией безупречной. Многие из нападок на Людовика XV я считаю даже необоснованными или преувеличенными. Но не в данном случае. Здесь он бесспорно вел двусмысленную игру, достойную нелестной оценки Мардефельда. Он позволял своему представителю в России ухаживать за Елизаветой и разыгрывать роль честного маклера в распре этой государыни со Швецией, и в то же время всеми доступными ему средствами поддерживал шведов в явный ущерб законным требованиям России. В вероломстве Франции сомневаться невозможно; оно очевидно по условиям мира, предложенным России из Версаля, и по отношению маркиза Шетарди к переговорам, которые эти условия вызвали: России, победительнице, вменялось в обязанность заплатить за военные издержки! Елизавета будто бы обещала шведам изменить в их пользу Ништадтский договор, а войну-де они вели исключительно для того, чтобы обеспечить престол дочери Петра Великого! Между тем из Вены, из Константинополя, из Парижа и из Лондона приходили донесения, в которых русские дипломаты в один голос говорили об интригах Франции, вооружающей против России и Турцию, и Данию, чтобы дать преимущество шведам. Но, скажут мне, может быть, все русские агенты ошиблись, получая неверные сведения или просто возводили напраслину на Францию, вследствие личной к ней неприязни? К сожалению, депеша Амло к графу Кастеллану, французскому послу в Константинополе, посланная как раз в это время и перехваченная Бестужевым, показывает, что русские агенты были правы. Министр французского короля писал в этой депеше, разбившей последние сомнения Бестужева, что воцарение Елизаветы должно погубить Россию, и что Порте следует воспользоваться этим и действовать заодно со шведами!
Я уже говорил, что Бестужев был самый продажный из людей. Соблазнившись на минуту французским золотом и приняв его, он, казалось бы, должен был припрятать подальше компрометирующий документ. Но он показал его Елизавете. Почему? А потому, что в таком случае, как этот, когда жизненные интересы его страны были совершенно ясны, этот человек, не имевший в своей нечистой душе ни чувства чести, ни долга, подчинялся все-таки другой внутренней силе, которая заставляла его служить родине и не позволяла ему изменить ей. Этой силой, казалось, был насыщен самый воздух, которым тогда дышала Россия: это была та стихийная сила, которая руководит молодыми и полными жизни социальными организмами, как руководит инстинкт самосохранения отдельною особью. Тем, кто найдет, что я ввожу метафизику в свои объяснения, я могу указать на примере, как эта сила себя проявляла. Я рассказывал о любви и преданности гвардейцев к Шетарди при восшествии Елизаветы на престол. Эти солдаты ничего не знали о депешах, которыми обменивались в то время Версаль, Константинополь и Стокгольм. Но и они вскоре почуяли, что Франция затевает против России что-то недоброе. Не прошло и году, как они стали грозиться, что свернут французскому послу шею. Во время своего пребывания в Москве маркиз должны был расставлять караульных вокруг своего дома, всегда держал наготове лодку на Яузе, чтобы, в случае нападения, немедленно спастись на другой берег, и, как и Елизавета, на ложился спать до рассвет. Чтоб не вызывать этим толков, он заменил свои тонкие обеды ужинами и ввел эти ночные пиры в моду. Это была его последняя победа.
Видя охлаждение Елизаветы, он совершенно потерял голову. После нескольких неудачных попыток добиться свидания с императрицей, он подошел к ней на маскараде и стал осыпать ее резкими упреками, как это позволял себе иногда Лесток. Но если бы Елизавета была его подругой сердца и открыто изменила бы ему, то и тогда он, пожалуй, не имел бы права обратиться к ней с такой речью: «Я готов был пожертвовать для вас жизнью; я много раз рисковал сломать себе шею на службе у вас… Вы должны были бы отблагодарить меня иначе». Он объявил ей, что уедет из Петербурга, как только испросит себе отзывную грамоту, и заметим, прибавил горячо: «Через два месяца, надеюсь, вы освободитесь от меня; но когда четыре тысячи верст будут отделять меня от вашего величества, вы поймете – и это служит мне единственным утешением – что пожертвовали самым преданным вам человеком для лиц, которые обманывают вас».