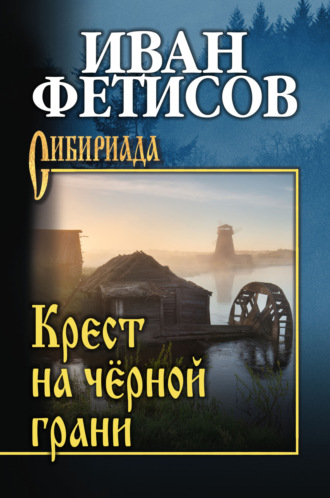
Иван Фетисов
Крест на чёрной грани
Ефим дружелюбно кивнул:
– Айда, хлопцы, к зимовью!
Вот уже и подоспела с пылавшего у зимовья костра уха из свежего нийского харюзка. Но прежде ухи, аромат которой потёк и перебил все витавшие вокруг нас запахи, Ефим Тихоныч выставил на стол графин вина.
– Повеселимся, орлы!
Не был я удивлён гостеприимством Ефима Тихоновича, чему тут удивляться, когда давно известно, что сибиряки народ с виду суровый, а душа у них тёплая, приветливая. Вот оно, явное доказательство – Ефим Тихонович. Попадись он на таёжной тропе, с лопатистой бородой, в расстёгнутой брезентовой куртке – волосатая грудь нараспашку, посмотрит своими тяжёлыми глазами да нечаянно благословит громовым басом – по-заячьи стреканёшь, чтобы побыстрее скрыться. А он с сожалением подумает: чудак человек, земляка испугался.
Прошло добрых часа два, когда я заметил, что хозяин пустынного зимовья и Комарков захмелели. Неожиданностью это не было – в графине крепкого зелья оставалось едва-едва приметно, на дне. На двоих (я прикасался к налитому стакану для виду) такой дозы было достаточно. Захмелев, Ефим Тихоныч с Комарковым завели между собой бойкий разговор.
Чтобы не мешать, я вышел на улицу и присел на толстый сукастый чурбак возле замиравшего костра.
– Т-ты, Г-генка, – наступал Ефим, – без меня ни шиша не значишь.
– Много берёте на себя, Ефим Тихоныч.
– Не много, Г-генка… Ты в моих руках, как пескарь на цепком крючке.
Куда хочу, туда и поведу.
– Бросьте пугать, Ефим Тихоныч… Я тоже кое-чем могу пригрозить.
– Но-но! Не дорос грозить-то… Не петушись! Насчёт рыболовства и охоты, что ли, намекаешь! Так это всё по закону, по лицензиям.
– Не всегда лицензии-то в законе. Кому дозволено летом губить сохатого?.. Знаю – состою нештатным охотинспектором.
– Вон куда гнёшь, варвар! Копаешь? – Ефим Тихонович отвесил кулаком по столу, судорожно задрожала посуда. – Меня не поймаешь, не та мишень, а себе худо сделаешь.
– Сам себе? – со смешинкой спросил Комарков. – Такого не будет. Я перед вами ни в чём не виноват.
– Не перед мной, так перед другими…
Разговор оборвался. Я не стал вдаваться, почему. Могло быть, что Комарков на какую-то минуту протрезвел, понял возможную свою ошибку и смолк, могло быть, что его и взаправду чем-то припугнул Ефим Тихонович – всё это было загадкой, ломать голову над нею я не стал, потихоньку встал с чурбака и пошёл к берегу.
Из-за горы хлынул ещё яркий свет предвечернего матово-мятого солнца, а речная долина уже дышала наплывающей из сумеречных падей прохладой. Где-то в отдалённом верховье тишину покачивал рокот перекатной волны.
Я выбрал оглаженный ливнями камень-валун и сел послушать убаюкивающий шум воды.
Комарков заметил моё исчезновение вскоре, как окончился спор с Ефимом Тихоновичем, и пришёл на берег с веслами. Хмель ещё держал его в плену.
– Идея, Сань, родилась. Давай катанём на моторке по Ние.
– Небезопасно?.. Вода на прибыль пошла – понесло мусор.
– Что слышу от фронтовика? Тебе ли, Сань, трусить. Эй, Ни-я! Раздвинь берега! – зычно крикнул Комарков и направился отмыкать лодку.
Я остался на берегу с тяжёлым предчувствием. Сегодня Ния доброго не сулила. Наполняясь тающими в Саянах снегами и скрывая под водою топляки – лиственничные брёвна, она была страшно опасна для лодочников. Беспокоился, пока не увидел стремительно вынырнувшую на быстрину лодку. Смелая поступь Комаркова успокоила. Научился, видно, чертяка у Ефима Тихоновича умению держаться на воде.
Лодка всё уходила дальше в верховодье.
Глава VI
Очнулся от страшного ощущения. Показалось, что стиснутый леденящей водою, брожу в отчаянии по дну реки, отыскивая выход на берег. Суюсь туда-сюда – просвета не вижу, всюду кромешная тьма. Не надеясь справиться своими силами, кличу Геннадия и Ефима Тихоновича, а слабый голос теряется близко. Но вот будто плеснулась над головою волна – подплыла лодка, расслышал знакомый голос: «Сюды, Санча, сюды. Поднимайся!» – звал Ефим Тихонович…
Пошатнулся подо мною застланный ватным матрацем топчан, в головах лежала повлажневшая подушка: накрытое одеялом и шубою, тело моё палило огнём и трясло колкой ознобистой дрожью. Топчан стоял возле окна, и в терем глядела полная луна. Свет её рыжей полосой падал на пол, захватывая край стола. Первую минуту, пока осматривался, подумалось, что лежу дома, только почему-то не на кровати. И Марина ушла куда-то. Отсутствием её не встревожился, предполагал возможную отлучку по какому-нибудь делу к соседке. Потом услышал торопливые шаги на улице. Насторожился, обвёл рассеянным взглядом жилище и понял – нахожусь опять в том же музейном зимовье.
Появилась Марина с какою-то молодой женщиной. Они прошли за перегородку в тёмный закуток, о чём-то поговорили вполголоса, женщина показалась оттуда в белом халате и застучала в открытом чемоданчике стекляшками. Зачем они тут? Неужели со мной плохо? И почему я здесь, в постели, такой беспомощный, как ребёнок? Всё похоже на фронтовую землянку. Только похоже. Так что же? В моём ещё не просветлившемся сознании начали всплывать события минувшего дня. Прикрыл глаза – и вижу расписанное узорами зимовье… Радушный дядька Ефим… Суматошный Комарков… Дрёмно лежит предвечерний берег Нии. По реке чайкой проносится моторная лодка и пропадает в туманистом верховодье…
Гулкая вода доносит встревоженный голос. Он сейчас эхом отдаётся в моей голове: «Спа-с-и-те!» Голос то вспыхивает, то загасает. Неужели Комарков попал в беду?! Наверное, перевернулась лодка. Поругал его за непослушание – вот те на, расхлёбывайся теперь! – и не сразу сообразил, чем и как помочь. Было бы самым подходящим позвать Ефима Тихоновича, он-то человек бывалый, не растеряется. Я побыстрее выкарабкался на прибрежный бугор и громко прокричал рыбаку. Не было чем-то таинственным молчание: Ефим Тихонович, как сразу же понял я, после утомительного застолья ушёл куда-нибудь в укромное местечко и лёг отдохнуть. Как ни бодрись, ни хорохорься, а годы своё берут, и вот, наверное, похрапывает старик, забыв о всех мирских заботах. Идти в зимовье было бесполезно.
С крутяка Ния проглядывалась в обе стороны на значительном расстоянии и не надо было долго засматриваться, чтобы обнаружить лодку. Она чуть виднелась, чернея просмолёнными бортами на течении, а возле неё изредка взмахивал то ли веслом, то ли рукой человек… Лодка медленно, почти незаметно, продвигалась к берегу. Хватит ли ему сил дотянуть? Поторопился сбросить одежду и нырнуть в воду. Дух перехватило от тугого ледяного обводья.
Что же случилось дальше? Я лежал и ничего больше вспомнить не мог.
На каком-то переломном моменте нить памяти оборвалась.
Женщина подошла и села на табуретку рядом со мною, полунаклонившись:
– Как самочувствие?
– Морозило… Сейчас бросило в жар.
– Помнишь, что случилось?
– Помню… Поплыл по Ние. Что дальше было – не знаю.
– Тебя нашёл в воде у берега Ефим Тихонович. Едва привёл в чувство… В голосе фельдшерицы звучало недоумение: вот мол, человеку повезло возвратиться с фронта, а тут с жизнью чуть ли не распрощался. Право на жизнь-то дорогой ценой досталось, теперь её надо беречь да беречь, быть предусмотрительным и осторожным.
Я порадовался, сознавая, что сделал то, что и следовало, и спохватился о Комаркове.
– А Геннадий?! Где он? Что с ним?
– Ничего особого. Искупался, обсох и ушёл в посёлок…
– Пошто?
– Не сказал. Шапку в охапку – и айда. Будто чего-то застрашился.
Стараюсь сохранить спокойствие, волнение приходит само собою – от напоминания об уходе Комаркова. Спрятался! Слабости своей застеснялся? От вины какой страхует себя? На фронте такой поступок не нашёл бы оправдания. Выходит, я рисковал напрасно, моя помощь Комаркову была не нужна.
Между тем фельдшерица подала выпить какого-то снадобья. Оно потекло по телу облегчительной волной. К изголовью неслышно подошла Марина, прислонила руку к моему лбу, провела от виска до виска, задумалась. Я как бы ловил её мысли и знал, о чём она думает. Конечно, Марина ругает меня за необдуманный риск на воде.
– Искала тебя весь день, – тихо сказала Марина. – Будто маленького ребёнка.
– Прости, Марина. Не нарочно получилось. Утром же думал вернуться. Ходил на опытное поле. А вишь, как вышло.
Марина посмотрела сердито:
– Уха дороже семьи тебе стала. Бутылка сманила…
– Марина!.. Я не прикасался к вину.
– От чего же тогда беда! Трезвый человек валяться на берегу не будет.
– Ты знаешь, наверно. Геннадия пришлось выручать.
– Смешно. Кто поверит, что инвалид спасал здоровяка.
– И такое в жизни бывает, Марина.
Марина в задумчивости склонила голову, я заметил, как по её щеке легко скользнула слеза.
– Что с тобой?
– Это нечаянно, Саша, просто, без всякого, ты не волнуйся, – ответила она ломким голосом, а сама следом вроде бы всхлипнула.
– Нет, с тобою что-то неладно, Маринка, ты не скрывай.
– Я всё о тебе думаю, Саша…
– О вчерашнем случае?.. Да брось ты, со мною ничего бы не случилось. В огненном пекле не сгорел, а здесь-то что? – говорил я, стараясь её успокоить. Не знаю, понимала она моё желание или нет, только видел – с лица её не сходит грустная улыбка.
– Я о другом, Саша, – не о вчерашнем дне…
– О чём же? Не мучь меня! Говори.
– Обо всём, обо всём, что было в нашей жизни, что могло быть… Я услышал её тяжёлый вздох, но не подал виду.
– Всё есть у нас, Маринка. Что надо, всё есть. Ты, я, сын. Земля большая, народ!
– А ты при всём этом счастлив, Саша?
– Ты зачем меня спрашиваешь об этом сегодня?
– Так захотела. Завтра бы могла не спросить… Только не обижайся… Я откровенно, чистосердечно.
– Я знаю, Маринка, про это. А счастлив ли я? Счастлив!
Они приблизилась, и я увидел широко открытые её глаза, казалось мне, полны были они удивления и восторга.
– Я рада за тебя, Саша, что ты такой… Если бы радость хоть чуточку заменяла счастье.
– Значит, ты не разделяешь моей участи…
– Я хочу, Саша, хочу! Только не привыкла ещё, мне трудно. – Она опять отвела лицо в сумеречно серевший угол, наверное, для того, чтобы не видел вновь навернувшейся слезы. Я не стал надоедать Маринке расспросами, отвернулся и посмотрел в небольшое окошко на улицу.
Восток густо закрасило розовой мякостью – будто разрезали напоказ огромный спелый арбуз. Под отсветом зари деревья стояли величественно-торжественные, с чуть заметно покачивающимися ветвями – жили, радовались грядущему дню.
Смотрел я в окно на ликующую утренней радостью природу и там, где-то меж смиренно молчаливых берёзок, видел Маринку в день нашей свадьбы… Когда смолкли песни, поутихла пляска – было уже за полночь, и приутомлённые гости один за другим начали покидать свадебное застолье, я шепнул ей:
– Давай на Нию – прогуляемся.
Она отозвалась с радостью, и тотчас мы вышли из присмиревшего дома, по крутой, еле приметной в ночи тропинке спустились на берег. Ния дышала прохладой, катила свои студенисто-синие воды. Сильная она была в своей природе, эта горная река – стремительно, неудержно несла и несла, будто играючи, тысячетонный груз.
На берегу было тихо, а в голове моей всё ещё теснился, не находя места, шум и гам свадебного застолья. То и дело отчётливо звучало протяжное слово: «Горько! Горрь-к-ко!» Его несколько раз повторил Иосиф Петрович. Маринка стеснительно улыбалась, розовела от моих поцелуев. В белом подвенечном платье она казалась мне в эту ночь на берегу бог весть откуда явившейся волшебницей-снегурочкой.
Я так и назвал её тогда «снегурочка ты моя» и оттого, что произнёс эти слова, замер в счастливом покое, радуясь, что она принадлежит теперь мне.
– Мы теперь будем вместе, Маринка, – сказал я вполголоса и приник своею прохладной щекою к её, всё ещё полыхавшей жаром, щеке.
– Ага, Саша, – с волнением выдохнула она.
– Всегда?
– Всегда!
– Всюду?
– Всюду!
А утром, когда мы, ещё хмельные от счастья, не встали с постели, радио принесло весть о начале войны.
На пятый день отец, Марина, Иосиф Петрович, Геннадий и многие поселковые жители провожали меня на людном перроне в армию. Дыша густым паром, подошёл поезд. Иосиф Петрович, до сей минуты сохранявший величавое спокойствие, вдруг заметался, стиснул в объятиях.
– Ну, вот, Александр, набат прозвучал… Рад, что у нашей России есть такие сыны, как ты. И я верю – вы защитите Россию. – Иосиф Петрович нехотя отстранился от меня в сторонку: пусть подойдут проститься и другие.
Марина смотрела потерянно, грустно. Поцеловала меня, и по её горячей щеке медленно, нехотя прокатилась слеза. Марина разумом понимала, куда еду, и знала – зачем. Разумом понимала, едва ли – душой.
– Ты ведь скоро вернёшься, Саша, – сказала она, когда я уже ступил на подножку вагона.
– Скоро. Как…
Состав судорожно вздрогнул и покатил на запад. Я видел, как Маринка махала мне рукою, пока не потерял её из виду.
«Скоро» обернулось тремя годами.
Как ты, Маринка, жила без меня? Как жила – известно. Как все солдатки и дети. Теперь ты знала, что недоласкавший тебя муж вернётся нескоро, но ты ждала его день ото дня терпеливее и строже. Так было до какого-то определённого времени, пока не пришло сообщение, что муж пропал без вести. Что же потом?..
Смотрю в горящие в сумеречи двумя угольками Маринкины глаза, стараюсь найти в них ответ. Не могу. Мне кажется, что в её душе происходит такое, что бессилен понять. Она не то что сторонится меня. Во взгляде её и готовность сказать, что она такая же, как и прежде, счастливая близостью ко мне, и постоянная обеспокоенность чем-то известным лишь ей одной. Мысли прерывает тихий Маринкин голос:
– Тебе дать попить, поесть что-нибудь, Александр?
– Не нужно, Маринка… Где ты чего найдёшь? Скоро пойдём домой, мне легче.
– Отдыхай, мы побудем с тобою, подождём.
Дверь в зимовье приоткрылась – мягко ступая, вошёл Ефим Тихонович. От него нанесло прохладной утренней сыростью и илистым запахом свежей рыбы.
– Поудил на зорьке, – сказал рыбак. – Не мог пропустить. Привык так вот – каждое утро, – весело поглядел на меня. – Э-ге! Поднимайся, солдат, а то пролежни станут. Уху сварим. Девки, почистите рыбу, у зимовья она, в корзине.
Терем ожил. Опершись обеими руками о кромку топчана, я поднялся, расправил плечи.
В открытую дверь зимовья донеслось пение пробудившихся птиц, щебетали они дружно, весело, с таким задором, что я стал слушать, забыв обо всём на свете.
Глава VII
Отговаривала Марина идти в партийный райком в этот день – едва отделался от болезни, по дому скопилась работа, надо поправить заборы, скот в огород через дыры лезет. То да сё – набралось поручений. Да и какая нужда идти-то, семь вёрст хлебать киселя по ухабистому просёлку? Приглашения не было.
Я настоял на своём – побывать надо, без всякого приглашения, его не принесут, райкомовцам обо мне пока ничего неизвестно. Явлюсь, покажу документы, кто такой, тогда будьте милостивы ко мне с почтением.
Упоминание о документах Марину заинтересовало: какие? Послужная армейская книжка? Удостоверения о наградах? Пожимая плечами и укоризненно покачивая головой, она сказала:
– Утаил ты от меня что-то, Саша?
– Да нечего таить-то, Марина. Какая может быть у меня от тебя тайна? Не было и не будет. В партию на фронте вступил – встать на учёт надо. По месту жительства. Вот весь и секрет.
– А сразу не сказал почему-то?
– Так… повода не было. Сейчас опоздал, что ли?
В райкоме безлюдно. Тишина, будто на фронте во время передышки. Огляделся. По узкому коридору пошёл отыскивать нужную комнату – где берут на учёт партийцев. Стараюсь ступать помягче: правая нога грохочет о голый пол, окаянная! Да что остерегаться – спящих тут нету, похоже, не только спящих – вообще пусто. Только и жизни – откуда-то из закутка, в конце затенённого коридора, еле слышен перестук пишущей машинки.
В коридор из ближней комнатушки справа вынырнула низенькая седовласая женщина. Услышала необычные шаги – вышла посмотреть, кто идёт. Спросила, кого нужно мне видеть, приветливо улыбнулась:
– Пойдёмте, пожалуйста, со мною.
В комнате, куда мы вошли, сидела ещё одна женщина, та была молода, с коротко стриженными русыми волосами. Подняла голову от письменного стола, зыркнула глазами и обратилась к пожилой:
– Домна Афиногеновна, товарищ, видно, на учёт?
– Да, Наташа. Оформите прикрепительный талон, – ответила старушка и повернулась ко мне. – С фронта?
– Оттуда…
Заполнить талон много времени не понадобилось – Наташа сделала это быстро. Женщины пожелали мне успешной работы в партячейке, и я вышел из кабинета благодарный, пусть и мимолётному, доброму напутствию.
Скорый, приятно закончившийся визит в сектор партучёта на некоторое время омрачился досадным случаем.
В Нийск я добрался благополучно с Ефимом Тихоновичем. Марина беспокоилась, что придётся «семь вёрст хлебать киселя по ухабистому просёлку», а мне повезло. Вышел за ворота – вижу: рысит по улице знакомая упряжка. В ходке – Ефим Тихоныч. Куда? В Нийск. И мне туда же! Старикан даже обрадовался попутчику да заодно и попенял за излишнюю скромность, что постеснялся сказать о поездке.
А мне, откровенно, просто не хотелось обременять ни Ефима, ни кого-либо другого своими заботами.
В Нийске договорились: Ефим вернётся на условленное место, к подъезду райкомовского здания, через часок-полтора. Отстукало уже два с лишним – Ефима всё нету. Как в воду канул. Загулял мой кучер у дружков или не сумел вовремя провернуть своё дело – добыть у какого-то знакомца щенка охотничьей породы. Мог он предположить и то, что долго задержат меня в райкоме.
Что оставалось делать? Сесть и сидеть на лавочке возле входа в райкомовское здание, смотреть, чем живёт главная городская улица, припоминать прошлое да прикидывать варианты хода домой – веру в кучера потерял безнадёжно.
Дел в Нийске больше не предвиделось. Навестить друзей-товарищей по старым адресам было, считай, затеей пустой – с одними навсегда расстался, лежат в безымянных могилах, другие – в госпиталях, лечат раны.
Когда-то, до войны, Нийск, тихонький, почти весь из деревянных построек городок на Транссибирской железнодорожной магистрали славился базаром, щедрым на привоз из окружавших его сёл и деревушек всякой всячины. Что имел работящий житель сельский, то и волок на базарную площадь. Не в диковинку было купить у добродушной старушки по сходной цене налитого жиром, как воском, увесистого гуся. Охотники до крупной покупки толпились у прясел с бычками и тёлками. Изредка попадали даже лошадки. Торговали ими обычно вечные путники – цыгане. Укатают сивку по дальним дорогам, потеряет коняга свою стать и резвость (смотреть – боль одна) – куда такого? На базар! Может, и клюнет какой любитель полезного для здоровья конского мяса (на базаре два дурака: один продаёт, другой покупает). Об огородной снеди и говорить нечего – завалены были ею прилавки.
А что теперь? Можно, и не заходя, сказать: бедна, если не пуста, нийская базарная площадь. Война… Разве покажет из-под полы спекулянтишка уже потёртую модную тряпицу и, нахвалив, запросит за неё втридорога. Так что тащиться на базар было незачем. В магазинах – тоже шаром покати, купить нечего.
И всё же хулить Нийск, как часто делают чужие, приезжие люди, я не собирался. Этот городок сам по себе примечателен. Вокруг богатые грибами, всякой ягодой и зверем леса. А Ния? Саянская посланница – быстроструйная речуга! Вот она-то и приобщила Нийск к сравнению с крупными именитыми городами, которые разделяются на две части могучими реками. Нийск тоже удостоился этой приметы. И подумалось: не появится Ефим – других попутчиков искать не стану. Выйду на берег Нии, брёвен, досок там валяется вдосталь – свяжу плотик, большой ли мне одному нужен – и сплыву вниз по течению до посёлка. Мне-то, солдату, дело привычное, а Марина удивится находчивости.
Прежде Марины удивиться пришлось самому – на крыльцо вышла знакомая седовласая женщина и окликнула:
– Товарищ… извините, на минутку вас можно?!
Смотрю на Домну Афиногеновну смущённый – меня ли кличет?
– Товарищ Егоров…
Меня, тут Егоров один. Что нужно старушке? Чем я ещё ей обязан?
– Вас просит зайти товарищ Округин. Секретарь райкома. Вот ещё новость! У меня пока к нему дела нету…
– Просил – хочет поговорить…
Домна Афиногеновна проводила меня до двери, обитой чёрным дерматином, тихо сказала:
– Сюда вот. Входите.
Секретарь райкома встретил на середине кабинета, подавая руку, задержал внимательный взгляд:
– Округин. Степан Алексеевич. Я тоже назвал себя.
– Понятно, товарищ Егоров… С фронта явился, – Округин кивнул на диван с обтёртыми подлокотниками. – Присядьте, солдат.
Не пожалел времени на встречу Округин. Редко пока, что ли, встречался с фронтовиками или же привлекло внимание моё знакомство с Сосновым? Трудно сказать, что стояло в тот момент на первом плане, – разговаривал он заинтересованно, выспросил, долго ли я работал на опытной станции, когда ушёл в армию, где воевал и за какие фронтовые дела награды. Мне лестно было от его душевного расположения.
Как-то незаметно, само собой, бывает в обоюдно заинтересованной беседе, Округин переключился на рассказ о своих делах. Скорее всего, я подвёл его к откровению сам, когда услышал о Соснове и спросил, в чём он видит его заслуги.
– Это доморощенный учёный-биолог. Наш, родной. Знаток сибирского хлеборобства, – секретарь райкома многозначительно улыбнулся. – Такие, дружище, в наших краях пока встречаются редко. За одну «таёжную» заслужил он вечную людскую благодарность.
– Её же выбраковали!
– За что выбраковывать?! Пшеница хороша. Урожайна. Не полегает. Хлебопекарные качества высоки. Надо полагать, впредь она сохранит эти достоинства, а то и улучшит…
Округин повернулся ко мне и приумолк. Я заметил, что он уловил моё недоумение и, не зная, откуда оно, спросил:
– Вам известно о «таёжной» что-либо новое?
– Нет. Только слышал, что её забраковали. Сказывал Комарков.
– Припоминаю такого. А на каком основании он так заявил?
– Неустойчива, говорит, оказалась пшеница к пыльной головне.
– Странно… Я знаю и скажу вам: пшеница размножается в производственных условиях под наблюдением председателя колхоза Ознобова. Такой уговор наш был с Сосновым. И что там выдумывает Комарков? – Округин встал и, проходя по кабинету, посмотрел на меня. Заговорил взволнованно: – Я недавно с Ознобовым смотрел пшеницу. Ни о какой головне речи не было. Разве что на делянах? Узнаю!.. И вы посмотрите! Вам, думаю, и сейчас опытное поле – не чужое.
– Своё, родное.
– И вам, и другим, – приостановился. Подумал. – Я бы, позвольте, всех учёных мира посадил на опытное поле. Не на военные полигоны, а на поля, где выращивают хлеб и картошку! Это нужно человечеству! Не снаряды и бомбы… – Округин сел, положил на стол руки, глянул вопросительно на меня, мол, как думает солдат.
Как думаю, Округин, конечно, знал. И мы, солдаты, на фронте и он здесь, в тылу, жили одной думой – для победы над фашизмом не менее, чем танки и самолёты, нужен хлеб.
Прерываю молчание.
– А Комарков про уговор с Сосновым передать «таёжную» в колхоз знает?
Округин ответил не сразу.
– Возможно. Если говорил ему Соснов. В противном случае он в это дело не посвящён. Передать «таёжную» в колхоз условились, как говорят, на свой риск и страх. Было так.
Я, будто школьник, насторожился и приготовился слушать.
– На второй год войны было дело. Враг захватил хлебные районы нашей страны. Партия поставила перед коммунистами в тылу задачу возместить потери за счёт восточных районов. Ну, как возместить? Два пути тогда избрали у себя в районе, больше не видели, не могли: увеличить кое-где пашню, вернуть к жизни местами запущенную землю да побыстрее размножить новый урожайный сорт пшеницы. Собственно, это не был ещё и сорт, пшеница лишь вырисовывалась на опытных делянах, – секретарь райкома, встав напротив, посмотрел на меня. – Вы, конечно, помните эту пшеницу, она тогда шла под номером 310. Сам Соснов о ней не упоминал, считал рано. И получилось всё как-то неожиданно, стихийно. Напросился к нему посмотреть питомник – что там? С полгода не был. Приезжаю. Учёный, вижу, не обрадовался моему появлению. Нечего, говорит, пока показывать, Степан Алексеич, нет на выходе подходящего сорта. Года через три-четыре появится.
– Поздновато, – отвечаю ему. – Время-то, вишь, какое! Фронт требует хлеба.
– Понимаю, – говорит Соснов, – а что поделаешь? Сожалею… Выше головы не прыгнешь.
Идём по питомнику, толкуем, вытираем с лиц обильный пот, день выдался жаркий, начало июля. Смотрю: перед глазами несколько делян, пшеница на них, замерял – почти по пояс! А колос – с указательный палец, весь на виду, без ости, уже чуточку зажелтел. Вот чудо!
Останавливаю Соснова, спрашиваю:
– Иосиф Петрович, что за пшеница?
– Сложный гибрид. С уклоном на засухоустойчивость.
– А урожай?
– На опытных делянах центнеров по пятьдесят обходится.
– И зерно мукомольное? Хлеб-то выпекали?
– Получается. Вкусный.
Смотрю на деляны, а вижу целые составы вагонов с зерном. Да вы что, говорю уже с укором, держите добро под пудовым замком в амбаре! А-а?
– Нельзя выносить на поля – не готова, – отвечает опять. – Пшеница до конца испытания не прошла, а это рискованно. Посудите, Степан Алексеевич, дадим мы колхозам пшеницу, а в ней какая-нибудь язвинка выплывет. Всякое может быть. Вдруг окажется нестойкой к какой-нибудь болезни. Нам, учёным, это полбеды, колхозам – сущее бедствие.
Слушаю Соснова, чувствую его душу, а сам всё-таки думаю ещё и о другом: неужели ради большого дела нельзя переступить какую-то, пусть запретную, но не преступную грань? Убеждение не подействовало. Отстаивал учёный свою линию. Усмиряю себя, чтобы не выпалить грубое, оскорбительное слово. Несговорчивость Соснова казалась капризным упрямством, а не убеждением застраховать колхозы от какой-нибудь напасти. Возможно, я ошибался в своих догадках, но тревога о хлебе не давала покоя…
Секретарь райкома отошёл от стола к сияющему светом окну на малолюдную улицу, повернулся лицом ко мне и сказал задумчиво:
– Я тогда, грешным делом, подумал: Соснов лукавит не потому, что пшеница не подоспела для передачи колхозам. Было подозрение органов госбезопасности, мол, он, отпрыск купеческого рода, не благоволит новой власти. Вот с такими противоречивыми мыслями я оставил учёного. На прощанье всё же попросил основательно подумать о нашей беседе.
Соснов недели через две появился – неожиданно и, к моему удивлению, радостный. В обыденной рабочей одежде, прямо с поля, в льняной куртке и лёгких парусиновых брюках. Загорелое, свежестью дышит его лицо, стушевались морщины. Из-под тенисто нависших бровей молодо светятся серо-зелёные глаза. Видел, пожаловал человек с приятной вестью. Сели в кресла рядом. Соснов, положив голову щекой на левую руку, смотрит на меня. Заговорил взволнованно:
– Вы торопите, Степан Алексеевич, но я не знаю глубоких мотивов. Потеряна Украина – житница наша, так это ж не навсегда. Освободим!
– Когда?
– Об этом надо спросить у Верховного главнокомандующего. Он знает.
– О-о, Иосиф Петрович, и он может ошибиться в сроках. Нынешнюю сводку Информбюро читали?
Соснов, молча кивая, глубоко вздохнул, неслышно покачнулся в кресле.
– Понимаю: неудачу под Москвой норовит восполнить захватом Сталинграда.
– Тыл должен лучше помогать фронту. Всем, чем возможно. И тут ваша пшеница, Иосиф Петрович, не на последнем счету. Давайте побыстрее её на пашню, – повторил я свою просьбу.
Помедлив, Соснов сказал:
– Придётся, видно, отпускать птицу на волю… Не без риска, – сделал паузу, по-стариковски степенно перевёл сдержавшееся дыхание, продолжил: – А если какая случайность, не оставите меня, Степан Алексеевич, с бедою наедине?
– Вот такая история, товарищ Егоров, – добродушно поглядывая на меня, сказал секретарь райкома. – Тогда-то и открылась душа учёного. Подружился я с ним. Осенью часть семян Соснов передал колхозу для размножения.
Округин, задумчиво ушедший в себя, вернулся за стол, медленно опустился в кресло, распечатал пачку «Казбека». Закурил. Я подумал: Округин прервал рассказ о Соснове неспроста, на каком-то важном моменте. Было время попрощаться и уйти, а вроде не видел повода. Что-то между нами оставалось недосказанным.
По кабинету рассыпалась звень телефона. Округина вызывали на разговор с обкомом партии. Я было собрался встать – самое время воспользоваться заминкой, благодарно кивнуть собеседнику и уйти. Округин махнул рукой – попросил остаться и, когда закончил разговор, спросил, каким транспортом я собираюсь в посёлок.
– На плотике.
– Да ну? Не шутите.
– Правда… Кучер мой где-то затерялся. Ефим Серебряков.
– Не беспокойтесь – отвезём на райкомовской эмке.
Разговор с Округиным не успокоил, только укоренил сомнение. Если «таёжная» выращивается в колхозе, то почему нет её на опытных делянах?
Чья-то невидимая рука затягивала узел всё туже и туже.
* * *
Маринка ожидала меня за накрытым обеденным столом. С нею же, возле её ног, крутился Степанка. Я его, пустившегося ко мне вприпрыжку, поймал на середине избы и поднял над головой.
– Испугался, орлёнок?
– Не, пап. Я лётчик. Полетим ещё выше.
– Да хватит уж, силы у мотора маловато.
Степанка потянулся достать ручонками потолок.
– Немного осталось. Фур-р-р…
Глядя на наше баловство, Маринка заволновалась:
– Не приучай парнишку к озорству. Потом сам не рад будешь.
– А ты, мамочка, не ругай папу. Он тебя не ругает, – деловито распорядился Степанка. – Ну, хватит, пап, спускай самолёт на землю…
Когда внимательно пригляделся к столу, то заметил непривычные для обеденного часа блюда: вместе с жареной рыбой стояли блины и кисель.
– Сегодня, Саша, полгода после смерти Иосифа Петровича. Надо помянуть. Много бед перенёс, – сказала Марина.
Я поглядел на неё, оторопело смущённый.
– Извини, не подумал… Надо… О старике забывать нельзя. Только почему говоришь – много бед перенёс?
– Ты ещё не знаешь, как он жил тут. Всё стряслось после пожара. У нас тогда сгорел склад. У Иосифа Петровича погибли чуть ли не все семена… – Маринка рассказывала, заметно волнуясь и едва сдерживая близкие слёзы. На лицо то набегала, то исчезала сумрачная тень.
– Это в самом деле?
– Я же напрасно говорить не стану, Саша. Сама пожар видела, бегала тушить, воду в вёдрах с речки носила. Да не помогли… Всё дотла взялось пеплом… Иосиф Петрович сам едва не сгорел. Схватился больной с постели. Прибежал, кинулся в сарай, а там пламя бушует. Оттащили мужики, не дали в склад пробежать. И то лицо опахнуло жаром. О-ох, Саша, что было!.. Назавтра его взяли под стражу.
– За что? – перебил я сгоряча Маринку.
– Заподозрили в поджоге… или по кляузе. Кто знает, Саша, нам ведь ничего не объяснили, – Маринка налила в стаканы тягучего кагора. Наступило грустное молчание. Оно напомнило, как мы в перерывах между боями находили короткие минуты, чтобы отдать скромную дань почести похороненным товарищам. Тогда мы, стоя у свежих могил, вынимали, если случалось, фляжки со спиртом и выпивали свои «боевые сто грамм», клялись павшим вечно хранить о них память и беспощадно уничтожать заклятого врага. Я вспомнил об этом, наверное, потому, что видел Иосифа Петровича похожим своей гражданской мужественностью на солдата…


