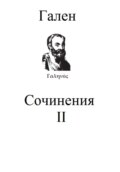Гален
Сочинения. Том 5
Но, по-моему, милейший, на это можно возразить: если бы ты послушал, что говорят те, кто всерьез занимается изучением природы физических явлений, о возникновении пламени, ты бы и сам понял, в чем именно здесь заключается различие. Впрочем, и я постараюсь немного рассказать об этом – настолько кратко, насколько может позволить столь обширная тема.
Полагаю, все не раз наблюдали, как при горении дрова расщепляются и под воздействием пламени возникает некое испарение. Воздух, оказавшись между ними, тоже поневоле нагревается. И этого теплого воздуха может быть больше или меньше. Также у разных видов пламени будут отличаться природа самого испарения и интервалы, через которые вещество поднимается вверх. Или, например, частицы горящих дров могут быть разными по размеру, по плотности, по тому, сожжены они полностью или только наполовину, по тому, сильно или слабо горят. Как видите, только по этим критериям уже есть огромная разница. А ведь и сам воздух, поскольку он впитал все это, может иметь разную температуру. Стало быть, напрашивается неизбежный вывод, что между видами пламени все-таки есть разница, и эта разница не просто велика, но и крайне разнообразна. Ведь несходство между собой разных типов смешений порождает множество различий.
6. Впрочем, на мой взгляд, невежественны не только рассуждения Лика об огне, но и его рассуждение, в котором он, заявив, что существует три критерия различения сильного жара, рассматривает каждый из них. Ведь, если верить его словам, один из них может считаться сильным с точки зрения своей сущности, другой – по усилению качества, третий же – по силе присущего ему действия.
Но поскольку растущие тела еще небольшого размера, тепло в них не может быть наибольшим по количеству. Не может быть причиной и усиление его качества, иначе у взрослых и температура была бы выше. Он допускает, что у растущих тел тепло больше по силе своего действия, но не признает, что оно у них сильнее в буквальном смысле.
Все это очень хорошо и подробно изложено в одном из сочинений самого Лика. Я не стану здесь пересказывать его полностью, но, как и в случае с предыдущим, выделю самое главное. Таким образом, перед нами останется только часть, наиболее полезная для предстоящего обсуждения.
И поскольку предыдущая тема нашего разговора исчерпана, можно наконец двинуться дальше Вы, вероятно, помните, что в самом начале были заданы одновременно два вопроса: первый – правильно ли Гиппократ применяет по отношению к теплу понятие «врожденное», второй – является ли истинным его утверждение, что у растущих тел больше врожденного тепла. И теперь, когда прочие рассуждения подошли к концу, попробуем приступить к данному вопросу и попытаемся выяснить, насколько верна мысль Гиппократа о том, что растущие тела имеют больше врожденного тепла.
Итак, вопрос о том, чем одно тепло отличается от другого, нуждается в рассмотрении сразу с трех совершенно разных точек зрения. Во-первых, одно тепло может отличаться от другого тем, что оно больше, во-вторых – тем, что теплее, а в-третьих – тем, что жар его сильнее.
И если бы кто-нибудь решил спросить нас, какое тепло отличается от всех прочих в том отношении, что оно больше, ответ был бы тем же, что и в отношении любого другого предмета. Например, какая жидкость отличается от всех остальных в том отношении, что она больше? Разумеется, единственно верный ответ – та, в которой содержится больше вещества. Именно в этом смысле мы говорим, что в полной амфоре вдвое больше жидкости, чем в той, которая наполовину пуста.
Схожим будет ответ и в случае тепла. Если бы кто-нибудь спросил нас, какое тепло отличается от всех прочих в том отношении, что оно больше, мы бы непременно ответили: то, в котором содержится больше этого вещества. Большее же тепло всегда будет стремиться перейти в более просторное место. Ничто ведь не мешает большей по количеству жидкости перетечь туда, где ее меньше. Вот и большее тепло неизменно будет соединяться с меньшим.
А на вопрос, какое тепло является более теплым по сравнению с прочими, всякий сумел бы правильно ответить. Конечно, то, у которого выше температура. При этом самого вещества в нем может быть меньше, чем в каком-либо другом.
Ведь и на вопрос, какое белое белее всего прочего, правильный ответ будет – то, в котором выше качество белого. Например, думаю, все согласятся, что совсем немного снега все равно будет белее, чем какой угодно другой предмет того же цвета.
А значит, и на вопрос, какая жидкость отличается от всех прочих тем, что она более жидкая, верным ответом будет – та, что более текуча. То есть вода в любом случае более жидкая, чем, например, смола или мед, даже если мы сравниваем всего одну каплю воды с невероятно большим количеством смолы или меда.
Вот почему на вопрос, какое тепло отличается от прочих в том отношении, что оно более теплое, правильно будет ответить – обладающее наиболее высокой температурой. А это значит, что по сравнению даже с самым маленьким огнем, все прочее, не важно, больше оно или меньше, покажется просто теплым или даже слегка тепловатым.
Но некоторые вопросы предполагают совсем иные ответы. Например, если бы кто-нибудь попытался выяснить, какое тепло отличается от прочих в том отношении, что оно более сильное, ответ уже не был бы схож с предыдущим. Ведь более сильное тепло не обязательно больше или имеет более высокую температуру, но оно непременно должно превосходить все прочее в выполнении какого-нибудь действия.
Поскольку очень многие действия совершаются благодаря теплу, сказанное можно проиллюстрировать следующим образом.
Как известно, чему-то тепло помогает распространяться, что-то – объединяет, а многое даже меняет. В наших телах оно, можно сказать, действует поочередно: сначала переваривает пищу в желудке, потом в кишках, а затем разносит результаты переработки по всему телу. При этом все лишнее выходит наружу, а переработанной пищей тепло снабжает наше тело ради его питания и роста. Следовательно, наиболее сильным будет то тепло, которое может лучше проявить себя в этом. Оно, возможно, даже будет не слишком высоким по своему качеству или большим по своему количеству. Ведь зачастую как раз крайне малое по своему количеству и низкое по температуре тепло оказывается наиболее эффективным. Я ведь уже говорил прежде, что в обеспечении внутренней деятельности организма наиболее сильным оказывается не самое интенсивное тепло, но наиболее соразмерное своим задачам. А вот при сильном увеличении температуры оно порой даже наносит вред организму. Но этому, на мой взгляд, я уже привел достаточно доказательств, когда рассуждал о сущности тепла.
Итак, вот три критерия, которые можно выявить при сопоставлении видов тепла друг с другом. Следовательно, когда Гиппократ говорит, что растущие тела имеют больше естественного тепла, логично предположить три варианта: либо Гиппократ, используя это слово в точном смысле, делает ложное утверждение, либо он неправильно использует это слово и делает ложное утверждение, либо, наконец, следует признать, что Гиппократ употребляет слово в не присущем ему значении, однако мысль его верна.
Но если он имеет в виду, что растущие тела обладают большим по количеству теплом, в том значении, в котором говорят, что в полной амфоре жидкости больше, чем в полупустой, то он, кажется, верно использует слово, мысль же его неверна: невозможно, чтобы в растущих телах тепло было больше по количеству, поскольку их масса намного меньше, чем у стариков или людей взрослых, а внутреннее тепло распространяется по всему телу.
С другой стороны, под «большим теплом» он может подразумевать и большую температуру, поскольку она же и более теплая, как если бы кто-нибудь, имея в виду, что снег белее, чем иное белое, вместо того, чтобы сказать: «снег белее» или «снег более белый», заявил, что его белизна полнее белизны иного белого. В таком случае Гиппократ дважды ошибается: в том, что неверно использует это слово, и в том, что делает ложное утверждение. Неверное использование термина состоит в том, что, имея в виду более интенсивное качество тепла, он выбирает слово, обозначающее большее количество. И по смыслу это утверждение ложно, поскольку в растущих телах тепло никак не может быть наибольшим по своему качеству, иначе бы в этот период они были бы теплее, чем в какой-либо другой. Он же утверждает, что тепло в растущих телах является наибольшим, но в том, что это не так, и тепло растущих тел не более интенсивно, чем тепло других тел, всякий может без труда убедиться. Ведь нельзя привести ни одного доказательства, что увеличение температуры тела в наибольшей мере свойственно именно растущим организм. Те же свидетельства, которые Гиппократ в сочинении «О природе человека» приводит в пользу того, что наибольшее тепло свойственно растущим телам, Лик объявляет в высшей степени нелепыми. Гиппократ, по его словам, утверждает, что человек является наиболее теплым на первых порах своей жизни, на основании того, что именно в этот период происходит наиболее активный рост. Ведь пища, утверждает он, не могла бы насильственно и вопреки естеству превращаться в нечто иное лишь благодаря собственному весу, не понуждай ее к этому нечто достаточно сильное. Но таким образом он доказывает только, что в данном случае тепло крайне сильное, а никак не высоту температуры.
А как уже было сказано выше, наиболее сильным теплом считается не наиболее интенсивное по своему качеству, но наиболее соразмерное своей задаче. Значит, и в этом случае, когда Гиппократ говорит, что именно растущие тела имеют больше врожденного тепла, он ошибается сразу в двух отношениях: в том, что неверно употребляет слово, и в том, что в целом делает ложное утверждение.
Но есть еще и третий вариант: растущие тела обладают наибольшим теплом, поскольку оно оказывается наиболее действенным. Таковым оно может быть только в результате наибольшего ей соответствия, не обязательно являясь при этом больше по количеству или выше по температуре.
На первый взгляд, в этом случае Гиппократ опять выбирает неверное определение. Ведь сама его формулировка свидетельствует о том, что наибольшее тепло и есть наиболее сильное. Но, с другой стороны, так уж ли это неверно? Если процессы роста на самом деле вызваны воздействием естественного тепла, о чем, собственно, и говорит это положение, было бы естественно предположить, что в растущих организмах такого рода тепло и будет одновременно и наиболее сильным.
По-моему, к этому случаю прекрасно подойдет еще одно его высказывание из сочинения «О природе человека»: «Неизбежно выходит, что растущее тело поневоле должно содержать в себе тепло», <…>[172] что тепло в них – наиболее сильное, о чем говорит и Лик в своем рассуждении, которое весьма затянуто, но объясняет не больше, чем сказано мною ранее.
Лик тоже считает, что Гиппократ ошибается, если его утверждение о наличии у растущих тел наибольшего тепла указывает на большее количество вещества, поскольку всем очевидно, что масса тела у младенцев меньше, чем у всех остальных. Если же Гиппократ имеет в виду значение температуры, то и это, по мнению Лика, противоречит наблюдаемым явлениям. Наконец, если Гиппократ имеет в виду наличие у тепла наиболее сильной функции, Лик признает это утверждение верным, но замечает, что само определение Гиппократ все равно использует неверно, ведь следует говорить, что тепло у растущих тел не больше, а сильнее с точки зрения своей функции.
7. Однако, мой дорогой Лик, какой угодно адвокат, выпади ему защищать Гиппократа в том, за что ты его критикуешь, мог бы доказать, что даже так он высказался не совсем скверно.
Ведь и количество тепла измеряется не просто, одинаково для тела любой массы, но, на основании того же принципа, согласно которому сам Лик в другом месте говорит, что «человек обладает самым большим головным мозгом». Он имеет в виду не просто размеры органа, но сравнивает их с размерами всего живого существа. В данном случае говорит, что головной мозг у маленького ребенка больше, чем у огромного слона. Он имеет в виду не просто размер этого органа, но предлагает составить пропорцию. Когда же мы говорим о телесном тепле, стремясь выяснить, сколько у нас врожденного тепла, то есть тепла, присутствующего в теле новорожденного, поступать следует схожим образом.
Лик использует термин «врожденное тепло», который также можно встретить в сочинениях Гиппократа. Это некое тело, изначально присущее всем новорожденным, то есть то, из чего, собственно, зарождается жизнь. И что же это может быть, кроме спермы и менструальных выделений? Мне не приходит на ум ничего третьего. Поскольку же тела новорожденных формируются из сочетания этих двух основ, можно с уверенностью предположить наличие в них скорее единичных, чем многочисленных упомянутых тел.
Почему же я с такой уверенностью говорю про столь ранний период развития плода? Достаточно вспомнить данное Гиппократом описание вида шестидневного плода, чтобы полностью убедиться, что в нем присутствует эта изначальная субстанция. И это теплое врожденное вещество можно наблюдать в теле зародыша еще до формирования всех костей, вен, артерий, хрящей или сухожилий. Ведь изначально нежная и неразвитая плоть имеет сходство со сгустком крови, который потом сменяется первоначальным обликом зародыша, а в нем, согласно описанию Гиппократа, есть нечто похожее на кровянистые сгустки, к тому же, в силу наличия семенного вещества, присутствует и белый цвет. И лишь позднее, благодаря дальнейшим изменениям, которые будут происходить постоянно, в зародыше начнет появляться некое очертание костей, хрящей, сухожилий, мышц, артерий и вен.
Как раз в это время в зародышах всегда очень много врожденного тепла, и оно будет только увеличиваться по мере развития плода. Но в то же время тепло, некогда возникшее из соединения крови и спермы, будет постепенно исчезать. При этом в организме появятся многие и разнообразные новые органы. Немыслимо ведь, чтобы что-нибудь из перечисленного оказалось для кого-нибудь врожденным. И даже если бы в мире удалось обнаружить некое существо, целиком состоящее из костей или сухожилий, врожденное тепло совершенно точно было бы в нем уничтожено.
Но подобное невозможно. Зато вполне можно допустить, что порой в организме преобладают такие части, как кости, хрящи, мышцы, сухожилия, артерии и вены. Как известно, наименее полнокровны люди, достигшие крайней старости. Они состоят чуть ли не из одних костей, сухожилий, кожи, артерий, вен, мышц и хрящей. Однако из всех органов, присущих живому существу, лишь плоть содержит в себе много крови, а ей состарившиеся люди обладают в наименьшей степени, к тому же она у них очень жесткая и малокровная. Из прочих же перечисленных частей тела ни одна не насыщена кровью.
Вот почему это врожденное тело, по самому сильному из ее качеств названную «врожденным теплом», следует измерять не просто по весу вещества, но сравнивать с количеством неврожденного и составлять пропорцию.
Например, когда нужно сказать, что в купальне слишком много пара или дыма, никто не будет иметь в виду размеры самого помещения, но станет сравнивать воздух в нём с тем, что обычно бывает в банях.
Так и с человеком: мы можем сказать, много или мало в нем врожденного тепла, лишь сравнивая его со всеми прочими, не врожденными частями нашего тела. Например, в теле зародыша все наполнено кровью. Нечто такое есть даже в его костях. Зато у пожилых людей даже плоть будет совершенно обескровлена. Поскольку же кровь – это и есть источник врожденного тепла в нашем теле, можно сделать вывод, что больше всего его именно в период роста, а меньше всего – когда мы стареем.
Со спермой дело обстоит примерно так же. В ее состав входят воздух и сывороткообразная жидкость. Последней тоже меньше всего у пожилых людей, а больше всего в растущих телах. Согласно же нашему сочинению «О семени», больше всего спермы у наиболее юных. К этому сочинению ты можешь обратиться, если не знаешь быстрее ли поддается разрушению и разложению растущее тело. Прочтя его, ты также узнаешь, что вода, тепло, оливковое масло и другие подобные жидкости полностью разлагаются в очень короткий срок, а вот все сухое или холодное, например, земля или камень, – нет. Как известно, существуют лишь два качества, в наибольшей мере способствующих разложению, – влага и теплота, еще же два – холод и сухость, – напротив, способствуют устойчивости. Потому не удивительно, что в силу избытка тепла и влаги тела младенцев крайне легко разлагаются, а старческие тела, имеющие уплотненную структуру, по причине присутствия в ней сухости и холода – нет.
Получается, мой милый Лик, тебя и самого не трудно обвинить в том, за что ты порицаешь других. Ведь, как выяснилось, ты сам не знаешь тех основ науки, которые знают те, чьим обвинителем ты выступаешь. Ведь вес тела обозначает количество простого вещества, смешенные же сущности оцениваются по соотношению составляющих их компонентов. Таким образом, например, оценивается размер головного мозга или любой другой части тела. И даже смешивая вино с водой, чтобы пить, мы точно так же говорим, что больше либо вина, либо воды, или, если нам удается достичь соразмерности в этой смеси, ни того, ни другого. И только глупец, влив котилу воды в пифос с вином, может решить, что теперь воды в нем больше, чем было в маленькой чашке, если в ней, например, всего три киафа, из них один киаф воды и два киафа вина[173].
А еще, Лик, судя по всему, не скажет, что, если в так называемый тетрафармакон, который делают из воска, жира, смолы и камеди, смешанных в равных пропорциях добавить вдвое больше смолы, чем всего остального, то в нем будет слишком много смолы. Уверен, он и здесь начнет задаваться вопросом, что же больше наполнено четырехсоставным лекарством – целый пифос или какая-нибудь маленькая тарелочка? А потом все равно скажет, что в пифосе смолы намного больше, чем в тарелочке, пусть бы даже там все четыре ингредиента смешаны в равных пропорциях, а в тарелке смолы вдвое больше.
Это крайне распространенная ошибка. Очень многие не могут отличить количество, определяемое из пропорции в смеси, и количество, определяемое простым измерением. И разве иначе поступает Лик, когда обвиняет Гиппократа?
Однако если в растущих телах тепла больше по количеству, по качеству его тоже будет больше. Ведь качества, как и силы, неотделимы от сущностей, которым они присущи. Следовательно, если кто-нибудь добавит в тетрафармакон больше смолы, всякий скажет, что в лекарстве смолы стало больше не только по количеству, но также по силе и качеству, вследствие чего в нем к тому же и увеличится доля воды.
То есть, помимо всего прочего, мои возражения Лику состоят из следующих положений: во-первых, верный ответ в примере с тетрафармаконом, что смолы в нем все-таки больше, во-вторых, то же самое будет и в случае с врожденным теплом у живых существ, и в-третьих, что всякое соединение, даже если его части смешались друг с другом не полностью, в любом случае представляет собой единую смесь.
Все совершенно ясно и с теми тремя значениями, в которых, согласно Лику, одно может быть больше другого. Возьмем, например, еще одно лекарство из числа наиболее распространенных. В его состав входит ирис, кирказон, мука из турецкого гороха и ладан, причем все они смешаны в равных пропорциях. Предположим, кто-то берет вдвое больше одного из этих компонентов и смешивает его с прочими, скажем, пусть это будет кирказон. Так вот, относительно этой смеси справедливо заметить, что кирказона в ней больше, чем всех прочих ингредиентов, как по количеству, так и по качеству, а также по силе и по действию.
Так и в случае с баней, всякий скажет, что обыкновенно в ней присутствует не только правильно смешанный воздух, но и пар с дымом. Порой может быть больше дыма, а порой – пара или свойственного баням воздуха. Обыкновенно мы просто говорим о чем-либо, что его больше по количеству, но на самом деле также возрастает качество и усиливается функция. Например, предположим, что в какой-то бане больше всего дыма. В этом случае будет справедливо также отметить, что его качество, как и действие, тоже больше, чем у всего остального.
И хотя о качестве принято говорить, что в сравнении с чем-либо оно сильнее, а не больше, слабее, а не меньше, такие слова могут употребляться по-разному, как в повседневной жизни, так и во всех науках. Но к чему нам здесь приводить другие примеры, когда есть один совершенно неоспоримый – лихорадки? Ведь говорят же о них, что одна лихорадка больше, чем другая, или что того больного лихорадит сильнее, чем этого, а какого-то сегодня больше, чем вчера.
Так что нет ничего удивительного, если говорят, что, когда какая-то субстанция преобладает, она бывает сильнее и по качеству. Например, о дыме, преобладающем в бане, будет совсем не странно заметить, что его качество и действие тоже усиливаются. Ведь все знают: дым разъедает глаза в той мере, в какой его бывает больше по количеству. А поскольку одновременно с количеством всегда увеличиваются соответствующие функции и качества, правильным будет просто сказать, что в такой бане больше всего дыма.
А теперь, напротив, предположим, что в бане меньше пара и дыма, зато количество характерного для бани воздуха в соотношении с ними очень велико – в данном случае я провожу аналогию между воздухом бани и врожденным теплом живых существ. В таком случае можно уверенно сказать, что в такой бане характерное для нее тепло крайне велико.
И разве не так же обстоит дело с жидкостями, содержащимися в телах живых существ? Ведь именно их испарение и служит источником жара, который ощущается при прикосновении. Один жар разжигается, когда преобладает кровь, другой – когда больше флегмы, третий же – в случае преобладания желтой или черной желчи.
Так вот, у детей, если составить пропорцию смешения, больше всего будет крови. Качество этого жара, возрастающее вместе с его количеством, становится лишь полезнее и благотворнее, его нельзя назвать тягостным или жалящим. Не менее полезна и его функция – способствовать тому, чтобы пищеварение не было мучительным или тягостным, как бывает, например, от флегмы. Вот об этом-то не только нам всегда следует помнить, но и тем, кто по примеру Лика, любит в блаженном забытьи болтать всякий вздор.
Пожалуй, достопочтенный наш Лик, ты и сам видишь, что именно растущим телам во всех отношениях присуще наибольшее количество естественного тепла. А значит, Гиппократ ни в чем не ошибался, зато ты, злословя, сам оказался уличен во лжи.
Все написанное тобой свидетельствует только о том, что ты не сумел постичь учения Гиппократа, поскольку не обучался у его последователей. При этом ты дерзнул открыто порицать то, в чем ничего не понимаешь.
Вдобавок, сочинив свое крайне невежественное возражение, ты в нем подверг сомнению основы всех наук и, естественно, был немедленно изобличен. Ведь ты даже не поинтересовался тем, что на эту тему многократно писал Платон, и при этом впал в противоречие с самим собой.
К тому же, своими действиями ты нанес вред юношам, которые, как, впрочем, и ты сам, не будучи приобщенными к учению о логике, еще не способны понять, как отличать правдивые утверждения от ложных.
Но главное, помимо всего прочего, ты показал себя до крайности вздорным и дерзким, когда взялся толковать Гиппократа, прежде даже не изучив хорошенько, что он, собственно, говорит.